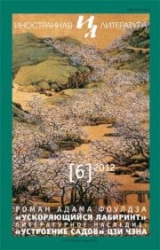
Текст книги "Ускоряющийся лабиринт"
Автор книги: Адам Фоулдз
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Джон подошел к доктору, который казался необыкновенно оживленным: без шляпы и пальто, он приплясывал на месте, дуя на озябшие ладони, то и дело улыбаясь. А что если у него новости, о которых Джон только и мечтал, презирая себя за слабость, но будучи не в силах отказаться от мучительной надежды.
– Доброе утро, доктор!
– О, да. В самом деле. Чудесное утро, – и Аллен театрально втянул трепещущими расширенными ноздрями воздух, словно вкушая сладостную ледяную ясность. Он чувствовал себя бодрым и окрыленным.
– У вас для меня ничего нет?
– Простите?
– Я хочу сказать, чего-нибудь для меня от… ну, знаете…
– Ах, да. Ах, да, на самом деле есть. Как раз вчера пришло письмо, но мы с вами не виделись. Вот оно, – Аллен сунул руку в карман пиджака. – Только не знаю от кого.
Джон взял у него письмо. Обратного адреса нет.
– Вам не холодно? – спросил он, вновь подняв глаза. Доктор спрятал руки под мышками и притоптывал ногами.
– Да, похоже на то. А давайте пойдем ко мне, выпьем чаю?
Войдя в дом, доктор Аллен сразу направился на кухню.
Джон потрусил за ним. Шуганув повариху и девочек, что были у нее на побегушках, Аллен сам взялся готовить чай. Не переставая напевать себе под нос, он открыл чайницу и достал с полки чашки. Джон сел за стол, вцепившись обеими руками в письмо, и уставился на девочек, сгрудившихся у стены и болтавших без умолку. Ему захотелось дать им знать, что и он – один из них. Он попытался показать это своей позой, не двигаясь с места, изображая из себя этакий неловко увязанный человеческий сверток, который принесли сюда, да тут же и забыли. Но девочки никак не хотели встречаться с ним взглядом. Им до него не было дела. В прежние времена все было иначе – в те поры, когда он, страшно смущаясь, неуклюже шагал в грубых, подбитых гвоздями башмаках по полированным паркетам своих знатных покровителей, этакий не слишком-то похожий на гения тип, которого приглашали наугад, чтобы побеседовать да поглядеть, а потом отсылали на ту половину дома, где жили слуги, чтобы его накормили обедом, прежде чем он отправится обратно к себе в деревню. И он жевал хлеб с ветчиной и чувствовал, как расслабляются мышцы лица, уставшие изображать улыбку, и забывался, прислушиваясь к разговору прислуги. Но теперь-то он больше не был крестьянином, не был и поэтом. Тот, кого они перед собой видели – если вообще видели, – был одним из здешних больных, попросту сумасшедшим.
Перестав обращать на них внимание, он распечатал письмо.
Глубокоуважаемый поэт, мистер Джон Клэр!
Я, как и Вы, простой человек, во всяком случае, если взглянуть со стороны. Надеюсь, Вы простите мне ту дерзость, с которой я к Вам обращаюсь. Примите мои уверения, что я берусь за перо не без смятения.
Я простой трудяга из графства Дорсет. Работаю батраком, как работали и вы, если я чего не путаю, но этим моя история не исчерпывается. Вот уже много лет я питаю сильную тягу к высокому искусству поэзии и приношу жертвы на алтарь Музам. Добрые люди говорили мне, что мои сочинения не лишены достоинств, и что я небесталанен…
Ничего. Ни тебе поддержки, ни отклика из литературного мира, повернувшегося к нему спиной, списавшего его со счетов и бросившего умирать в глуши. Джон пробежал глазами привычную просьбу о помощи и, не будет ли он столь любезен, взглянуть «грозным взором» на прилагающиеся сочинения? Может быть, кто-нибудь из его друзей, сочувственно относящихся к сельской поэзии, захочет опубликовать одно из них?
– Чай, – сказал доктор Аллен, протягивая Джону чашку.
Джон скомкал письмо и засунул в карман – позже посмотрит, как оно почернеет и скрутится в огне. Тем временем доктор, не удосужившись присесть, быстро выхлебал свой чай.
– А может, есть какие-нибудь новости? – спросил Джон. – По поводу тех моих стихов, которые вы отправляли своим друзьям.
– А. О, да. Да, простите. Совсем вылетело из головы. – Джон увидел, как доктор с трудом согнал с лица непрерывно светившуюся там улыбку, и понял, что ничего хорошего не услышит. – Да, боюсь, вы были правы в своем предположении касательно того, что ваш род гения вышел из моды. То, что в таких вопросах оглядываются на моду, безусловно, заслуживает всяческого осуждения, однако, мне представляется, бывают такие периоды…
Приподнятое настроение доктора перетекло в рассуждения на тему новейших тенденций в сфере литературных вкусов, а Джон, для которого чашка чаю превратилась теперь в обузу, принялся громко составлять в уме ответ Э. Хиггинсу, эсквайру, где было бы сказано все, что тому следовало знать.
…ни при каких обстоятельствах не возлагайте даже малейших надежд… изменчивы и капризны… держитесь подальше от своих собратьев… отняли у меня душевный покой, родину, жен…
Когда Маргарет проснулась, было еще темно. Прежде чем пошевелиться, она некоторое время лежала спокойно, широко раскрыв сухие глаза, удерживая пальцами верхний край одеяла и всматриваясь в смутные серые очертания комнаты.
Мир – комната, заполненная громоздкой мебелью. А потом вам разрешают из неё выйти.
Она ощутила, как внутри нее так же спокойно лежит Безмолвный Страж. Так она называла его – того, кто следил за всем происходящим, хотел, чтобы она продолжала жить, и порой давал ей об этом знать, но ничем не мог помочь. Он лишь наблюдал, наблюдал откуда-то из глубины ее глаз. Следил за влажными глазами ее мужа, глядящими на нее сверху вниз, следил, как муж заставлял ее есть тухлое мясо, смрадное, отливающее синим и зеленым, этими радужными оттенками распада. Следил и запоминал. Как муж запирал ее в уборной. Как она пристрастилась проводить дни в приходской церкви, полюбив тамошний покой и защищенность.
Она заставила себя подняться с постели и выпустила тонкую струйку в ночной горшок. Подошла к тазу с водой и проломила хрупкую корочку льда. Распустила завязки на шее и стянула через голову ночную рубашку. И застыла обнаженная, не видя во мраке своего тела – тени, вознесшейся над полом. Потом она зачерпнула ледяной воды и плеснула на голову и шею – будто полоснула кожу бритвой. Маргарет любила зиму, любила чистоту ее наказаний, чистоту бодрствования перед отходом ко сну, при свете одной лишь свечи. Но рядом всегда был муж, он не отставал от нее, заполнял собою сияющую пустоту, и к тому же терпеть не мог холода: сквернословя и кляня все на свете, он все пуще раздувал огонь, играл в карты, пьянствовал, обжирался, хохотал красным ртом, а по ночам, распалившись, жалил и жалил ее своим осиным жалом.
Она вытерла насухо гладкую онемевшую кожу. Снова натянула ночную рубашку. Держась за край стола, опустилась на колени помолиться. На мутно-серой стене явственно проступал черным маленький деревянный крест. Она вперила взор прямо в него. И начала.
Мэтью Аллен поднял голову и вгляделся в утро. Вот они, деревья, прямо за голубой лужайкой. Тонкие ветки сливаются, образуя коричневатую дымку. Он вновь опустил взгляд на листок с расчетами.
В сумме получалось вполне прилично, и это при весьма умеренном количестве предполагаемых заказов. Он улыбнулся. Вновь поднял глаза и увидел, как по лужайке тихо скользнула лисица, почти касаясь низким брюхом земли и ведя по ней острым носом. До чего она легка в движениях, до чего быстра, словно стрела, устремленная в цель.
Джон проснулся в ярости, прекрасно отдавая себе отчет в том, где он. Скатился с постели, с глухим стуком опустив босые ноги на половицу. Справил малую нужду в ночной горшок, прочистил горло и сплюнул туда же, после чего задвинул ногой горшок обратно под кровать, ощутив пальцами тепло фарфора.
Он обтер лицо холодной водой из кувшина, гоня прочь сон, все еще опутывавший его мысли. Девушка с темными непокорными волосами. Она хотела раскрыть ему тайну, которую он бы понял. Глаза у нее сияли. Даже его мужское достоинство встало торчком, когда она приблизила к его уху влажные губы и принялась шептать слова, вспомнить которые он не мог, но которые тихим эхом звенели у него в душе, не отпуская, полнясь смыслом. Что-то о месте, которое она могла бы ему показать, если бы он пошел за ней. Ему так хотелось узнать, о чем она говорит, что он даже проснулся: напряженный, припухший со сна, изо всех сил стремясь вслед за ней. Теперь он раскрыл глаза, словно специально для того, чтобы не видеть заветного темного блеска ее глаз и не чувствовать минутного прикосновения ее волос. Смочив голову, он быстро оделся и прямо в одежде уселся на постель. Что бы такое сделать? Куда бы пойти? Прочь отсюда. Этого будет достаточно. В конце концов, у него есть ключ. Подождать в комнате, пока кончится завтрак, выклянчить у девушек на кухне хлеба и уйти куда глаза глядят.
Уильям Стокдейл заканчивал чистить ботинки, растягивая двумя руками лоскуток и споро водя им по носку ботинка туда-обратно, словно доил корову. Теперь другую ногу. А теперь можно и натянуть штрипки, попавшие точно между каблуком и подошвой.
Он свернул лоскуток и положил обратно в ящик.
Развел руки в стороны, сделал поворот торсом влево-вправо, влево-вправо. Словно ветряная мельница, помахал руками, чтобы наполнить их кровью, а когда закончил, руки и впрямь стали тяжелее и ухватистее.
Оправил куртку, одернул рукава. Не в пример больным, он одевался подчеркнуто аккуратно, застегивался на все пуговицы, не позволяя себе никаких вольностей.
Подхватив увесистую связку ключей, он вышел. И запер за собой дверь.
Ханна сидела перед зеркалом и расчесывала волосы. Они ниспадали по обе стороны от тонкого пробора – белой полоски кожи, казавшейся девушке слишком широкой из-за того, что волосы у нее были прискорбно тонкие. Она водила по ним расческой от макушки до кончиков, пятьдесят раз с каждой стороны, пока волосы не стали шелковистыми и блестящими, и перестала лишь тогда, когда они начали взлетать вслед за расческой. И тогда свет, подобно венцу, окружил ее голову ровным сиянием.
Ловкими и быстрыми движениями она разделила волосы на пряди и заплела две косички, начинавшиеся от висков. Оставив их на время в покое, зачесала остальные волосы за уши и заколола, а потом свила волосы, спускавшиеся по спине, в жгут и приколола его к макушке. После чего свернула две заплетенные косички колечками и заколола, обрамив ими хрупкие, точеные белые ушки.
Девушка оглядела себя с тем внимательным выражением, которое всегда придавала своему лицу перед зеркалами: губы крепко сжаты и опущены, глаза умильно глядят вверх, лицо бездвижно. Повернула застывшее лицо в одну сторону, потом в другую. Неплохо. Едва ли можно желать лучшего. Сегодня она постарается, чтобы хоть что-нибудь произошло. Ситуация вполне прозрачна: вот он, вот она. Дело за малым: начать.
Джон услышал, как ворота захлопнулись, но замок тут же щелкнул вновь, и за спиной раздались быстрые шаги. Он сошел с тропы и спрятался за толстым, влажным стволом. Жуя ломоть хлеба, который он никак не мог смочить слюной, чтобы наконец проглотить, он увидел угловатую фигуру Уильяма Стокдейла, направлявшегося куда-то по своим делам: должно быть, в Лепардз-Хилл-Лодж, то легендарное место, хуже которого не бывает. Джон прислонился к стволу. Под его подошвой мягко хрустнула сырая ветка. Уильям Стокдейл остановился. Джон наклонил голову и прижался к холодной и скользкой древесной коре. И вновь кусочек той же самой ветки сломался у него под каблуком. Он услышал, как Уильям Стокдейл возвращается. Не иначе как приметил Джона: послышался стремительный шорох шагов по листьям, и тотчас же Джон ощутил удар по плечу. Стокдейл вытащил его из-за дерева, чуть приподняв, словно котенка за шкирку, и изо всех сил дернул за пальто.
– У меня есть ключ, – сказал Джон. – У меня есть ключ.
– Чего ж ты прячешься, дурак?
– Глядите. Глядите, – вытащив из кармана ключ на измочаленной тесемке, Джон помахал им прямо перед глазами Стокдейла.
– Так чего ж ты прячешься? – Уильям Стокдейл выпустил его и отряхнул свой пиджак.
– Не знаю.
– Я уж думал, ты тут сбежать пытаешься.
– Нет.
– Ну, тогда ладно. Значится, просто валяешь дурака. – И он грубо потрепал Джона по щеке.
Стокдейл ушел, а Джон наклонился, чтобы поднять оброненный хлеб, стряхнул с него налипшую землю и ошметки листьев и откусил. Он пыхтел и ругался, но хлеб все равно застревал в горле.
За долгие часы прогулки он не раз проигрывал в уме происшествие, все сильнее распаляясь. Надо было показать этому Стокдейлу, где раки зимуют, уж кто-кто, а боксер Джон мог бы его проучить. Вновь и вновь Стокдейл с дрожью отступал, виноватый и потрясенный, вновь и вновь ощупывал свое лицо и, моргая, разглядывал кровь на кончиках пальцев. Джон был само великодушие, считая, что раз мерзавец получил по заслугам, об этом можно забыть раз и навсегда. А если Джону казалось, что урок не слишком хорошо усвоен, он продолжал бить до тех пор, пока его противник не падал поверженный в траву, пуская кровавые пузыри.
Альфред кружил по льду, и ветви окружавших пруд деревьев кружились вместе с ним. Его плащ развевался на ветру так, что казалось, будто у него выросли крылья. Он катился, перенося вес то на одну, то на другую ногу, и коньки несли его по льду с тонким звуком точильного камня. Лишь в движении ему удавалось хоть немного разогнать свою густую кровь, в полной мере прочувствовать этот пронзительный зимний день. Выписывая загогулины на льду, исчерчивая узорами замерзший пруд, он почти переставал думать об Артуре[9]9
Артур Генри Хэллем (1811–1833) – английский поэт. Известен прежде всего благодаря стихотворению Теннисона «Памяти А. Г. X.». Путешествуя по Европе с отцом, внезапно умер в Вене от кровоизлияния в мозг.
[Закрыть], о своем милом покойном друге, мысли о котором иначе его не оставляли.
Очертив круг, он оказался на противоположной стороне пруда, и там его вспугнула девичья фигурка, темным силуэтом выступившая на фоне неба цвета потускневшего серебра. Замедлив движение, он подъехал к ней. Она спокойно стояла на берегу, возвышаясь над ним.
– Добрый день? – вопросительно произнес он.
Темные глаза, словно отполированные ветром, сияли на его землисто-желтом лице.
– Добрый день, – откликнулась Ханна.
– Чем могу служить?
– Я пришла…
– Вы дочка Аллена, так ведь? Белокурая Как-вас-там…
– …вас навестить. Я пришла вас навестить. В случае, если…
– Ясно. Вас просили что-нибудь мне передать?
– Нет. Я подумала, что вам может быть одиноко…
– Ясно. Вы пришли меня навестить.
– Верно.
– А зовут вас…
– Ханна.
– Ханна. Ну, конечно же.
Движимый любопытством, он неосторожно наклонился вперед, чтобы лучше разглядеть ее лицо. И заметил, что ее бледные губы дрожат, когда она, вдохнув морозный воздух, едва заметно выдыхает.
– Вы замерзли, – сказал он. – Пойдемте в дом?
Она кивнула.
– Минуту, – он отъехал туда, где легче было выбраться со льда. Она пошла вокруг пруда ему навстречу и молча протянула руку, чтобы помочь подняться на берег, но он не увидел и вскарабкался сам, цепляясь за траву. Вместе они двинулись в сторону дома, Теннисон ковылял, возвышаясь над Ханной, молча размышлявшей, отчего бы ему не отстегнуть коньки и не идти в ботинках, что было бы несравненно удобнее. Она с гордостью шествовала рядом с ним, подчиняя свой шаг его медленной и осторожной поступи, и лишь самую малость досадовала на острый сладковатый запах пота, исходивший от его одежды. У порога он наконец снял коньки, наклонившись так низко, что она смогла разглядеть его макушку. Густые волосы, поистине густые, и каждый толщины необычайной, ниспадали крупными волнами. В них застрял обрывок листика. Ей захотелось ухватить его и вытащить, но, конечно же, она не посмела, как не посмела ничего сказать.
Теннисон открыл дверь и провел ее в дом. Войдя, она тотчас же принялась поедать глазами обстановку, в надежде увидеть хоть что-нибудь, что говорило бы о необыкновенной жизни хозяина, но увидела лишь самую обыкновенную прихожую: обои, столик, зеркало. Однако на оленьих рогах висели его пальто и та самая широкополая черная шляпа. Он скинул плащ и повесил туда же. А потом, проявляя должную почтительность, нежными пальцами бесстрашно прикоснулся к ее плечам и, сняв с нее пальто, повесил рядом со своими. «Благодарю», – прошептала она.
Увы, его джентльменской учтивости хватило ненадолго: не удосужась пропустить ее вперед, он устремился внутрь дома с такой скоростью, что ей пришлось бежать за ним чуть ли не вприпрыжку. Однако, оказавшись в комнате, где все говорило о том, что здесь живет поэт, она почувствовала себя с лихвой вознагражденной. Он склонился к камину, чтобы добавить дров, после чего ему пришлось вытереть испачканные сажей и золой ладони о штаны, а она тем временем изучала дивный творческий беспорядок. Груды книг и бумаг, продавленная тахта и захламленный стол, обсыпанные пеплом трубки с короткими чубуками и натыканные повсюду обожженные лучины – все говорило о том, что это его кабинет, куда он собрал кучу всего, не думая о том, какое это производит впечатление. И вот теперь он, расталкивая подушки, пробирался к середине своего обиталища, которое словно бы излучал из себя. Комната как будто изливалась из него, и побывать в ней в его отсутствие было бы равносильно тому, чтобы подслушать его мысли или выведать что-нибудь о нем у его друзей. А на столе, в толстой распахнутой тетради, больше всего похожей на книгу, куда мясник записывает долги… вдруг там новое стихотворение? Строки определенно обрываются на середине страницы. Его почерк. Притягательная, словно магнит, страница поплыла перед ее глазами. Там жили стихи. Ах, если бы ей только довелось пересечь комнату и прочесть эти только что написанные слова, которых никто пока не видел, кроме нее и поэта, выбравшего их из множества других слов. Как бы они пели в ее душе! Какие же чувства он туда вложил?
– Садитесь же, – сказал он, – а я велю подать чаю.
Позвонив в колокольчик, он опустился на тахту напротив кресла, где примостилась она. Вытянув и скрестив длинные ноги, он запустил пальцы в волосы, решительно взъерошил их, но так и не вычесал обрывка листика, который она приметила еще в прихожей.
– Итак, вы дочь доктора Аллена, – повторил он.
– Да, так и есть.
Дверь отворилась. Вошла служанка. Пожилая женщина, седая, с огрубевшими руками и красными прожилками на щеках – следами холодной погоды и возни у кухонного очага, она мельком глянула на них и присела в реверансе.
– А вот и миссис Йейтс.
Миссис Йейтс неспешно кивнула, обведя глазами хозяина и его юную гостью. Ханна пристыженно уткнулась взглядом в колени и натянула пониже юбку быстрым, обыденным движением, пытаясь создать видимость безразличного спокойствия. Она не подумала о том, что их могут увидеть вместе.
– Да, видите, мы тут сегодня решили отдохнуть. Так что принесите нам, пожалуйста, чаю. Ну, и чего там к нему положено. И побольше того, чего положено, будьте уж так любезны. Катание на коньках, знаете ли, разжигает аппетит.
– Слушаюсь, сэр.
Миссис Йейтс, пятясь, вышла из комнаты. Теннисон улыбнулся Ханне. Казалось, он хочет что-то сказать. Ханна подняла голову, посильнее вытянув шею, чтобы та выглядела длинной, как у Аннабеллы, и застыла в ожидании. Но Теннисон ничего не сказал. Теперь его внимание отвлек камин. К счастью, Ханна заготовила несколько вопросов.
– Как вам нравится в наших краях, мистер Теннисон?
– О, я очень доволен, – он вновь взглянул на нее. – Да, здесь у вас весьма мило.
Ханна покраснела.
– А вы уже были в Копт-Холле? – спросила она.
– Нет. Должен признать, не был.
– Кажется, это там впервые поставили «Сон в летнюю ночь», специально к свадьбе. Это прелестный дом в лесу. Вам отсюда ничего не стоит дойти…
При этих словах он вскочил и склонился к ней, широко распахнув глаза. Она почувствовала, как его взгляд пронизывает ее насквозь, отдаваясь в позвоночнике.
– Так что же, все они были здесь? И Гермия, и Лизандр, и все остальные, все блуждали в этом лесу? И Пэк являлся им в ветвях? Как хорошо, что вы мне об этом сказали!
С пустым желудком, ощущая легкость во всем своем хрупком теле, Маргарет стояла посреди леса, глядела на голые, тянущиеся во все стороны ветви и думала о висящем на них теле Христовом, о пяти Его ранах. Тёрн, сродни тому терну, что растет здесь, стягивал Его голову тугим венцом, и голова полнилась болью. Раны от гвоздей, вбитых в Его бедную невинную плоть ударами Греха. Они удерживали его. На них он висел. Неожиданно эта мысль стала расти и шириться. Так вот как он висел в этом мире: Его раны, Его боль – они-то и соединяли Его с миром. И тут она ощутила то же самое и в себе: что именно в точках ее соприкосновения с миром рождается боль, что душа ее пригвождена к плоти и страдает, задыхаясь от несвободы. Она крепко сцепила пальцы, подчиняясь силе этой мысли. И со свистом задышала сквозь сжатые зубы, полнясь благодарностью за это откровение и страстно желая новых.
Абигайль возилась на коврике у камина со своими куклами, вполуха слушая разговор родителей. От жара ее левая щека раскраснелась, кожа словно бы натянулась, а одежда высохла до хруста. Если не двигаться, можно было ощутить где-то внутри головы белое сияние. Она знала, что, когда сидишь у камина, остальная комната кажется темной и холодной, будто стылая вода, и ей это нравилось. Куклы глядели друг на друга глазами-бусинами, которые мерцали в свете камина, когда девочка наклоняла их друг к другу и вела за них беседу: «Да что ты говоришь, Анжелика…»
– Кроме всего прочего, вполне возможно, что в итоге я смогу вернуться к своим лекциям, – произнес Мэтью.
– Возможно, – Элиза, проходя мимо, погладила мужа по макушке, после чего присела рядом с ним, – если все пойдет так, как ты задумал.
– Если! – повторил он. – Если! – Элиза зачастую не разделяла его энтузиазма, пока он на деле не доказывал, что был прав.
– Ну, – поддразнивая мужа, медленно проговорила она, – как знать.
– Очень даже понятно как! Во-первых, здесь у нас уже есть несколько работающих промышленных компаний, откуда следует, что это вполне осуществимо. Во-вторых, моя схема обладает целым рядом преимуществ перед тем, как работают они, а значит, в ближайшем будущем я смогу вытеснить их с рынка. Так что не сомневайся. И уверяю тебя, – продолжил он, погрозив ей пальцем, – мои выступления в скором времени будут востребованы по всей стране.
– А что у тебя за схема? – спросил Фултон, который только что вошел в комнату с книгой в руке.
– Не беспокойся, сынок. Со временем ты все узнаешь. Ведь не исключено, что все это весьма ощутимо повлияет на твое будущее. И на твое состояние.
– Так почему бы тебе не рассказать мне прямо сейчас? Зачем держать меня в неведении? – Фултон незаметно сжал в карманах кулаки.
– Нет-нет, пусть некоторое время побудет втайне. Для этой личинки еще не настало время вылупиться из кокона. Скажем, пока что речь идет… ну, о некотором механизме.
– О механизме? Машине?
Абигайль, которая теперь уже внимательно прислушивалась к происходящему, решила вставить только что услышанное в разговор между куклами: «Машина для изготовления пирожных, – произнесла она, – только, чур, никому! Это секрет».
– Абигайль, не сиди так близко к огню. Ты же сгоришь дотла! – обернувшись, сказала Элиза.
Абигайль в ужасе подняла глаза и тотчас же отползла подальше.
– Да нет, не на самом деле сгоришь, – заверила ее Элиза.
– Это просто фигура речи, – объяснил отец.
Взрослые с любовью улыбнулись, в том числе и Фултон, который уже почти успокоился и чувствовал себя причастным к их тайне, в чем бы она ни заключалась.
Две лошади в попонах стояли друг за другом, на их длинных ресницах намерз иней. Они с трудом поморгали выпуклыми, опущенными долу глазами, когда Джон, проходя мимо, погладил их по спинам и направился к затихшей стоянке.
Вокруг желтого костерка, укутав спины толстыми одеялами, склоняясь к огню и неотрывно глядя в него, сидели люди.
– Иезекииль? – окликнул Джон.
– Ты меня нашел, – ответил, обернувшись, один из сидевших у костра. – Джон Клэр, не иначе. Ты снова с нами.
– Да, нашел.
– Должен тебя огорчить, еды теперь стало мало. Ты голоден?
Джон хотел было сказать, что нет, но минутное колебание выдало его.
– Так значит, голоден? У нас есть немного мяса. Сейчас достану сковороду. Позже мы принесем еще, маленьких сладеньких hotchiwitchis. Самое время для них сейчас. Но для начала надо немного укрепить дух в твоем теле, а ну как не дождешься?
Иезекииль вытащил откуда-то жирную черную сковороду и, швырнув на огонь, двигал ее до тех пор, пока она прочно не угнездилась на дровах. Джон присел на полено рядом с одним из мужчин, улыбаясь всем, чтобы показать свое дружелюбие, и протягивая белые руки к потрескивающему костерку. Иезекииль встал и, удерживая на поясе одеяло, мелкими шажками двинулся к кибитке, откуда принес кусок оленины, уже протухшей и вовсю смердевшей. Достав из кармана нож, он откромсал несколько тонких ломтиков белесого мяса и бросил на сковородку, где они тотчас же зашипели и изогнулись. Когда мясо зажарилось до черноты, Джону предложили его отведать, вытащив из сковороды пальцами. На вкус мясо мало отличалось от угля, однако оказалось вполне съедобным и горячим. Джон съел всё без остатка и облизал пальцы.
– Холодает, этак и околеть недолго, – сказал Иезекииль.
Джон вытер рот тыльной стороной ладони.
– Давайте поборемся, – предложил он, все еще не растеряв воинственности после встречи со Стокдейлом. – Побоксируем немного. А ну, есть тут кто-нибудь, кто дрался на ринге? – Он поднялся и несколько раз ударил воздух полусжатыми кулаками. – Пусть выходит на бой! Кто тут самый смелый?
Мужчины рассмеялись.
– Есть у нас такой человек, – сказал Иезекииль. – Разъезжает по ярмаркам. Зарабатывает деньги своей чугунной башкой.
– Весь ум из нее вышибли, – добавил другой.
– Иеремия, – пояснил третий. – Дерется как сам Цыганский Барон.
– Сейчас проверим, быстра ли твоя рука, Джон Клэр, – сказал, вставая, Иезекииль. Подняв плечи до самых ушей, он выставил вперед два крепких кулака.
– Вот и славно, – ответил Джон, выдохнув облачко пара и нанося прямо сквозь него правый хук.
– Вот это запах! – сказала Ханна, улыбаясь сквозь редкие жгучие слезы. – Вы курите какой-то особый сорт табака?
– Здесь главное, – ответил Теннисон, отрывая трубку от нижней губы, – загодя как следует его просушить. Тогда вам обеспечен полноценный аромат.
Чай допили, Теннисон закурил, его неопрятная комната наполнилась сумеречным вечерним светом, и поддерживать разговор было все сложнее. Ханна чувствовала себя одиноко в своем кресле. Теннисон выдыхал дым в невероятных количествах – такого густого и едкого она еще в жизни не встречала. От этого дыма у нее даже засвербило в горле, а хозяин сидел себе спокойно в самом его средоточии, задумчиво глядя в пространство. Унесся от нее мыслями за тридевять земель. Молчание сгущалось, и нарушить его становилось все труднее и труднее. Когда она представляла себе эту встречу, ей думалось, что разговор к этому времени должен будет превратиться в музыку, в дуэт, но на деле их голоса звучали редко и разобщенно. Наконец ей пришел в голову вопрос, который наверняка его расшевелит и заставит обратить на нее внимание. Во всяком случае, он поймет, какая она дерзкая и прогрессивная.
– Позвольте вас спросить, а что вы думаете о поэзии лорда Байрона?
Он и в самом деле поднял брови, выпустив из ноздрей две длинные струйки дыма. И ответил с дивной откровенностью.
– Это настоящее явление. Его стихи, так сказать… – Тут он, видимо, решил не вдаваться в критические изыскания. Должно быть, счел, что ей не понять. Однако то, о чем он поведал, порадовало ее ничуть не меньше. – Помню, как его не стало. Я был тогда подростком. И ушел в лес, сокрушенный новостью. Я думал о том, чего он не написал, о его даре, внутреннем свете, что навеки угас, сгинул во тьме. Печаль и отчаяние овладели мною. Я начертал его имя на скале, на песчанике. Полагаю, его до сих можно там разглядеть.
Иезекииль вернулся с мешком через плечо в сопровождении двух пыхтящих терьеров. Когда он вытряхнул содержимое мешка на землю, собаки прижались к его щиколоткам. Из мешка с глухим Стуком вывалились три ежа. Иезекииль поднял одного из них, натянув на ладонь рукав.
– Говорил же я тебе, – сказал он. – Самое для них время. Смотри, какие жирненькие, всегда к зиме жиреют. Ну вот, пусть успокоятся.
Он опустил ежа на землю рядом с двумя другими и застыл в ожидании, нашептывая: «Давайте, дорогие мои, не бойтесь». В скором времени колючие шарики развернулись, выпростав длинные лапы и робко высунув сопящие мордочки. Коротком сильным ударом Иезекииль оглушил одного из ежей. Затем воткнул нож у загривка, надрезал шею и с усилием провел лезвие вдоль хребта; перевернул и вспорол брюшко. Убрав нож в карман, он потянул за голову и выдернул разом и хребет, и потроха. Мордочка ежа бессмысленно скалилась, под ней болтались синеющие вены. На выброшенные останки тут же накинулись собаки. Тушку он отдал Юдифи, чтобы та закатала ее в глину, и принялся за следующего ежа. Юдифь превратила ежа в гладкий глиняный шар и засунула в костер.
– Хорошо, что тут полно глины. Хорошая глина: липкая, желтая.
– А нортгемптонширские цыгане, – сказал Джон, – выкапывают под костром ямку и зарывают их туда.
– Да ну. У них, конечно, свои правила, но, по-моему, они зря тратят время. Так-то оно куда лучше.
Часом позже шары с готовым мясом выкатили из костра палкой, разбили и вынули оттуда гладких дымящихся печеных ежей. Колючки застряли в глине и легко отделились от шкуры. Юдифь раздала всем нарезанные вдоль крапчатых спинок аппетитно пахнущие ломти.
Джон ел. Вкус был точно такой, как он помнил: сладкий, земной, с привкусом тайны. И мясо такое нежное. Губы покрыл теплый жир.
– Говорил же я тебе, он жирный, как свинья, – сказал Иезекииль, снимая губами с лезвия ножа кусок мяса.
Чтобы скрасить трапезу, по кругу пустили бутылку виски. Джон отхлебнул, ощущая, как огненная жидкость льется ему прямо в грудь.
– Старина Джон Ячменное Зерно! – произнес он, поднимая руку с бутылкой. – А теперь – внимание: перед вами чемпион. Скольких силачей он стер в пыль – вам и не снилось!
Все засмеялись.
– Тогда давайте с вас и начнем, – сказал он, вставая и сжимая кулаки.
– Ого. Кое-кому неймется, – ответил Иезекииль. – Кто готов взять его на себя?
– Ну, давайте же, – взмолился Джон. В нем начала подниматься волна гнева. Хотелось кому-нибудь врезать. – Эй, кто из вас давно не был в нокдауне? – Он несколько раз мягко ударил перед собой воздух, быстро меняя руки.
– Что ж, я помогу тебе размяться, дружок, – сказал, поднимаясь, один из мужчин.
– Молодчина, Том! Джон, это Томас Ли.
Джон пожал противнику руку и отступил. Том, крупный и красивый парень, весь заросший курчавым черным волосом, широко улыбался. Похоже, он не слишком-то шустр. Толпившиеся вокруг цыгане начали свистеть и подбадривать его. У Джона кровь неслась по жилам все быстрее. Он склонил голову, собираясь с силами. Ледяной воздух обжег легкие. Томас Ли неторопливо прохаживался из стороны в сторону, поигрывая кулаками у бедер. И вдруг, сделав выпад, нанес удар. Джон уклонился, шагнул вперед и что было сил обрушил удар на пуговицы пальто, в которое был облачен Томас Ли. Томас ухмыльнулся и отпихнул противника одним движением плеч. И тотчас же нанес удар прямо в грудь Джона, из-за чего тот отступил еще дальше. Этот добротный удар пришелся Джону по нраву, и он снова ринулся вперед, подпрыгивая, помахивая кулаками и выжидая, потверже встал на ноги, покачиваясь и вновь выжидая, и, наконец, стремительным движением рванулся в сторону противника. Левым кулаком он попал Тому в челюсть, холодную и щетинистую. И тут началась потасовка. Противники лупили друг друга почем зря, напрочь забыв об осторожности. Всякий раз, когда Джон не успевал уклониться от удара Тома, а чаще всего так и выходило, он немного подавался вперед, с благодарностью принимая удар за ударом. Спустя минуту-другую ветви деревьев взлетели вверх, а твердая влажная земля ударила Джону в спину. Он встал, смеясь, чтобы поаплодировать сопернику, голова звенела, на губах чувствовался сладкий привкус крови. И вновь он бросился на Тома. И вновь увесистый кулак перевернул мир вверх ногами.








