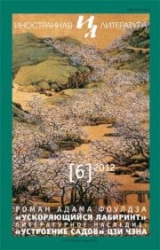
Текст книги "Ускоряющийся лабиринт"
Автор книги: Адам Фоулдз
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
Зима
Кресло епископа было само по себе как храм: высокая спинка, подголовник, выступающие вперед подлокотники с подсвечниками, чтобы читать при свечах, а сбоку – полочка для книг.
Кресло Мэтью Аллена, стоявшее напротив, на узорчатом коврике с другой стороны от камина, было хоть и не столь величественным, но все же глубоким и удобным. Тело все еще покачивалось, никак не могло избавиться от отголосков долгой дороги, от вагонной тряски, и успокоиться доктору тоже никак не удавалось. Вцепившись в подлокотники, он улыбнулся.
У епископа было доброе, благородное лицо, исполненное возвышенного и невозмутимого благочестия. Блеклые глаза глядели из глубоких глазниц, под длинным, словно бы перламутровым, носом с горбинкой – полные губы. Густые седые бачки аккуратно подстрижены. Вид у епископа был сытый и ухоженный. С потрескавшихся потемневших портретов его предшественников, которые Мэтью Аллен миновал, проходя по дворцу, смотрели из жестких воротничков куда как более суровые и аскетичные лица.
Дворец вызвал у доктора Аллена бурю эмоций. В докторе проснулся едва уловимый, но неистовый дух отца, безмолвно зазвучал голос, обличающий этот самодовольный достаток официальной церкви и ее духовное оцепенение. Неумолимому сандеманцу не по нраву пришлись бы и большой крест из чеканного серебра на каминной полке, и писаный маслом лик Христа, висевший на уровне глаз Мэтью: облагороженный, смуглый, в итальянском стиле Иисус со склоненной головой, мощными чувственными плечами и печальными, темными оленьими глазами. Христос его отца больше походил на самого отца: поджарый и решительный, он, должно быть, тоже отстаивал истину до пены на губах и до красных пятен на горле. Он был словно тонкий рычаг, которым поддели древнюю Палестину, чтобы перевернуть весь мир. А здесь никто ничего не переворачивает. Здесь все тихо, гладко, основательно – и явно переживет тех двоих, что сидели теперь друг напротив друга у камина.
Дворец напомнил Мэтью и об университете, пробудив одновременно и решительное отторжение, и неистовое желание остаться, быть сюда вхожим. Когда-то, наделав долгов, он вынужден был покинуть университет. На смену науке пришла работа в лавке и вечерние занятия. Если епископ согласится отпустить ему больше времени на выполнение заказа, Аллен полюбит это место и станет здесь своим. В противном же случае он сразу поймет, что изначально был прав в своих оценках.
Когда вошел слуга с чаем, Аллен, не поднимаясь с кресла, подался ему навстречу. Слуге было приказано разлить чай тотчас же: у епископа мало времени. Сначала Аллен глядел, как епископу наливают чай через ситечко в фарфоровую чашку и как добавляют короткую струйку молока. А потом точно так же обслужили и его, свершив умиротворяющий, задушевный, безличный обряд, в чем-то сродни услугам цирюльника, и он сразу почувствовал себя чище и собрался с силами, чтобы начать разговор.
– Итак, Ваша Милость, вы, несомненно, понимаете, что эти технические затруднения – препятствие вполне преодолимое. Я с полной уверенностью готов сообщить вам, что смогу осуществить поставку через месяц-два.
Епископ, подув на чай, ответил:
– Рад слышать. В моей епархии, доктор, семь церквей, обустройство которых мне, как вам известно, необходимо завершить как можно скорее. Здесь, на севере Англии, появляются все новые заводские приходы, и обустройства храмов – одна из важнейших моих задач.
– И я вам обещаю поставку.
– Через месяц?
– Через месяц-два.
– Через месяц?
– Если допустить, что технические затруднения… что будут произведены требуемые изменения… часть машины, требующая замены, будет заменена, то при условии ее замены – да, через месяц.
– Боюсь, в вашем разъяснении прозвучало слишком много оговорок.
Мэтью Аллен перехватил чашку из одной руки в другую.
– Я не могу гарантировать, что все будет готово ровно через месяц.
– Весьма прискорбно. Я полагал, что смогу рассчитывать на вас и с вашей помощью завершить обустройство храмов, но коль скоро вы говорите о задержке, надеюсь, вы поймете, если мы обратимся к производителю с устоявшейся репутацией.
– Я могу выполнить этот заказ.
– Но не вовремя. Вы же сами только что сказали, что не уложитесь в срок. Простите, у меня нет ни малейшего желания с вами спорить. Вы можете гарантировать поставку через месяц? – Епископ взглянул на Аллена, подняв брови. Его изящный нос как будто удлинился и заблестел.
– Нет.
– Ну, что же. Весьма прискорбно. А теперь простите, я должен идти.
– Но мы же заключили контракт.
– Надеюсь, вы не будете торговаться со мной, как какой-нибудь еврейский купец. Кстати сказать, если я правильно помню, у нас была договоренность, а не контракт. Очень жаль, что вам пришлось съездить сюда впустую. Желаю успеха вашему предприятию. Судя по вашим рассказам, вам непременно будет сопутствовать успех. А теперь извините, я должен идти.
Епископ поднялся из своего хитроумного кресла, и Мэтью Аллен тоже встал, как того требовал этикет. Держа в руках чашку с чаем, которую некуда было поставить, он поклонился вслед уходящему епископу.
Отец был все еще в отъезде, мать вместе со всеми слугами ушла в Фэйрмид-Хауз разбираться с бельем, так что Ханне выпало самой отворить дверь Томасу Ронсли. При виде ее он растерялся и слегка приосанился, но схитрил, сделав вид, что снимает шляпу.
– Ханна, – проговорил он, – эти…
– Да?
– Эти розы…
– Да?
– Ну, они для вас, вот что!
Вернувшись в гостиницу, Мэтью Аллен скинул пиджак и долго стоял подле окна, глядя, как капли дождя падают на мощеный двор, как снуют от двери к двери горничные. Голова почти упиралась в низкий, плохо освещенный потолок. Выпив бренди, доктор немного успокоился. Он стоял в этой каморке и думал. Деньги приходят, деньги уходят. Ожидаемая прибыль и размещение заказов – между ними неизбежно столкновение. Он зажат между двумя колонками гроссбуха. Они сдавливают его, выжимают из него мечты, выжимают воздух. Он выпил еще и решил, что если смотреть правде в глаза, то эпопея закончена, и они всё потеряют. Мало кто знает, что это значит, – потерять все. Но уж он-то знает. Он был в долговой тюрьме, средь темных стен, его лишили свободы действия, превратили в младенца, в узника, средь темных стен. Вновь просить денег, чтобы начать сначала, – да кто ж теперь ему даст, после всего, что случилось? Надеяться больше не на что. Он раздавлен.
Он задумался, можно ли покончить с собой, выпив целую бутылку спиртного в один присест, и решил попробовать. Поднеся бутылку к губам, он запрокинул голову и принялся вливать в себя бренди, глядя, как поднимаются к бутылочному дну крупные пузыри. С размаху опустив бутылку на стол, он закричал и, рыгнув тошнотворным горячим паром, вытер глаза. «Мало», – простонал он. Тут меньше чем тремя-четырьмя не обойтись. «Мало. Или. Или…» Он заковылял к зеркалу, хватаясь вытянутой рукой за стену, и уставился на свое отражение, на влажные обметанные губы и жесткие враждебные глаза. «Нет, – сказал он. – Нет, нет, нет, нет, нет. Пока нет. Пока нет. Еще можно выбраться. Будь я проклят. Не умирай, старина. Вот, смотри… Вот…» Выпрямившись, он попытался сделать несколько шагов, но рухнул лицом вниз на кровать. Кое-как дотянувшись до портфеля, вытащил перо и бумагу. Надо бы написать Теннисону.
Он лежал, и комната медленно кружилась у него перед глазами, а в голове сами собой складывались фразы. «Грандиозно, – вслух произнес он. – Грандиозно». Сел и начал писать.
Наше предприятие грандиозно. Надежда с нами, страх ушел, я счастлив. Мы в безопасности. Если бы вы только знали, какая тревога охватывала меня в самом начале и какое успокоение я чувствую теперь, когда моя голова готова взорваться от переполняющей меня благодарности, и облегчение приносят лишь слезы, текущие по щекам, то вы убедились бы в душевной глубине и искренности человека, который называет себя вашим другом и уповает на Господа, что изобличит неверующих, однако у меня и в мыслях нет похваляться, у меня и в мыслях нет опорочить чье бы то ни было доброе имя.
Заказы от великих мира сего текут полноводной рекой. Епископ Честерский добавил к своему заказу еще четыре престола. Я в жизни не сталкивался со столь многообещающим делом. Если я не прав, то все в мире – ложь. Даже если мир и человеческая природа изменятся, наше дело пребудет ныне, присно и во веки веков.
Теннисон сидел у камина, все глубже погружаясь в скорбь, которая сделает его знаменитым. Когда скорбь станет всеобъемлющей и наполнится вопросами, наполнится словами и, наконец, самим миром, тогда-то он ее запишет, а когда молодая королева потеряет своего молодого супруга и поведает миру, что его стихи удивительно точно выразили и смягчили ее собственную скорбь, тогда он станет придворным поэтом, разбогатеет, окажется вдруг одним из величайших людей своего времени, о нем заговорит и будет возносить ему хвалы вся Империя. Он встретится с королевой в ее резиденции на острове Уайт. Когда он будет собираться на аудиенцию, жена стряхнет песок с его башмаков, почистит одежду и пригладит волосы. И вот он стоит у камина, слышит, как отворяется дверь, и, повернувшись, видит, как входит его королева. Почти видит. К тому времени глаза его совсем ослабеют, а с появлением королевы тотчас же наполнятся слезами восхищения и радости. «Я теперь в точности как ваша одинокая Мариана»[24]24
Героиня двух стихотворений Теннисона, написанных по мотивам пьесы Шекспира «Мера за меру». Мариана страдает от одиночества и ждет своего возлюбленного, который так и не приходит.
[Закрыть], – скажет ему королева, а Теннисон, не зная, что ответить, ляпнет: «Каким королем мог бы стать принц Альберт!» И переполошится, что высказался слишком вульгарно, но она кивнет и согласится. Теннисон почувствует, как между ними рождается взаимопонимание, как смешиваются, подобно облакам, их одинокие, хрупкие, неспешные души. Но пока он не чувствовал ничего, кроме скорби, самой что ни на есть простой, гадкой и изнурительной. И не было в ней ни успеха, ни светлого будущего. Не было ничего, кроме одиночества, медленно пульсирующей злости и замешательства.
Он не стал зажигать лампы, и в сумраке надвигающегося зимнего вечера на его длинных ногтях теплились красные отблески горевшего в камине огня, а если бы он обернулся, то увидел бы, как в окне, за его спиной, за темными силуэтами деревьев, пятнает гладь пруда холодный багрец заката. Пурпур, подумалось ему, всюду пурпур. Геральдический кроваво-красный. А ведь в этом что-то есть. И разум его распахнулся навстречу пурпуру. Под пологом леса изломанные копья. Изломанные копья в истоптанной копытами грязи. Вот, Англия, твой старый добрый лес, где мчались рыцари, где королева Елизавета тешилась охотой, где сам Шекспир скакал, чтобы поставить свой «Сон» в поместье у аристократа, если верить дочке доктора. И вот теперь здесь сумерки, распад, и солнца луч высвечивает сонно рассеянные тут и там останки. Да, в этом что-то есть: английский эпос, возвращение Артура. Английский Гомер. Кровь, битва, мужество, машина судьбы, наконец. Альфреду показалось, что он даже слышит ее музыку, металлический звон, исполненный эха. И мысль его устремилась туда, нащупывая границы. Надо будет попытаться, если силы вернутся к нему. Поленья в камине шипели и дымились. Лес за окном вновь скинул свой сказочный покров, стал мрачным и безотрадным. И никого там не было.
Из друзей тоже никого не осталось. Септимус в сумасшедшем доме под опекой доктора Аллена. Их брат Эдвард в другом сумасшедшем доме. Отец умер. Артур Хэллем тоже умер, забрав с собой из этого мира силу, воздух, жизнь. А ведь это был величайший ум, Альфред другого такого не знал: властный, ясный и быстрый, находчивый, зрелый, поэтичный. Артур любил стихи Альфреда и защищал их в своих статьях, он любил Альфреда, а теперь его нет. Он женился бы на сестре Альфреда, стал бы лучшим из членов их большой семьи, но он умер и оставил Альфреда одного.
Образ Артура пришел и ушел, а слова не шли. Слова еще придут, он мог бы и догадаться, но пока не шли. Он был нем и одинок. Ему не хватало сил даже на то, чтобы читать слова, написанные другими, даже на то, чтобы подняться из кресла. Он неотрывно глядел в огонь. И был одинок.
Доктор Мэтью Аллен сидел за своим столом с чашечкой кофе и с пером в руке. Перед ним лежал новый гроссбух, куда он аккуратно вписывал придуманные числа, которые должны были успокоить вкладчиков. Время от времени он окидывал взглядом это застывшее вранье, и тогда голову словно сдавливали тиски, но он тотчас же напоминал себе о благородстве и логической выверенности своей цели. Когда имеешь дело с безумцами, порой приходится прибегать кое к каким уловкам им же во благо. И с вкладчиками то же самое: он просто отвлечет их будущим вознаграждением. Сердце стучало легко и быстро, до того приятно было сознавать собственную находчивость.
Однако деньги все еще были нужны. К счастью, ему было к кому обратиться, прежде чем прибегнуть к последнему средству – написать брату Освальду. Мурлыкая что-то себе под нос, доктор поднялся, огладил бороду и пошел. К ним.
Он тихонько постучал, но ответа не последовало. Тогда он открыл дверь и вошел. Септимус, полностью одетый, лежал на кровати, свернувшись калачиком, прижав колени к груди и обхватив их руками. «Доброе утро, – сказал Мэтью. – Вот вы-то мне и нужны».
Лорд Байрон проснулся со страшной головной болью и в запачканной одежде. Он знал, что винить ему следует только себя, но если не позволять себе время от времени поразвлечься, то куда девать свое жизнелюбие, как успокоиться? О, сколько страниц он написал! Долгие недели, тысячи строк, рука буквально летала над страницей, лишь бы успеть их записать, губы дрожали, голова была не голова, а какая-то поэтическая маслобойка. Когда он отправлялся на боковую, домочадцы давно уже храпели, а когда просыпался, звезды лишь начинали таять в предрассветном небе, первые труженики выходили на поля, а он уже шептал новые строки, которые надо было поскорее записать. Стихи складывались во сне, звучали все громче и отчетливее, пока наконец не обретали плоть, перекидывая мост в бодрствование. Они будили его, требуя служения. Иногда он переползал из постели в кресло, что стояло в углу, находил какой-нибудь ненужный обрывок бумаги, принимался их записывать и лишь потом понимал, что уже написал их прежде. И это исступление длилось неделями. Ничего удивительного, что ему приходилось призывать на помощь Джона Ячменное Зерно, чтобы ослабить хватку слов, перестать искать приключений на свою задницу и выбраться наконец из этой неистовой машины стихосложения.
Но тут уж лучше было присоединиться к приятелям, к их дружеским кутежам на лондонских улицах. Теперь-то они едва ли снизошли бы до него, сидящего здесь, словно в одиночной камере, голодного, отвергнутого, в грязной рубахе и загаженных подштанниках. Отдельными вспышками, спазмами вины возвращались образы того разгула, что творился прошлой ночью. Неужели здесь в самом деле бились не по-джентльменски? И блудили? Он вспомнил вчерашние вопли и услышал новые, что доносились из других частей дома.
В дверном проеме появился его слуга:
– Время поразмяться, – сказал он.
Байрон взглянул на него, припоминая.
– Да, – откликнулся он и замер, не отводя взгляда от вошедшего. Лицо слуги менялось у него на глазах, точнее сказать, оставалось тем же самым, или даже становилось тем же самым. Воздух вокруг лица словно бы дробился, уходил назад. До чего мучительно глядеть. Сквозь прежнее лицо, будто сквозь воду, проступало новое, и вот оно уже было здесь, в этой комнате, рядом с ним. Наконец Байрон его узнал.
– Я знаю, кто ты.
– И я знаю, кто ты.
– Я знаю, что ты творишь.
– Да ну?
За спиной у вошедшего его двойник, с блестящим от пота лицом, застегивал штаны и врастал в свою собственную спину.
– Ты Стокдейл.
– А ты кто?
– Лорд Байрон. А я знаю, что ты творишь.
– Ничего вы не знаете, ваша светлость.
– Вот и прошлой ночью снова.
– Ваша светлость ошибается. Вы тут уже третий день как взаперти.
– Стало быть, три дня назад. Ты насиловал…
– Ну, ну. Не говори ерунды.
– Выпусти меня на свободу, и я никому не скажу.
– Выпускать тебя или нет – решает доктор. И, в конце концов, кто тебе поверит?
– Доктор.
– Какой такой доктор?
– Доктор Аллен. Он мой друг.
– Но ведь он же и запихнул тебя сюда, так? Твой друг. Ты, видишь ли, сумасшедший.
– А вот и нет.
– И кто же ты?
– Не думай, что… – Байрон схватился за голову.
– Так кто же ты?
– Ох.
Ему нужно, ему просто необходимо вернуться в самого себя. Стокдейл тряс его, ухватив за рубаху. Он стиснул зубы. В голове все рушилось, вязло. Он сделал еще рывок. Нужно вернуться. Одна боль столкнулась с другой, и пришлось выбрать ту, что была сильнее. Стокдейл тряс. Джон почувствовал, что плоть его остается в руках санитара, а кости обнажаются, словно кости мертвого зверя, на которых тут и там виднеются жалкие остатки плоти, открытые солнцу и ветру. Лишь голова в целости и сохранности. Он услышал, как щелкают над его выброшенными в канаву внутренностями собачьи челюсти. Наконец Стокдейл отпустил его. Твердо встав на ноги, он на миг увидел себя посреди дороги: вот он лежит, лишенный всякой плоти, брошенный на произвол судьбы, мертвый кролик. Услышал грохот экипажей и людские голоса. Один-одинешенек. Дорога тянется на долгие мили в обе стороны. Ветерок мягко овевает лицо. Он очнулся так далеко от дома. И прекрасно знал, кто он.
– Я Джон, – произнес он.
– Кто-кто?
– Джон Клэр. Джон. Прославленный поэт. Когда доктор будет на обходе, я расскажу ему, что ты вытворяешь. А не хочешь, так скажи ему, что мне лучше, и пусть меня отсюда выпустят.
– Ты не знаешь, кто ты. Шекспир, а? Нельсон? Кто же ты?
– Ты знаешь, кто я. И скажешь ему, чтобы меня отсюда выпустили. И ее. Ее ты тоже отпустишь.
– Кого?
– Марию.
– Марию? Нет здесь никакой Марии.
– Не Марию. Сам знаешь кого. Знаешь-знаешь.
Конец зимы ознаменовался долгой чередой дождей, дождь лил и лил, и ни ветерка не чувствовалось в холодном дыхании обрушивающейся с небес воды. Шумный, почти отвесный, дождь примял траву и до блеска отполировал деревья.
Доктор Аллен устремился прямо под его струи, раскрыв над собою зонт. Он опаздывал и был голоден. Утром он не поел. Не осмелился: из-за болей в желудке даже самая легкая пища вызывала страшную рвоту. Ему не хватало порядка. Не хватало сна. Не хватало денег.
На дорожке появился человек, и тоже под зонтом.
– Доктор Аллен! – прокричал он сквозь шум дождя.
– Да. – Аллен подозрительно взглянул на него, поплотнее укутывая горло воротником.
– Вы доктор Аллен?
– Да.
– Вот вас-то я и ищу, черт вас дери!
– Простите?
– Ни за что!
– Извините, вы мой пациент?
– Да как вы смеете!
Дождь барабанил по зонту нежданного гостя, и сквозь водяную бахрому было не разглядеть пышущего гневом багрового лица. Доктор Аллен внезапно ощутил укол страха: это кредитор.
– Ох, простите, бога ради, – сказал он. – Пойдемте в дом. Не можем же мы разговаривать под дождем. Я вас почти не слышу.
– Долго же вы думали, прежде чем меня пригласить. Пойдемте, доктор, пойдемте.
Незнакомец вошел вслед за Мэтью Алленом в прихожую, свернул зонт и с размаху вонзил его в подставку.
– Я подозревал, – начал он, – что вы не особо следите за порядком в своем заведении, однако полагал, что вы, по меньшей мере, знаете, кто ваши пациенты, а кто нет.
– Приношу свои искренние извинения. Прошу вас, пройдемте в мой кабинет. Там мы сможем поговорить.
Аллен быстро направился в кабинет, желая утаить, скрыть от посторонних глаз то, что последует. Он открыл дверь, и посетитель ворвался внутрь, промчавшись мимо двух гроссбухов, столь опасно соседствовавших на столе, но даже не взглянув на них.
– Что это? – поинтересовался он, сопроводив свой вопрос указательным жестом.
– А, это. Оррерий. Планеты.
– Да-да. Я знаю, что это такое. Просто забыл название.
– Позвольте мне объяснить, – начал доктор Аллен. – Мы столкнулись с некоторыми затруднениями, как я уже говорил, чисто механической природы. Но как я постарался дать вам понять, в настоящий момент машина работает безотказно…
– Машина? О чем вы?
– О пироглифе. Простите, сэр, вы…
– Вы уж извините, но к виконту следовало бы обращаться «Ваша светлость».
– К виконту?
– Вот именно. К виконту.
Аллену все сильнее казалось, что перед ним и вправду один из новых пациентов, из числа тех, которыми занимается его жена.
– Прошу прощения…
– Будете просить, когда я закончу. Вы что, в самом деле не понимаете, о чем речь?
– Простите. Мне нездоровится. Машина, производство, финансовые расчеты – все это отнимает уйму сил.
– Да забудьте вы уже о своей чертовой машине!
– Простите, я не понимаю.
– Он не понимает, видите ли. Мой сын – ваш пациент, так сказать. Чарльз Сеймур. Надеюсь, это имя вам что-нибудь говорит?
– Боже мой. Ну конечно же. О, я прошу у вас прощения, ваша светлость.
– Вот-вот, как я и говорил. Можете его сюда позвать?
– Если вам будет угодно.
– Да, мне угодно. Мне в высшей степени угодно. Но это невозможно. Вы не сможете его позвать. И вновь я потрясен, что вы сами об этом не знаете. Не сможете, ибо его здесь нет. Он сделал именно то, чего я пытался избежать, платя вам. Удрал с этой мерзкой шлюшкой.








