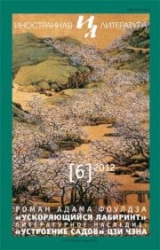
Текст книги "Ускоряющийся лабиринт"
Автор книги: Адам Фоулдз
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
При упоминании о больном брате Теннисон склонил голову. Былое воодушевление оставило его, сжавшись до мучительного, жгучего стыда. Так нередко бывало, когда он слишком уж перед кем-нибудь раскрывался; а сейчас стыд был еще острее из-за мысли о Септимусе. Его полные губы сжались. Заметив это, Аллен решил его подбодрить.
– Не сомневаюсь, что дела у Септимуса скоро пойдут на лад. Я обнаружил, знаете ли, что меланхолия, этот чисто английский, если угодно, недуг, вполне поддается излечению. Веселое общество, моцион, домашняя обстановка, возможность излить душу…
– Излить душу?
– Да-да, поведать о своих тревогах и несчастьях. Я нередко замечал, до чего же полезно бывает дать больному возможность, так сказать, выговориться.
Теннисон выдохнул целый клуб дыма:
– Стало быть, скоро вы услышите все о нашей семье.
– Не исключено. Однако я не делаю никаких определенных выводов из того, что рассказывают мне эти бедняги. Суть не в этом. Так или иначе, семью… – тут доктор улыбнулся, – никак нельзя назвать главным источником наших душевных недугов. Не вижу ничего дурного в том, что человек происходит из той или иной семьи. К тому же обычно у нас нет выбора.
– Погодите. Она еще себя покажет. Черная кровь Теннисонов.
– Вы хотите сказать, у вас семейная предрасположенность? К чему же – к меланхолии? Или к иному душевному расстройству? Очень часто…
– Да, семейка у нас не из спокойных. Должно быть, принимаем жизнь слишком близко к сердцу.
– Ах, вот как, – Мэтью Аллен склонил голову и замер, ожидая, что Теннисон разовьет свою мысль.
– Видите ли, я сам привез сюда брата, поскольку не исключал, что в один прекрасный день тоже могу оказаться в вашем заведении. А теперь решил пожить здесь, в этих краях, в новой для меня обстановке.
– В самом деле?
– Да. Подальше от всех. Хотя здешний лес довольно-таки мрачен.
– Всему виной осень. В другое время тут, знаете ли, всё в цвету и полно зелени. – Хотя по всему кабинету плавали густые клубы дыма, Теннисон вновь раскурил трубку. – Не вижу ничего постыдного в ваших трудностях. В некотором смысле, даже наоборот. Они служат доказательством великой душевной силы, стремящейся исчерпать себя до дна – в вашем случае, в творчестве. Полагаю, вам известны и другие подобные случаи среди поэтов.
– Разумеется. А как же. За все надо платить.
– Но не слишком дорого, – улыбнулся Аллен. – Очень рад, что вы зашли и немного познакомились с моими увлечениями. Мне следовало бы уделять им больше времени. Боюсь, в терапии душевных расстройств я уже сделал все назначенные мне судьбой открытия. А дальше – только рутинная работа, которая со временем начинает утомлять.
– Неужели?
– О, разумеется, я предан ей всем сердцем. Но в то же время ощущаю потребность в чем-то новом, что открывало бы простор для исследования и творчества. И опять же приходится все время помнить о деньгах, особенно когда у вас дом и семья.
– Правда? Не сомневаюсь, что при вашем уме вы всегда сможете что-нибудь придумать.
– Возвращаясь к тому, о чем мы говорили, мне кажется, что узкая специализация – не самый удачный выбор. Если вы ищете первооснову, то ваша умственная деятельность должна быть разнообразна. Бэкон – вот лучший пример.
– В самом деле? У меня в Кембридже есть друг, который готовит к печати его труды. Хотите, я вас познакомлю?
– Что ж, это было бы чудесно, благодарю вас, – ответил Аллен и горячо пожал молодому поэту руку. – Знаете, а не пройтись ли нам? Мне нужно проведать одного больного.
Сидя у окна с книгами наготове, Аннабелла, чтобы убить время, набрасывала портрет Ханны. Они ждали свою учительницу французского, мадемуазель Леклер, которая вот уж никак не походила на мадемуазель. Это была коренастая старая дева откуда-то из Пикардии с широким бледным лицом, длинным белым носом и срезанным подбородком. Девочкам было уже поздно учить язык, но они не переставали совершенствоваться, поскольку готовились к замужеству. Мадемуазель Леклер понимала, что их занятия – не более чем модное развлечение, и потому была добра и всячески ободряла учениц, не сердясь на них за bêtises [1]1
Глупые ошибки (франц.). (Здесь и далее – прим. перев.).
[Закрыть]. Ее полные плечи и кислый запах, доносившийся изо рта, когда она читала, порой вызывали у Ханны чувство неловкости.
Не то чтобы Ханна Аллен была во всем довольна собственной внешностью. В общем и целом она заслуживала одобрения: стройная, светловолосая, да и грудь вполне сносная. Хоть и поменьше, чем у ее сестры Доры, но зато и не такая грузная, не как у взрослых женщин. Однако ее бледность никак нельзя было назвать привлекательной. Пожалуй, эта бледность, которую она, конечно же, унаследовала от шотландских предков, будила желанные и даже достойные зависти ассоциации с Байроном и Скоттом, вот только губы выглядели словно окровавленные. А зубы, которые были совершенно обычного цвета, на этом фоне казались желтоватыми. Ресницы у нее были белые, а брови цвета яровой пшеницы.
Аннабелла так пристально ее разглядывала, то и дело отвлекаясь от рисунка, что Ханне стало слегка не по себе. Но понаблюдав, как подруга отрывает взор от листа бумаги и смотрит ей прямо в глаза, Ханна поняла, что на самом деле их взгляды не встречаются: Аннабелла вглядывается в какую-то часть Ханниного лица. Сама Аннабелла была бесспорно хороша, прелестна до такой степени, что, глядя на нее, Ханна неизменно задавалась вопросом, отчего так получается, что делает человека красивым. Красота людская так мимолетна и так изменчива, и среди отцовских больных она видела немало примеров угасшей, искаженной и извращенной красоты, но Аннабеллу красота не оставляла ни на миг. Она была красива в любое время дня и ночи. У нее был дивный цвет лица, и она очень мило краснела. А еще – большие темные глаза и полные губы, особенно нижняя, причем Аннабелле даже не приходилось их специально надувать. Если бы Ханна была мужчиной, она наверняка мечтала бы об Аннабеллином поцелуе. Но решительно отличала ее подругу от множества просто миловидных девушек шея – длинная, стройная, с таким грациозным изгибом. А сзади колечками вились нежные темные локоны, выбившиеся из шпилек. При виде их Ханна испытывала к Аннабелле такую же нежность, какую питают к ребенку, но было в этой нежности и что-то плотское. Если бы её подруга не относилась к своей красоте столь беспечно, по сути, не замечая ее, это было бы невыносимо. Пока же великая сила ее красоты проявлялась лишь в ее воздействии на других людей, но никак не в ней самой. Она была верной и лучшей подругой Ханны с самого детства, с тех пор как Аллены переехали в Эппинг. Аннабелла жила в тихом маленьком домике неподалеку от Ханниного. Ее отец был мировым судьей, уважаемым человеком, и Мэтью Аллен по приезде нанес ему визит вежливости. Увидев в доме у судьи милую и скромную девочку, ровесницу Ханны, он незамедлительно их познакомил, и с тех пор они росли, почти не разлучаясь. Ханна уже поделилась с Аннабеллой новостью о приезде мистера Альфреда Теннисона.
– А после этого ты его еще видела?
– Он был у нас, заходил к отцу, но мы разминулись.
– Ну что ж ты так, – улыбнулась Аннабелла. – Расскажи же мне снова, на кого он похож.
– На поэта, полагаю, – рассмеялась Ханна.
– Что, маленький и пухленький, как мистер Клэр?
– Нет, – отрезала Ханна. – Нет. И вообще, мистер Клэр – поэт-крестьянин, а Альфред Теннисон… – Ханне нравилось, как разворачивается, словно полотно, его длинное имя, – нет. Я имею в виду, что он задумчив. Иначе говоря, погружен в свои мысли. А еще он высокий.
– А какого роста?
– Высокого. Шесть футов или даже выше.
– А красивый?
– Аннабелла!
– Ну скажи!
– Да. Темноволосый. Широкоплечий. Чисто выбрит. Носит накидку и шляпу с широкими полями. Весьма похож на испанца.
– Да ты, небось, в жизни не видала ни одного испанца.
– Зато читала. И все знают, как выглядит типичный испанец.
– Все знают, как выглядит типичный испанец, – повторила Аннабелла. Девушки как раз достигли возраста бурного подражания и то и дело повторяли друг другу фразы и жесты других людей, чаще в насмешку, но иногда стремясь их присвоить. Когда вокруг никого не было, они повторяли друг за дружкой.
– А скажи, он женат? Или помолвлен?
– Аннабелла! – взвизгнула Ханна.
– Прошу тебя, перестань возмущаться. Нам по семнадцать. И нам просто необходимо думать о таких вещах. Так что давай-ка сообразим, как нам обратить на тебя его внимание.
– Поди обрати на себя внимание, когда вокруг одни сумасшедшие.
– А по мне, так лучше не придумаешь! Вокруг одни сумасшедшие – но что делает среди них эта бледная, полная достоинства девушка? Да это же очаровательная дочка доктора!
– Перестань, – вспыхнула Ханна. – И все-таки надо что-то придумать. По-моему, он близорук. Почти ничего не замечает, пока не подойдет вплотную.
– А может, эта рассеянность – из-за того, что он поэт?
– Может, и так. Но едва ли. Иногда он надевает монокль.
– Придумала! – просияла Аннабелла. – Нам нужно сделать так, чтобы я его увидела. Ну, или чтобы мы с ним встретилась. Думаю, тогда я смогу лучше оценить обстановку.
Ханна взглянула на взволнованную, радостно улыбающуюся подругу и задумалась над этой сомнительной идеей, но не успела ответить, как в комнату ворвалась мадемуазель Леклер. Рисунок, который Аннабелла мельком ей показала и который был обескураживающе точен, пришлось отложить.
– Bonjour, les filles, – поприветствовала их мадемуазель Леклер.
– Bonjour, Mademoiselle [2]2
Добрый день, девочки… Добрый день, мадемуазель (франц.).
[Закрыть], – в один голос ответили девушки и открыли учебники.
Санитар Уильям Стокдейл ростом был выше доктора, но, когда они шли в направлении Лепардз-Хилл-Лодж, где содержались тяжелобольные, даже он вынужден был прибавить шагу, чтобы не отстать от своего хозяина. А Фултону Аллену, сыну доктора, и вовсе приходилось бежать. Для Фултона, которому недавно исполнилось шестнадцать, это вообще было обычное состояние. До его триумфа, о котором он сам еще не знал, оставалось не так уж и много. В скором времени он будет отвечать за все заведение сам. Пока же Фултон, как обычно, изо всех сил пытался удержаться на волне бешеной отцовской энергии. Старался шагать в ногу, стремился перенять у отца его искусство и обширные познания, каковых, к несчастью для сына, с каждым днем становилось все больше. Эта решимость ни в чем не отставать от отца только крепла во время визитов в Лодж, который наводил на Фултона ужас. В Фэйрмид-Хауз изобиловали легкие недуги, там содержали слабоумных и больных, идущих на поправку. А некоторые, вроде Чарльза Сеймура, были и вовсе здоровы. Лепардз-Хилл-Лодж был полон истинного безумия и душевных мук, полон людей, потерявших самих себя. Эти люди были необузданны и непредсказуемы. Отвратительно пахли. Вели себя непотребно. Ни с того ни с сего поднимали шум. Страданиям их не было предела. Изнанка рода человеческого, один из кругов ада – вот что это было. Там разворачивалось действие всех ночных кошмаров Фултона и всех его эротических снов, которые он тоже числил по разряду кошмаров, вне зависимости от того, что оставалось потом на его простынях. Даже само здание казалось безумным: простое, квадратное, прочное, с рядами узких зарешеченных окошек, откуда доносились крики и визг.
И вот теперь они направлялись прямо к нему через лес, среди теней и проблесков света.
Стокдейл докладывал о состоянии больного:
– По-моему, у него не было стула уже три недели.
– Подавление стула только усиливает его манию. Из-за него она и развивается. А от своей бредовой идеи он так и не отказался?
– А что у него за бредовая идея? – спросил Фултон.
Стокдейл рассмеялся:
– Что если он все-таки опорожнит свой кишечник, то его содержимое отравит воду, заразит лес, а потом впитается в землю и убьет всех жителей Лондона.
– Будем надеяться, что он ошибается, – пошутил Фултон.
– Фултон, – одернул его Аллен, – не следует упражняться в остроумии, когда речь заходит о больном. Безумие лишено чувства юмора. Сколько там сейчас санитаров? Нам понадобится по меньшей мере четверо, чтобы удержать его, пока я буду ставить ему клизму.
– Я могу помочь, – неуверенно предложил Фултон, досадуя на отца за излишнюю суровость.
– Подержишь голову. Ну, или руку. Если ты только попытаешься взять его за ногу, он отбросит тебя в другой конец комнаты. Увы, мужчина он крупный и сильный.
Стоило им ступить через порог, как в ноздри ударила вонь, в точности как Фултону помнилось. Но всякий раз вонь оказывалась резче и мерзостнее, чем он ожидал. Тут и там слышался шум, но в просторном холле, над которым возвышались галерея и палаты, было только двое больных. Остальные сидели взаперти. Один из незапертых больных стоял на месте и тер лоб, который уже протер до лысины. Другая, женщина, устремилась им навстречу и, уставившись на Стокдейла, принялась задирать свое запачканное платье. Фултон глядел на нее в ужасе, но не мог отвести глаз. Однако прежде чем она успела задрать подол выше грязных, рыхлых колен, Стокдейл крепко ухватил ее за руки и вернул платье на место.
– Следует держать ее подальше от мужчин, раз она себя так ведет, – сказал Аллен.
Сондерс – санитар, который открыл им дверь, – извинился:
– Она себя так не вела. Думаю, дело в вас, доктор, или в вас, Уильям. Должно быть, она решила, что ее будут осматривать.
Тем временем женщина, пытавшаяся вырваться из рук Стокдейла, постепенно затихла.
– Я не хочу, – бормотала она, – не хочу…
– Вот и хорошо, – успокоил ей Аллен, – и не нужно.
– Отпустите ее, – сказал Сондерс, – с ней теперь все будет в порядке, небольшой приступ миновал.
Сондерс был невысок, силен и жизнерадостен, но внимание Фултона приковали его грубые, ловкие руки. У него были широкие кончики пальцев, толстые желтые ногти, а большие пальцы дважды сгибались под прямым углом и торчали параллельно ладоням. Глаза молодо глядели из складок дряблой кожи. Под одной из бровей притулились две бородавки, каждая размером с ягоду. Казалось, он вовсе не считает свою работу обузой. Обихаживая своих подопечных, мучимых страхом и болью, он улыбался и что-то напевал себе под нос.
– В одиннадцать тридцать, – сказал Сондерс, – мы выпустим поразмяться еще несколько человек. Эти двое ночью плохо спали, потому-то мы и вывели их сюда передохнуть. Но давайте начнем с мистера Франкомба. У его двери ждут двое моих ребят – набираются храбрости.
– Очень хорошо. Мы идем наверх?
Сондерс повел их по лестнице к палатам, двери которых выходили на галерею. Оттуда Фултон бросил взгляд на двух выпущенных на свободу больных, что копошились внизу, словно сонные мухи.
– Доброе утро, джентльмены, – поприветствовал Аллен ожидавших их санитаров.
Те, поздоровавшись, посторонились. Аллен взглянул через решетку на крупного мужчину с посеревшим лицом, который сидел, прислонившись к стене и держась за окаменевший живот.
– Доброе утро, мистер Франкомб! – прокричал Аллен сквозь решетку.
Тот скользнул по нему безжизненным взглядом и отвел глаза.
Мэтью Аллен повернулся к своей команде:
– Значит, так. Вы четверо заходите в палату, хватаете его и вытаскиваете наружу. Когда я буду ставить клизму, лучше всего, чтобы он был в ванне или на одном из столов. Фултон, стой здесь. Стокдейл, Сондерс, вы отвечаете за ноги. Вы двое хватаете его за руки. Все поняли, кому что делать?
– Да, доктор, – ответил Сондерс. Остальные кивнули.
– Вот и прекрасно. Вперед!
Сондерс отпер дверь, отодвинул засов. «Готовы?» – спросил он, и все четверо вбежали в палату.
Фултон стоял за спиной отца и наблюдал за борьбой. Мистер Франкомб, обрушив на вошедших поток ругательств, во время схватки то ревел, то мычал. Его буйство превосходило самые смелые ожидания. Когда он дрыгал ногами, Сондерса и Стокдейла мотало во все стороны. Двое других еле удерживали его за руки. Он поднялся с земли, а потом упал, поджав руки и ноги так, что четверо вцепившихся в него санитаров ударились друг о друга. Изо рта у него текла слюна. Он попытался укусить одного из тех, кто держал его за руку. Тому пришлось изо всех сил ударить мистера Франкомба в лоб.
– Фултон, если хочешь помочь, – сказал Аллен на удивление усталым голосом, – сейчас самое время. Обойди его со спины и держи за голову. Постарайся ухватить его за уши.
– Кто, я?
– Ладно. Подержи-ка, – он сунул сыну сумку и вошел в палату сам. Фултон пристыженно двинулся за ним.
Аллен поступил в точности так, как велел Фултону: обошел пятерых пыхтевших мужчин, присел на корточки и попытался покрепче ухватить Франкомба за голову. Но тот отчаянно забился, а ушей под сальными волосами было не нащупать. Тогда Аллен попытался просто прижать его голову к полу, обнажив булькавшее в ярости горло, покрасневший кадык и толстые вены. Поставив на лоб Франкомбу колено, он навалился всем своим весом, отбросил волосы и, наконец, ухватился за скользкие хрящи ушей.
И постепенно Франкомб начал сдаваться, задрожал, однако, когда его подняли и понесли, вновь забился, и пятеро державших его мужчин закачались, словно матросы на палубе во время шторма.
Когда в конце концов им удалось водрузить его на стол, Франкомб стонал от ярости и унижения. Штаны и белье с него сняли. Мэтью Аллен дрожащей рукой вытер пот со лба.
– Итак, мистер Франкомб. Вы знаете, что ваши страхи не имеют под собой никаких оснований, все это попросту вздор. Нам всем необходимо избавляться от отходов своей жизнедеятельности. И все мы так и поступаем, а леса не умирают, и города целы и невредимы.
– О, в самом деле? – внезапно обрадовался Франкомб. – В самом деле?
– Ваши испражнения ничуть не более вредоносны, чем у любого другого человека. – Это, знаете ли, не грех. Ничуть. Вы здесь вообще ни при чем. Это побочный продукт питания. Понимаете? Переваренная пища.
Франкомб затих, но вдруг, напрягшись что было сил, натянул ремни, которыми его привязали к столу. Он тянул, медленно выдыхая сквозь широко расставленные зубы, ремни скрипели, а Фултон размышлял, выдержат ли они в конечном счете или нет.
– Ну что же, давайте начнем, – пробормотал Аллен. Он держал клизму наготове, сжимая в одной руке трубку, а в другой – баллон с теплой соленой водой. – Фултон, можешь выйти. Зрелище, знаешь ли, не из приятных.
Фултон поборол в себе минутную нерешительность и ответил:
– Я и не ожидал ничего приятного. К тому же когда-нибудь мне самому придется проделывать эти процедуры.
– Очень хорошо. Если ты остаешься, можешь мне помочь – помассируешь живот.
Наклонившись, Аллен воткнул наконечник клизмы в темное, извитое отверстие, ведущее в прямую кишку больного, и продвинул на несколько дюймов вглубь, определенно не обращая никакого внимания на мужское достоинство Франкомба, болтавшееся из стороны в сторону прямо у него перед носом.
Аллен начал вводить жидкость.
– А теперь, пожалуйста, начинай давить на живот сверху вниз. И посильнее!
Фултон выполнил приказание, нажав на то, что он принял за спрессованное дерьмо в утробе мистера Франкомба. Санитары стояли в стороне, сложив руки, и болтали.
Из мистера Франкомба хлынула теплая прозрачная жидкость.
– Сильнее, прошу тебя! – Аллен попытался перекричать стоны больного. – И вас тоже, мистер Франкомб. Попробуйте потужиться.
Мистер Франкомб пытался сопротивляться, но теплая вода, давление на живот и боль сделали свое дело: противостоять было более невозможно. И в скором времени доктор Аллен был вознагражден целой очередью газов, за которой последовал крохотный твердый кусочек кала, свернутый, точно раковина.
– Очень хорошо, – и он добавил еще воды из клизмы.
– Твою мать, – сказал мистер Франкомб. – Пердун. Старый пердун. Дерьмо собачье.
Показался еще один маленький кусочек кала, за ним – мощный залп, и еще. Кусочки становились все больше, достигая размера овечьих шариков.
– Хорошо, Фултон!
– Старый пердун! Ох!
Франкомб плакал от досады, а из его нутра на стол извергался нескончаемый поток дерьма. Аллен стоял рядом и продолжал сжимать в руках клизму, не боясь испортить туфли, на которые то и дело попадали брызги.
– Ох-хо-хо! – воскликнул Сондерс, помахивая рукой перед носом. – И он еще обзывает нас старыми пердунами.
– Благодарю вас, мистер Сондерс, – осуждающе произнес Аллен. – Полагаю, мистера Франкомба крайне расстроит эта процедура. Мистер Стокдейл, я просил бы вас вывести его потом в лес и там вымыть. Пусть заодно и проветрится. Мистер Сондерс, может, вы тоже присоединитесь?
– Конечно, доктор.
– Когда вы вернетесь, я поставлю ему на ноги пиявки – и, надеюсь, нашим взорам предстанет не столь багровый, больше похожий на себя мистер Франкомб.
– Будет сделано, доктор.
Слегка протерев туфли и вычистив из-под ногтей остатки испражнений лезвием перочинного ножа, Мэтью Аллен покинул Лепардз-Хилл-Лодж. Фултон нес его сумку. Они возвращались к легким недомоганиям и сумятице Фэйрмид-Хауз. Аллен рад был вернуться, но лишь отчасти. Он устал, так устал от сумасшедших, от их убожества и упорного нежелания лечиться. Его разум жаждал чего-то еще, устремлялся к новым горизонтам.
Когда он пересекал лужайку, где Джордж Лэйдло застыл, судорожно складывая и вычитая что-то в уме, один слабоумный гонялся за другим, но перестал, увидев приближающегося доктора, а больные с топорами вновь заполняли поленницу, к нему подошел Джон Клэр.
– Джон, Джон, как вы сегодня себя чувствуете?
– Превосходно, доктор, просто превосходно. Лучше не бывает!
– В самом деле?
– Я хотел спросить, знаете ли, с учетом того, что я заслужил ваше доверие, ну и так далее, не позволите ли вы мне войти в число тех, кому разрешено иметь свой ключ…
– Гулять да рифмовать? Конечно, Джон Клэр. Я сам об этом думал.
Джон вздрогнул, но затем кивнул.
– Гулять. Собирать травки. Ну и так далее.
– А вы все еще сочиняете стихи, а? – спросил Аллен. – Те, что я читал некоторое время назад, были душевными излияниями красоты необычайной. И ваше доброе имя наверняка еще не предано забвению. Когда вы последний раз пытались что-нибудь напечатать?
– Подобные душевные излияния, как вы изволили их назвать, больше не по вкусу публике.
– А может, вы позволите мне попытать счастья за вас? Я был бы рад обратиться к нескольким своим знакомым, вращающимся в литературных кругах, чтобы вас напечатали в журнале.
– Не думаю, что из этого что-то получится, – ответил Клэр, опасаясь мучительного жара надежды, готовой вспыхнуть в его душе.
– Беру это на себя. Вам не придется ничего делать.
– Полагаю, вреда от этого не будет…
– Вот и отлично. Почему бы и нет? Не дело, чтобы произведения, вроде ваших, пылились в больничной тумбочке. Я дам вам ключ, только пойдемте со мной.
– Благодарю вас, доктор.
Сжав ключ в руке, Джон немедля отправился в путь. Питер Уилкинс с улыбкой поднял на него водянистые глаза и потянулся за ключом, но Джон показал ему свой. Питер Уилкинс расправил плечи:
– О, у вас есть ключ. Очень рад, Джон, очень рад.
И хотя Джона слегка смутило это поздравление, ему все равно было приятно. Однако он постарался скрыть свои чувства и ответил грубовато, по-деревенски:
– Да и погода ничего себе.
– Желаю приятной прогулки, – сказал ему вслед старик. – Я и в самом деле очень рад.
Джон махнул ему на прощанье рукой и пошел по тропе, мимо знакомых деревьев в направлении покуда незнакомых и невидимых, коими полнились многие мили вокруг. Между деревьями тут и там виднелись ветхие листья папоротника, начавшего по осени подсыхать. Никто не пел, лишь редкие звуки раздавались над головой – это птицы тихо предупреждали друг друга о его приближении. Черный дрозд, скакавший по опавшим листьям, тотчас взлетел и, опустившись на одну из нижних ветвей, издал сигнал тревоги, свирепо глядя на незнакомца.
Разглядывая желтый клюв птицы, острый, словно пинцет, прелестную черную головку, таращившийся на него блестящий круглый глаз, Джон услышал человеческий крик. И сразу пошел вперед, подальше от шума, но жившее в лесном лабиринте эхо его обмануло, и он вышел прямо на одного из больных, который топтался босиком по мху и листьям, скинув туфли, потея и размахивая руками. Увидев Джона, больной устремился ему навстречу с искаженным от гнева лицом, но при нем было двое санитаров. Один из них спрыгнул с бревна, где они играли в карты, вооружившись старой, потрепанной колодой, и поднял руки. Сумасшедший сделал вид, что не заметил его, но остановился.
– Эй, проходи, – сказал санитар Джону. Это был Стокдейл. – Проходи. Всё в порядке. Ему с утра досталось, ну, этому. Не беспокойся. – Другой санитар, которого Джон не узнал, улыбнулся сквозь табачный дым.
Поспешив уйти, Джон на ходу снял шляпу и, утерев выступивший от внезапного испуга пот, поглубже натянул ее обратно на голову.
Пройдя несколько ярдов, он наконец оторвал взгляд от выстилавших землю листьев, от валявшихся тут и там колючих буковых орешков, похожих на звездочки, и от пересекавших тропу древесных корней. Подняв глаза, он увидел вызывающе крючковатые, темные листья падуба, а под ними – длинные прутья и ветхие листья куманики. Приметив ягоду, он положил ее в рот, но ягода оказалась такая терпкая, что даже нёбо зазудело.
Он шел и шел. Видел трухлявое бревно, все заросшее грибами, рябь бледно-желтых грибов, разъедающих гнилую древесину – в них он узнал иудино ухо. Что же ему слышно, этому уху? Он вгляделся в завитки и цветные разводы, шедшие волнами и кругами, розоватые у самой кромки гриба.
А на краю полена обнаружились следы дроздиной наковальни. На самую плоскую часть бревна птица приносила улиток и, зажав их в клюве, мотала головой, чтобы разбить их домики. Осколки скрученных ракушек, на которых тут и там виднелась слизь, были похожи на созвездие, которое Джон завихрил кончиком пальца.
А ведь к Марии он прикоснуться так и не смог, пришло ему в голову, – к сладчайшей из двух его жен, к потерянной девочке, что так его любила, столь близкой в его мечтах, что лишь протяни руку – и касайся сколько хочешь. «Мария», – промурлыкал он себе под нос. Стены времени – наивернейшая из тюрем. К ним не прикоснешься, о них не разобьешь в кровь голову, но они окружают, не оставляя ни единой лазейки, не пускают к любимым, и домой не пускают, и бродит он как потерянный в лесу далеко-далеко от них. Джон поднялся на ноги. «Мария, – проговорил он. – Мария. Мария. Мария, спой же песню мне». Порывшись в карманах, он извлек трубку, камушек-голыш, лист бумаги и обломок старого карандаша. Вновь сел, снял шляпу, расправил бумагу на тулье и принялся писать:
Мария, спой же песню мне,
Спой о любви, красе, весне,
Моя тоска сильнее бед…
И через некоторое время у него уже было новое стихотворение, записанное на обеих сторонах листа, а потом и поперек: не хватило места. На миг возникло ощущение целостности, душа распахнулась в безмятежности, вновь и вновь повторяя только что рожденные стихи, гудя их на все лады. Вокруг был лес, Джон взметнул руки навстречу свету. Заморосило, капли дождя застучали по ветвям и листьям.
Еще одно стихотворение, вдобавок к тысячам других. Хорошо, что они приходят по одиночке, а не сыплются из него одно за другим в лихорадочном бреду. Его мимолетные спутники, его же и погубившие. Не без содрогания вспомнил он, как деревенские приятели сторонились его, чтоб он не сочинил про них стишок, которого они не смогут прочесть. К тому же именно из-за его стишков в деревню то и дело являлись чужаки. А правду говорят, что вы, деревенские, спите со своими бабами в свинарнике? С другой стороны, доктор Аллен будет доволен, подумалось ему. Еще одно украшение его в высшей степени представительного заведения для сумасшедших.
Джон миновал угольщиков, сидевших в своих ветхих лачугах из жердей, обложенных дерном. Изо дня в день им приходится торчать тут с рассвета до заката, следя, чтобы огонь не разгорался, а медленно превращал в уголь прикрытые сверху поленья. Поднимавшийся к небу дым был сладок, куда слаще, чем дым из печей для обжига известняка, где от случая к случаю доводилось работать Джону. Он заметил, что они поднимают глаза и таращатся на него из тьмы, и отважился поприветствовать их, приподняв шляпу, но они не шелохнулись.
А потом, всего в полумиле пути, на полянке, его взору предстали разноцветные кибитки, лошади на привязи, и дети, и курящийся костерок. Учуяв Джона, маленький терьер замер и вытянулся вперед на всех четырех лапах, словно буква, написанная курсивом, готовясь залаять. У огня, завернувшись в одеяло, сидела старуха. Она взглянула на Джона и произнесла:
– Добрый день!
– День добрый! – откликнулся Джон, и, чтобы она поняла, что он свой, добавил: «Cushti hatchintan»[3]3
Хорошее место (цыг.). (Здесь и даже примечания выполнены при любезном содействии канд. фил. наук В. В. Шаповала.)
[Закрыть].
Старуха удивленно подняла брови.
– Верно. Неплохое местечко. Rokkers Romany[4]4
Говоришь по-цыгански (цыг.).
[Закрыть], стало быть?
– Немного, да. Я часто бывал у цыган в своем hatchintan, в Нортгемптоншире. Много долгих ночей. Они учили меня своим мелодиям – ну, и много чему еще. Абрахам Смит. И Феба. Вы их знаете?
– Мы тоже Смиты, но твоих Смитов я не знаю. Я там не была, а они не были тут. Хорошее тут местечко, – она сделала широкий жест рукой, – много земли, и никто не гонит. И зверье, множество hotchiwitchis[5]5
Ёж (цыг., искаж. англ. hedgehog).
[Закрыть], есть чем подкрепиться зимой. Это общая земля, и пока ее как будто никто не прибрал к рукам.
Джон покачал головой и сказал устало, как говорят промеж собой старики:
– То, что нынче называют законом, само по себе преступно. Тут и там воруют, отнимают у людей общую землю. Помню, как пришли к нам в деревню со своими приборами, измеряли, огораживали, делили. Тогда и цыган выгнали. И бедноту.
К старухе подбежал мальчонка и что-то зашептал на ухо, косясь на Джона. Остальные держались в стороне, словно кошки, лишь глаза поблескивали средь ветвей. Терьер, предупредивший о приближении Джона, теперь отскочил и присоединился к их тайному обществу.
Старуха заговорила:
– Он думает, ты полицейский или лесник – ни те ни другие с нами не церемонятся.
Джону до того захотелось остаться в этом уютном, вольном уголке, со свободными людьми, что он представился так:
– Я сам бездомный, сплю тут неподалеку. И меня часто ловили лесники! – Что было истинной правдой: когда он сновал по лесу и сочинял свои стишки, его нередко принимали за браконьера – не верили, что пришел в лес просто так, без злого умысла.
– А зовут тебя как?
– Джон. Джон Клэр.
– Что ж. Я Юдифь Смит. Ты кажешься мне человеком порядочным, Джон Клэр, ты слаб и заброшен, хотя и неплохо откормлен, кем бы ты там ни был. Я чую в людях недоброе, чую дурные намерения, но в тебе я их не чую, у тебя глупое и открытое лицо. У меня глаз наметанный, и, если я что провижу, так и будет, да, ровно так и будет.
– Я знаю много баллад. Могу спеть, если хотите.
Юдифь Смит рассмеялась и выдернула из огня прутик, чтобы запалить трубку.
– Потом, если тебе захочется, когда остальные вернутся. А я быстро завожу друзей, да? Вот сосунки боятся, но скоро и они уймутся.








