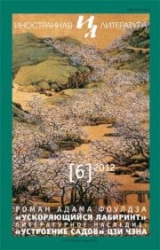
Текст книги "Ускоряющийся лабиринт"
Автор книги: Адам Фоулдз
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Джон оглянулся на детей, четверо или пятеро жались поодаль, а тот, что шептал старухе на ухо, стремглав бросился к ним.
– Сосункам положено бояться, – ответил Джон. – Только осторожность их и спасает.
– Может, и так. Ну что, присядешь? Можешь последить за yog[6]6
Огонь (цыг.).
[Закрыть], пока нам поесть не принесли. Вот они чего так беспокоятся. Парни наши ушли, понимаешь, поискать чего-нибудь поесть, и они боятся остаться без ужина.
– Вот и правильно, – сказал Джон.
И присел подле нее, и принялся ворошить в костре прутики, чтобы огонь не погас, и вскоре сосунки перестали бояться и подбежали поближе, подбрасывая в воздух сухие листья и выжидая, не загорится ли какой, не отправится ли в бесцельный, кружащийся полет, не прилетит ли наконец, ко всеобщему восторгу, прямо к ним. Старуха предложила Джону деревянную трубку с желтыми вмятинами от зубов на мундштуке, однако он вытащил свою собственную. Продув сквозь нее гниловатый воздух, чтобы проверить тягу, он набил ее табаком из старухиного кулька. Этот обрывок старой газеты был, вероятно, единственным печатным изданием на всей стоянке, и Джон улыбнулся, подумав, что ему нашли правильное применение: запачканные, расплывшиеся слова так никто и не прочел, а резкие голоса не нашли отклика ни в чьей душе. Он разжег трубку горящим прутиком. Поговорили о погоде, о травах. А долгие паузы в разговоре заполняли потрескивание костерка, несмолкающий шум ветра в ветвях и птичья суета.
Из кибиток появились молодые женщины – должно быть, прятались там все это время. Джон представился и им. Казалось, они были не столь уверены в его благих намерениях, как Юдифь Смит, и сухо приветствовали его, проходя мимо по делам, ополаскивая горшки, собирая хворост для костра, стряхивая грязь с одежды своих ребятишек. Джону была по душе эта бойкая, свободная, немного суматошная жизнь, и он наблюдал за нею с приязнью, а сумерки становились все гуще, а огонь в костре – все краснее.
Голоса мужчин послышались несколькими минутами раньше, чем появились они сами. К тому времени костер разгорелся на славу, котелки были наготове. Когда голоса стали ближе, ребятишки прекратили посыпать друг друга листьями и даже пригладили волосы, до того свисавшие на глаза. Собака, исступленно лая, носилась кругами. Выбежав навстречу мужчинам, она вернулась в сопровождении нескольких поджарых борзых и великого множества терьеров.
Когда Джон увидел мужчин, двое из которых несли привязанную за ноги оленью тушу, легко угадываемую под одеялом, которым она была обернута, ему стало ясно, почему все так осторожничали. Он тотчас же встал и представился:
– Я Джон Клэр, странник, верный друг цыган. Хочу передать вам сердечный привет от Абрахама и Фебы Смит из Нортгемптоншира.
– Он хороший парень, – подтвердила Юдифь. – Знает травы и снадобья не хуже меня, да и зовет теми же именами, что и мы, – похоже, провел немало времени с теми Смитами.
Главный среди мужчин принял решение столь же быстро, как в свое время Юдифь, и ответил со всею чинностью человека, говорящего от лица своего племени:
– Раз уж ты не друг лесникам и не станешь на нас наговаривать, мы рады приветствовать тебя здесь, Джон Клэр. Меня зовут Иезекииль.
Тем самым Джону позволено было остаться и смотреть на мужчин, которые свежевали оленя без всяких задних мыслей о высылке и каторге.
И он с превеликим удовольствием смотрел на этих умельцев, чьи ножи сновали взад-вперед, словно бойкие рыбешки. За всё это время они не проронили ни слова, а если и производили шум, то такова уж была их работа: постукивали суставы, с влажным звуком сдиралась кожа, с хрустом отделялись части оленьей туши.
Первым делом вырыли канавку, чтобы спрятать кровь, и повесили оленя на ветку вниз головой прямо над ней. Остро заточенными ножами быстро разрезали его до середины и отыскали рубец. Один из мужчин крайне осторожно отсек его с обеих сторон и перевязал скользкие трубки, чтобы не испортить желудочным соком мясо. Получилось что-то вроде подушки, набитой непереваренной травой.
Передние ноги подрубили по суставам и отделили. Затем шкуру оленя подрезали ножом и содрали. Шкура, влажно чмокнув, сошла целиком, обнажив темное мясо и кости под серебристо-синей подкожной пленкой. То и дело приходилось пинками отгонять собак: те толкались у канавки, лакая кровь.
Распластали глотку и отделили пищевод от трахеи. Тушу освободили от внутренностей. Сердце и легкие вырезали и положили в миску, после чего вытащили моток длинных, неровных кишок и бросили в канаву. Зайдя со спины, отделили от ребер и позвоночника лопатку, седло и филей – одним куском с двух боков разом, точно кровавую книгу размером с церковную Библию. После рассекли этот кусок на части, из которых несколько нарезали и тут же повесили над костром. Оставшиеся части забрали женщины. Затем сняли мясо с шеи. Олень стал выглядеть пугающе: нетронутая голова с мехом и торчащими вниз рогами, шейные кости, позвоночник и ребра, мясо, оставленное на задних ногах. Тут ноги тоже отрубили, разрезали и уложили в мешки. Ребра отпилили и по одному положили на огонь. Олень был освежеван. Скелет слабо отсвечивал в сумерках. Печальная оленья голова терялась в тени. Вырыли еще одну яму, в нее положили скелет, свернув его на манер зародыша. Яму засыпали, а сверху набросали листьев и веток.
Собаки, расталкивая друг друга, вились у первой канавки в окружении целого роя мух. Джон слышал, как голодные звери щелкают челюстями и прерывисто дышат. А почуяв поднимающийся над костром запах оленины, он понял, что и сам страшно голоден. В животе у него протяжно заурчало, словно голубь заворковал. Между тем разлили и выпили пиво, и скоро лес наполнился голосами и разговорами. Джон в них особо не встревал, лишь следил за их плавным течением, за переходами с одной темы на другую, вслушивался в цыганские слова, про которые уже почти и не помнил, что когда-то их знал.
Первое ребро Джону протянули со словами: «Теперь и твои руки в крови, друг мой. Теперь ты наш сообщник». Мясо оказалось удивительно вкусным, там были и обожженные на огне мышцы, которые приятно было рвать зубами, и мягкий нежный жир. Нет ничего дурного в том, чтоб съесть оленя, подумалось Джону: они размножаются, здесь их немало. Под сенью леса несть им числа.
Потом снова пили и пели, а над головой, последний раз в этом году, то и дело мелькали летучие мыши. Джон доказал, что знаком с их музыкой, когда ему дали скрипку. Он играл нортгемптонширские напевы и цыганские напевы. Сыграл тот, что кружился словно хоровод, а припев вызвал у всех улыбку. Сыграл и мелодию, которая вознеслась ввысь, к ветвям. И еще одну, однообразную и унылую, словно торфяные болота, холодную, как зимний туман. И еще одну – для Марии. Когда он кончил играть, стали петь, и Джон вслушивался в хор сильных голосов, вплетая в общую гармонию и свой собственный голос, и словно бы видя себя и всех остальных со стороны в темнеющем лесу, вокруг костра, а рядом растянулись собаки с вымазанными кровью мордами и туго набитыми животами. Песня била ключом, врываясь из вечности прямо в это мгновенье. Потрясенный, Джон откинулся на спину и сквозь почти что обнажившиеся ветви увидел звезды.
Он закрыл глаза и оказался в центре мира, отринув жен своих и дом, среди людей, с которыми было ему покойно.
Но вот песня стихла, и вскоре он почувствовал, что его накрыли одеялом. Открыв глаза, он увидел розоватые язычки пламени, все еще бьющиеся среди побелевшего хвороста. Сухим, хриплым голосом прокричала сова, вокруг с тонюсеньким писком сновали летучие мыши. Как же хорошо лежать под пологом этого бесконечного леса, где корни деревьев питаются сгнившими листьями, и так год за годом, век за веком. Чтобы потрафить себе, украсить свой путь ко сну, он взялся перебирать в уме лесные создания. Пред его мысленным взором предстали деревья – береза, дуб, граб, липа, остролист, орешник, а за ними – ягоды, разнообразные грибы, папоротники, мхи, лишайники. Он увидал быстрых, низкорослых лис, трепетного оленя, диких кошек, что гуляли сами по себе, крепко сбитых, переваливающихся на ходу барсуков, разнообразных грызунов, летучих мышей, зверье дневное и зверье ночное. Увидал улиток, лягушек, мотыльков, похожих на кору, и крупных мотыльков, похожих на призраки, бабочек: белянок и зорек, перламутровок и углокрыльниц. Не забыл пчел и ос. Вспомнил всех без исключения птиц: дятлов-барабанщиков и смеющихся зеленых дятлов, поползня с полоской на спине и крючконосую пустельгу, черного дрозда и пищуху, что умеет взбираться вверх по древесным стволам. Увидел лазоревок, снующих в ветвях, и белый промельк хвоста улетающей прочь сойки, и голубей, тихо сидящих на дереве поодиночке, но неподалеку друг от друга. И бойкую сладкоголосую малиновку. И воробьев.
И прежде чем погрузиться в сон, увидел себя: голова цела, а влажный скелет, лишенный остатков плоти, свернувшись в клубок, кротко покоится в земле.
Проснувшись, Джон ощутил покалывание в половине лица. Однако, открыв глаза, понял, что дело на сей раз не в парезе, а в сыплющемся на него легком дождике. Капли почти неслышно падали на золу в угасшем костре. А вокруг мерцали, отражая свет, мокрые ветви деревьев.
Джон натянул одеяло на лицо и вскоре согрел дыханием свой уютный кокон из грубой шерсти, в котором так и клонило в сон.
Когда он проснулся вновь, вокруг него вовсю копошились люди и потягивались собаки. Юдифь, которая раздувала огонь в костре, улыбнулась.
– Мне пора, – сказал он.
– Это в ту усадьбу, дальше по дороге? – спросила Юдифь. Он кивнул. Знал ведь, что она догадается. – Ума не приложу, чего тебя там держать, – продолжала она. – Уж если кто так играет на скрипке, там ему не место.
– Спасибо. – Джон встал, встряхнул и свернул одеяло. Чтобы лишний раз не беспокоить старуху, он просто положил его на землю там, где спал.
– Похоже, мы пробудем тут всю зиму. Так что, если захочешь вернуться…
– Спасибо, – повторил он. – Вернусь, если смогу. – Он повысил голос, обращаясь ко всем, кто оказался поблизости. – Спасибо. Мне пора.
– Перекуси на дорожку, – предложила Юдифь.
– Спасибо, я пока сыт.
И Джон поспешил уйти. Точнее, попытался. Сперва ему пришлось попрощаться за руку со всеми детьми, окружившими его плотным кольцом.
Солнце было еще низко, и он понадеялся, что ему удастся проскользнуть обратно незамеченным. Угольщиков в хижине еще не было. Он повстречал птицелова с болтавшимися на шесте двумя клетками – тот шел в Лондон, что так нуждался в песнях. О частые прутья клетки бились несколько зябликов – утренний улов. Птицелов надвинул шляпу на глаза. Джон поступил так же, а когда тот прошел, покачал головой, подумав, что слишком уж это простой символ, и решил не сочинять по этому случаю стихотворения.
У ворот он был раньше даже Питера Уилкинса. Отперев их собственным ключом, поспешил по тропинке к Фэйрмид-Ха-уз, но не успел войти, как навстречу ему вышел Мэтью Аллен.
Увидев Джона – а не увидеть Джона он не мог, ибо между ними было не больше трех футов – доктор явно расстроился.
– Джон, вы поступили очень плохо, – начал он, и Джон ощутил, как в нем вскипает гнев, выхода которому он дать не сможет. Он был неправ, сам это понимал – и теперь должен вести себя так, чтобы его пожурили, как ребенка. И он попытался ответить как ребенок.
– Я потерялся.
– Правда?
– Было темно. Я зашел слишком далеко.
Мэтью Аллен пристально глядел на него, посасывая ус. Джон оглянулся, потом опустил глаза. Не найдя другого выхода, Аллен сказал:
– Только смотрите, чтобы это было в последний раз! Обещаете?
– Я больше не буду уходить так далеко, доктор. И постараюсь не упускать из виду, где я. Я сочинял – может, дело в этом.
– Да, кстати, Джон. После нашего разговора я взял у вас в комнате пару стихов. Чтобы отправить издателям. – Мэтью Аллен поморгал, должно быть, усомнившись в благопристойности своего вторжения.
Джон заметил, но возражать не стал, порадовавшись, что теперь правда на его стороне.
– В самом деле? – спросил он как можно более небрежно, дабы усилить смущение доктора. – Как я говорил, – продолжил Джон, – я сочинял. Стихотворение, посвященное моей жене, Марии. Мне кажется, оно удалось. Могу переписать его для вас набело, а вы добавите к тем, что выбрали.
Мэтью Аллен покачал головой.
– Джон, мы же уже об этом говорили, и вы знаете, что Мария – не ваша жена. Это девочка, в которую вы были влюблены в детстве. Ребенок, Джон. Девчушка девяти лет. Или десяти. Ваша законная жена – Пэтти. И я знаю, что ей очень не нравится эта ваша навязчивая идея.
– Нет, – возразил Джон. – Нет, я прекрасно знаю, как правильно. – А еще он знал, что законное и естественное – две разные вещи. – Мария – моя жена. И Пэтти тоже. И если такого не случалось прежде, отсюда не следует, что это невозможно. Кроме того, так уже было. В Библии.
Ханна предложила взять Абигайль на прогулку. Но уже с самого начала она сбила малышку с толку, отклонившись от обычного маршрута: на сей раз она повернула к Бич-Хилл-Хауз.
Абигайль предпочитала гулять с матерью, которая куда как больше интересовалась ее находками – красивыми камушками и перышками. Ханна же думала о чем-то своем, совсем своем, а вовсе не об Абигайль, да и ходила к тому же слишком быстро. Абигайль ухватила ее за рукав и повисла на нем всем своим весом, чтобы заставить сестру идти помедленнее, но та заставила ее чуть ли не бежать вприпрыжку.
– Или ты будешь вести себя хорошо, – сказала Ханна, – или я немедленно отправлю тебя домой.
Ханна шагала вперед, сердито рассекая ногами воздух. Абигайль еле поспевала за ней, но вдруг старшая сестра остановилась.
– Почему мы стоим? – спросила младшая. – Не туда пошли?
– Шшш, Аби. Я думаю.
– И что ты думаешь?
– Шшш.
Ханна стояла и смотрела на дом с большим прудом и лужайкой – дом, где теперь жил он. Еще недавно ей и дела не было до этого места, но теперь оно щекотало ей нервы, словно гудящий улей. Она даже привстала на цыпочки, чтобы лучше видеть. Сделав несколько шагов, подобно балерине, чтобы разглядеть дальний угол сада, она заметила его. Наверняка это он. Такой высокий, стоит к ней спиной, застыв на месте, в густом облаке дыма, который сам же и выдохнул, в той самой накидке. Она тоже застыла, стараясь не шелохнуться, теряя равновесие от ударов собственного сердца, на грани между жизнью и смертью. Скоро что-то произойдет. Иначе быть не может.
Абигайль, заскучав, но не желая мириться со своим положением, вытянула вперед руки и с разбегу врезалась прямо ей в живот, – Не смей! – зашипела Ханна, невольно сделав пируэт. Она схватила сестру за руку и подтянула к себе. Абигайль увидела, как лицо сестры, искаженное вспышкой гнева, приближается к ней, словно хищная птица. Губы дрожали. Как же ей не идет, когда она злится. Абигайль попыталась высвободить руку, но Ханна ухватила ее покрепче, а сама вновь встала на цыпочки и принялась куда-то глядеть.
Попеременно, то пригибаясь, чтобы остаться незамеченной, то вытягиваясь в полный рост, чтобы лучше видеть, Ханна пыталась убедиться, что Альфред Теннисон не обратил внимания на их появление. И вдруг почувствовала, как ее запястья коснулись влажные губы Абигайль, и в руку впились острые мышиные зубки сестры. Тут уж она не сдержалась и вскрикнула, и теперь-то Теннисон наверняка услышал. На мгновение выпрямившись, она увидела, что он оборачивается. Тогда она вновь втянула голову в плечи и побежала, таща за собой орущую Абигайль. Когда они вернулись домой и немного успокоились, ей удалось подкупить девочку кусочком сахару, чтобы та ничего никому не рассказывала.
Альфред Теннисон даже и не пытался подбодрить сидевшего рядом Септимуса или хотя бы заговорить с ним. Похоже, любая, даже самая скромная попытка выразить родственное участие задевала брата, тот весь съеживался и, подняв вверх руку, выдавливал из себя ужасающую улыбку. Так что Альфред просто вытянул свои длинные ноги самым что ни на есть обыденным образом, решив, что пока обитатели лечебницы доктора Аллена собираются, можно себе это позволить, а когда начнется вечерняя молитва, он непременно примет подобающую позу.
За органом он смутно различил миссис Аллен, которая играла, по правде говоря, весьма недурно. Ее бледная дочь, до того тонкая и непоседливая, что ее образ колыхался перед его близоруким взором, переворачивала ноты. Он закрыл глаза и прислушался к музыке. Она вздымалась равномерно, словно гребни волн, в то время как педальный насос вновь и вновь гнал по трубам воздух, и, оттолкнувшись от этого зубчатого звука, Теннисон увидел море, Мейблторп, тяжелые низкие волны и песок, застывший складками на берегу во время отлива. И пошли слова. Волны. Скалы. Хлестали. Или касались. Воды, что касались. Воды, что касались грубых скал. Что бичевали скалы. Что, набегая, бичевали скалы. Касались, набегая, острых скал.
Маргарет смотрела на бедняжек, рассаживающихся вокруг нее, чтобы помолиться, и вновь не знала, что и думать. Она подозревала, что во всем этом нет ничего подлинного, что, когда доктор произносит свои бесцветные проповеди, Истинно Сущее оскорбленно отворачивается. Лично она бы так и сделала. Но тогда выходит, что это она, с ее ненавистью к человеческим слабостям, лишена сострадания. А вдруг среди всех молящихся именно она, она одна, – заблудшая душа, погрязшая во грехе, остальные же чисты в своих молитвах и будут услышаны? Господь явит им свое милосердие. А разве заслуживает милосердия она, немилосердная? Она никогда не любила всех этих сложностей совместной молитвы, не любила отвлекаться на других, они ей мешали. Лишь уединение было ей по нраву. Но когда она оставалась одна, ее не отпускала мысль, что она отрезанный ломоть, заблудшая душа, брошенная на произвол судьбы.
Между тем все встали и запели. Джон Клэр тоже поднялся и вплел свой голос в хор безумцев, но без особого рвения. Устроившись рядом с камином, он то и дело отвлекался на бушевавшее там пламя. Санитары пели спокойно, не теряя бдительности. Один из слабоумных пел ужасно громко, а стоявший рядом с ним Саймон, напротив, лишь безмолвно шевелил губами и потирал левый глаз. Клара, ведьма, не пела вовсе. Она глазела по сторонам, а когда на нее оглядывались, хихикала себе под нос.
Когда все они с горем пополам миновали короткий этап двухсложного «Аминь», доктор Аллен плавным движением обеих рук дал команду садиться и приступил к вечерней проповеди.
Это было седьмое его обращение к заповедям блаженства, и он прочистил горло, прежде чем произнести: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Читая проповеди, он испытывал самые искренние, истинно отцовские чувства к своей пастве, не сводившей с него исполненных ужаса взоров. Он спиной чувствовал: за органом сидит жена, видел прямо перед собой троих своих детей. Фултон причесался как-то непривычно, должно быть, зачесал волосы на другую сторону, и теперь в его внимательности была какая-то особая независимость, словно он сам себе хозяин, сам принимает решения, оказался здесь по собственной воле, и по собственной же воле следует по стопам отца в занятиях медициной. Дора, тишайшая из его детей, чудо как подходит своему жениху, который, похоже, пытается уговорить Абигайль не болтать под стулом ногами. Среди прочих особенной прямотой и открытостью выделялся взгляд Джорджа Лэйдло. Джордж каждый день только и ждал вечерней молитвы, лишь она приносила ему временное отдохновение от ужасов Национального Долга, за который, как ему думалось, он один в ответе.
Доктор Аллен перечислил несколько категорий миротворцев, в том числе тех, что прекращают войны и раздоры. Но есть и другие миротворцы, способные положить конец горьким спорам и внутренним раздорам. Маргарет поняла, что он имеет в виду себя, и с презрением подумала о его слабости. Она почти жалела его, ведь его тщеславие было поистине болезненным. И друзья – это тоже миротворцы, продолжал он, ибо своей любовью дарят нам мир и покой. Миротворцы – не только те, кого принято так называть, не только священнослужители, послы и врачи, но и все мы, благодаря нашему братству.
Джон знал наверняка, кто принесет мир ему. Его жены, Мария и Пэтти. Мир воцарится, когда он будет лежать под дубом, а они – ошую и одесную, а вокруг – густой сладкий запах травы, и теплые солнечные лучи, и клубящиеся летние облака над головой. Он отвернулся от Мэтью Аллена, который, раскачиваясь на носках, с заметным удовольствием изрекал очередную банальность, и стал глядеть в огонь. Мысли понеслись с угрожающей быстротой, он глядел и думал, что вот горят единственные в своем роде бревна, обрубки вполне определенных деревьев, горят вот в этом самом огне, в этом месте и в это время, и все это могло произойти и происходит лишь раз в истории Вселенной – здесь и сейчас. Когда-то на них садились птицы, вполне определенные птицы, по ним ползали разные твари, солнце освещало их то с одной, то с другой стороны, их обдували ветра, а над ними проплывали единственные в своем роде облака, а к утру они превратятся в золу. Как же мало нам отпущено времени. Он должен каждый божий день быть со своими женами, а не тратить время попусту здесь. Похожие то на ветви, то на листья, языки пламени сами по себе тоже были единственными в своем роде, как и деревья, – одновременно вечными и мимолетными.
Ханна не обращала на слова отца никакого внимания. Ее взор был устремлен мимо взлетающих фалд его пиджака, мимо рук, порхающих по обе стороны аналоя и опускающихся на лежащую перед ним стопку бумаги, – туда, где сидели Теннисоны. У Альфреда Теннисона был задумчивый, печальный вид – да и каким еще ему быть? – но смотреть на него все время она не могла. Справа от него сидел брат, лицо которого было похоже на посмертную маску, глаза прикрыты, но по щекам текли слезы. Вдруг она увидела, как он разомкнул воспаленные губы и вздохнул. Не открывая глаз, он осушил слезы носовым платком. А когда вскоре он вместе со всеми поднялся на ноги, Ханна поняла, что снова пришла пора петь.
Теннисон стоял и пел вместе с убогими, раскрывающимися навстречу Господу. Проповедь показалась ему вполне сносной, более внятной и более ясно изложенной, чем проповеди его покойного отца, более щедро и сочувственно обращенной к пастве. Когда больные начали сдавать свои сборники гимнов санитарам и двинулись к выходу, а с ними куда-то уковылял и Септимус, Теннисон подошел к доктору с похвалами. Ханна заметила, куда он направляется, и тотчас же встала рядом с отцом.
Теннисон взял Аллена за руку и пожал ее.
– По-моему, проповедь удалась.
– Очень рад, – ответил Аллен.
– Она была превосходна, – подала голос Ханна.
Аллен с некоторым удивлением взглянул на дочь, которая обычно не выказывала никакого интереса к проповедям, снисходительно улыбнулся и положил руку ей на плечо. От этого прикосновения Ханна застыла на месте и покраснела от обиды: она уже не ребенок, и к тому же это идет вразрез с ее планами. В то же время ей пришло в голову, что сейчас роль нежной и преданной дочери для нее наиболее выигрышна, и она вновь удивила Аллена, поощрительно погладив его по тыльной стороне ладони.
От этой семейной сценки Теннисона отвлекло появление еще одного персонажа. Когда тот приблизился, стало заметно, что на лице у него сияет улыбка, а голова слегка подрагивает. Он схватил доктора за руку сразу двумя руками и крепко пожал. «Спасибо, – произнес он, – и вновь спасибо». Когда он отошел, Аллен рассказал, кто это такой и как он страдает от Национального Долга, и объяснил, что молитва для него – единственное отдохновение. Теннисон проводил взглядом удаляющуюся спину больного, чья походка становилась все более напряженной, по мере того как он уходил все дальше и дальше от этого исключительно успешного доктора.








