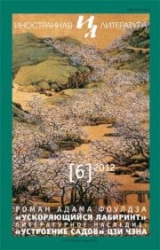
Текст книги "Ускоряющийся лабиринт"
Автор книги: Адам Фоулдз
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Иезекииль ухватил его за плечо.
– А ну-ка хлебни, маленький Джон.
Джон, тяжело дыша, огляделся. Том тоже пошел на попятную.
– Силен. Ну, силен, Робин.
– А?
– Маленький Джон. Ну, и Робин Гуд.
Иезекииль помог Джону встать, подхватив его под руку, словно старуху.
Вернувшись к костру, Джон оглядел лица цыган, блестевшие в свете пламени. До чего же они все разные! Словно возникнув из ночной тьмы, они собрались здесь, на этой своей временной стоянке. Том опустил тяжелую руку Джону на плечо и сел рядом. Они запели. Какой-то мальчуган поднял вверх руку Джона, назначая его победителем. Вновь зазвучали аплодисменты и смех. Джон ополоснул рот виски, сплюнул кровь, вновь ополоснул и проглотил.
Позже он растянулся под толстыми одеялами, и разум его запестрел какими-то расплывчатыми пятнами и бессмысленно повторяющимися обрывками одной и той же усталой мысли: А тебе хватит отваги? А тебе хватит отваги?
Когда девушка ушла, Теннисон остался сидеть в темнеющей комнате со своей верной трубкой. Дрова в камине с шуршанием обвалились. Его большая правая рука покоилась на колене, а левой он держал теплую чашечку трубки.
Что за странный визит! Конечно же, он внес какое-то разнообразие в это неизбывное одиночество, и в этом смысле его нельзя было назвать нежеланным. Может, она тоже одинока. А может, просто заскучала. Ей так хотелось поговорить о поэзии. Должно быть, ей не хватает таких разговоров. Но если бы их было в избытке, она бы превратилась в «синий чулок», каких привечают лишь в литературной среде. А этакой жизни и врагу не пожелаешь. Интересная девушка. И такая бледная. Из-за этой белизны ее узкое лицо словно светилось в темноте. Он задумался о том, как она живет здесь, среди лесов, в окружении безумцев. Вот уж поистине любопытно. Он вновь вообразил себе ее, на сей раз в белом, с рыжим жгутом волос на спине, мерцающей в тени дерев – хотя, конечно, эта «тень дерев» никуда не годится. Отгороженной от мира ветвями деревьев, что сплелись, словно прутья клетки, древних деревьев, за ветвями которых не виден закат. Лес. Безмолвные тропы. Безумцы. Где листья гниют и рассудок приходит в упадок. Жирные водоросли, что гниют на летейском причале.
Одиночество только что выдуманного им образа слилось с его собственным одиночеством; исполненное поэзии, оно блуждало по комнате, вилось в табачном дыму. Он вновь подумал о ней, о том, какие слова были бы ей к лицу, и потянулся к тетради. Пролистав ее, нашел самое первое стихотворение, написанное после смерти своего друга Артура, – о том, как привезли из Триеста его тело. Он стукнул кулаком по ноге. Вот оно – готовое, завершенное, закрытое. Ему вновь захотелось пережить это чувство: словами приблизить Артура к себе, создать что-то завершенное из всех этих движений и течений, из бесформенных осколков своей собственной жизни. Он не может без Артура. Сколько же ему уже лет, этому стихотворению? Шесть? Или семь? Он почувствовал, как жизненная сила его оставляет.
От италийских берегов
Прекрасный челн по глади вод
Останки Артура несет.
Благословением ветров
Пусть к тем он мчится, кто скорбит
Вотще. Пусть волны бьют в корму,
Сквозь море путь торят ему,
Пусть мачта на ветру скрипит.
Пусть ночь пути не преградит,
И буря спит, пока рассвет,
Подобный дружбе юных лет,
На палубе не заблестит.
Лей свет огней своих вокруг,
Пусть в их мерцании ночном
Спит молча небо над челном,
Как спит теперь мой брат, мой друг.
И мне тебя не увидать,
Пока не сгину сам во тьме.
Всех братьев ты дороже мне,
Милей, чем для ребенка мать [10]10
Перевод Д. Коломенского.
[Закрыть].
Джон стоял, окруженный золотым облаком собственного дыхания. Восход. Кажется, что тяжелое низкое солнце висит почти вровень с головой. Видно плохо. Левый глаз глядит сквозь узкую щель, со всех сторон подступает розоватый туман. Половина тела онемела. Воздух такой холодный, что зуб на зуб не попадает. Дотронувшись до лица, он обнаружил, что губа распухла, а рот перекошен, будто в ухмылке. И вообще, где он? Чья-то стоянка. Интересно, как он сюда попал. Наверняка это как-то связано с тем, что он боксер, боксер-профессионал. У него что, был здесь бой? А это похоже на золу от ночного костра под свежим снегом. Должно быть, его вызвали на бой цыгане. Он осмотрел кулаки: нет ли ссадин и синяков? Вроде всё в порядке. Деревья размахивали дубинками как надо ветер пихал в бок хватит ли тебе смелости Старина Джек Рэндалл осмелишься ли ты Джек Рэндалл должен осмелиться выйти на ринг самый знаменитый боксер среди них небось разнес их всех в пух и прах в мгновение ока! Старина Джек Рэндалл наверняка бы не так ли ведь рука его тверда никаких вопросов быть не может он устоял Джек Рэндалл. Подпрыгивая, он нанес несколько ударов по воздуху. Голова разламывалась, но он готов был вступить в бой, кто бы ни бросил ему вызов. И Джек Рэндалл отправился обратно в… в другое место, просто в другое, туда, где он сейчас живет. Он помнил, как идти туда через лес.
Снежный покров приглушал все доносившиеся до него звуки, словно он потерял слух или погрузился в сон. Ботинки с хрустом проваливались в снег. Мимо, каркая и с усилием взмахивая крыльями, медленно пролетели две вороны, ветер подхватил их и закрутил в воздухе, словно палец, переводящий стрелки часов. Вороны изо всех сил рванулись вперед и исчезли из виду.
Он снова лупанул по воздуху. То-то им был урок. То-то он им показал, как вызывать на ринг Старину Джека Рэндалла.
Вернувшись в свою комнату, Джек Рэндалл попытался привести себя в божеский вид, прежде чем снова удрать. Он умылся и вытер лицо. Зеркала в комнате не было, и, чтобы разглядеть свежие боевые раны, ему пришлось воспользоваться оконным стеклом, зайдя за шторы, чтобы было лучше видно. Увидев свое отражение, он расхохотался. Из-за дули на губе улыбка у него стала кривая и жуткая. Он попытался улыбнуться пошире. Подбитый глаз тут же совсем заплыл, скрылся в мягкой розовой складке отека, такой женской и теплой на ощупь. Теперь надо бы привести в порядок волосы и одежду. Зачерпнув в пригоршню воды, он вылил ее себе на макушку и причесался.
Когда Маргарет увидела, что к ней кто-то идет, она как раз стояла в своем любимом месте в коридоре первого этажа – в небольшой полукруглой нише с высоко расположенным круглым оконцем, через которое в такт ее мыслям весь день напролет лился хмурый зимний свет. Израненный мужчина направлялся прямо к ней, прикрывая половину лица и держась рукой за выбеленную стену, чтобы не сбиться с пути. Он был невысок и плюгав, его расцвеченное синяками лицо наводило ужас. А потом, словно в театре, она увидела, как его заметил и окликнул доктор: «Джон! Джон, куда вы?»
Джон не остановился. Мэтью Аллену пришлось бежать за ним вдогонку и ловить за руку. Джон попытался выдернуть руку, но Аллен поймал его и развернул.
– Джон! Джон, Боже праведный, что с вами случилось?
Джон вновь попытался высвободить руку. При этом он несильно ударил доктора Аллена в висок. Тогда Аллен сделал выпад и обхватил его обеими руками, прижав его руки к бокам и сцепив пальцы замком на его мягком животе.
– Отпусти! Отпусти! Мерзавец, да я тебя в нокдаун отправлю! Да кто ты такой против Джека Рэндалла? Ну? Ну?
– Джон! Джон, послушайте, вас зовут Джон, – пыхтел доктор. – И я вас предупреждал, что вам нельзя уходить на всю ночь. Теперь последствий не оберешься.
– Отцепись от меня! Отправлю в нокдаун!
– Мария! Мария!
Неожиданно Маргарет перестала быть просто зрительницей в этой прискорбной пьесе. Доктор обращался к ней и глядел прямо на нее. Она вопросительно ткнула себя пальцем в грудь.
– Да, вы.
– Я Маргарет.
– Да-да, Маргарет, простите. Пожалуйста, позовите Сто-кдейла. Он должен быть на втором этаже.
– У меня был бой! – оправдывался Джон. – Вот и все дела. Чем не занятие для честного человека?
– Я вас предупреждал, – повторил доктор. – Теперь будете сидеть два дня в темной комнате.
Когда подошел Стокдейл, Джон уже почти повалил доктора на пол, пытаясь высвободиться из его объятий, словно пьяница из брюк. Стокдейл поспешил на помощь и тотчас полностью обездвижил Джона.
Маргарет наблюдала, как они волокут израненного беднягу, чтобы запереть в темноте.
Когда его швырнули на пол и захлопнули деревянную дверь, Джек Рэндалл вскочил и начал стучать в нее кулаками.
– Ну что, у кого тут хватит отваги выйти на ринг? – рычал он. – Мерзавцы! Всех в расход пущу! И первым – этого докторишку, нечего с ним миндальничать!
В ответ Мэтью Аллен спокойно сказал сотрясавшейся от ударов двери:
– Джон, вас предупреждали. Вам нельзя ночевать в лесу. Вы прекрасно знаете, что вечером должны возвращаться сюда.
– Ублюдок! Чтоб ты подавился своим дерьмом! Слышишь, ублюдок! Я… Я… – он изменил ритм ударов и принялся лупить в дверь по три удара подряд с равными промежутками.
– Джон, так вы сделаете себе только хуже! Посмотрите, на кого вы похожи.
– Сукин сын! – И тут на него опустилась тьма. Он распростерся на полу поближе к полоске света под дверью.
– Джон, вы знали, что будете наказаны. Два дня.
– Вы не имеете права заточать человека! Не имеете права. Я выломаю дверь.
– Я вернусь позже.
– Света! Послушайте, дайте мне света!
Но доктор Аллен уже удалялся по коридору. Занимаясь другими больными, он еще долго слышал отрывистые крики Джона, похожие на лай собаки, брешущей на ворота. Однако несколько часов спустя все стихло.
Ханна прогуливалась с Аннабеллой и её собакой Муфтой там, где уже не было слышно сумасшедших. Снег почти сошел, снежные корочки виднелись лишь кое-где в ложбинах и с подветренной стороны деревьев. Было сыро, лес простирался вдаль, теша глаз неброскими гобеленовыми цветами.
Муфте холод явно не нравился. Она трусила впереди и время от времени оборачивалась, беззвучно бросая на девушек обеспокоенные взгляды и суетливо поводя бровями.
– Ой, забыла рассказать, – продолжила Ханна. – Когда я пришла, он катался на коньках.
– На коньках?
– На пруду около своего дома, – как хорошо, что ей вспомнилась эта подробность! Ханна с такой скоростью вывалила на подругу первую порцию подробностей, что в повисшем молчании начала было сомневаться, произвел ли ее рассказ должное впечатление. Однако в радостном возбуждении Аннабеллы со всей очевидностью читался интерес.
– И что, он хорошо катается? Небось, вовсю перед тобой рисовался?
– По-моему, неплохо. Но я не так уж долго за ним наблюдала. Он сразу перестал, как меня заметил.
– Тоже хорошо.
Муфта, похоже, напала на след. Она остановилась, вытянула дрожащую заднюю ногу, брыкнула ею и унеслась за дерево.
– И о чем же вы с ним беседовали до самого вечера?
– Все больше о поэзии.
– О поэзии. Что ж, это вселяет надежду.
– Ты правда так думаешь? – Ханна вспомнила долгие вязкие паузы в разговоре, но постеснялась о них упоминать: а вдруг это был дурной знак? Но ей так хотелось услышать мнение подруги, что она, на миг задумавшись, чтобы подыскать слова, вымолвила. – Он был весьма… замкнут.
– Время от времени ему положено уходить в себя, ведь он же поэт.
– Так я и подумала.
– Вот-вот, я правда считаю, что это вселяет надежду. Надо бы нам еще что-нибудь придумать. И к тому же я его так и не видела.
– Мы провели вместе не один час, – проговорила Ханна, затрепетав от одного лишь воспоминания, но ни единым движением не выдав своего волнения и шагая столь же мерно, как и всегда.
Весна
Свет лился из окна прямо на нее, и она казалась слишком хрупкой, чтобы выдержать его напор. Он видел, как на руках через морщинистую кожу проступают острые желтоватые кости. А впадина на виске напоминала вмятину от удара. Лицо до того исхудало, что было похоже на обтянутый кожей череп. Под глазами и под скулами пролегли глубокие тени.
Он пытался внушить ей, что она должна есть, а иначе ему придется кормить ее насильно. Твердил о молоке и заварном креме. О кусочках размоченного хлеба. В его голосе слышалось раздражение, он сердился на нее, как на неловкого ребенка, хотя на деле это он в своем неведении был подобен ребенку. Но она не в состоянии была ему объяснить, всякая попытка заговорить отзывалась болью в голове, к тому же собственный голос в последнее время вызывал у нее ужас, казалось, во рту поселилось какое-то крохотное существо, беспокойное и непредсказуемое. В нем не было ни капли от спокойствия и чистоты голоса внутреннего. И потому она не стала объяснять, что принятие пищи равносильно принятию бренного, плотского мира, где царят убийство, похоть и разрушение, что прикоснуться к еде – все равно что уподобиться червю, который вгрызается в землю, поедая и испражняясь. Возможно, это он и понял бы, но объяснить, что на Небесах видеть и вкушать пишу – одно и то же, она даже не надеялась. Смотреть – значит поглощать, это слияние без уничтожения. Никакого разрушения. Свет бесконечно перетекает в свет, во всем гармония и абсолютный покой.
– Вы улыбаетесь, – сказал он. – Надеюсь, это знак согласия. Иначе бодрость и жизнелюбие к вам не вернутся…
Не вернутся! Ну и глупость же он сморозил. И ведь даже невдомек, что сам себе противоречит.
– …и хотя вам еще достает сил, чтобы ходить, даже они иссякнут, если вы не прекратите себя истязать.
Он потер переносицу и вздохнул.
– Это все, что я намеревался сказать. Надеюсь, я выразился понятно.
Маргарет склонила голову. Что Мэтью Аллен принял за тот самый ответ, которого только и ожидал. Он погладил ее по руке, по высохшим палочкам-пальцам, и ушел к себе в кабинет, провожаемый взглядом Безмолвного Стража.
На столе лежал рисунок: чистота линий, мощь, рычаги… Стоило только ему пожелать, и благодаря этому чертежу о лечебнице можно будет забыть. Заманчиво, но, впрочем, его хватит и на то, и на другое, он ведь всегда был человеком многогранным. Он преуспеет. На чертеже был изображен механизм его собственного изобретения, улучшенная конструкция. Сам процесс черчения доставлял ему удовольствие, лишь подтверждая мощь его интеллекта. Четкие чернильные линии соединялись под прямыми углами, образуя трехмерный многоярусный рисунок машины, словно выраставшей из белого пространства листа. Совершенство замысла поистине неземное. Его жизнь изменится. Давно уже ничто не захватывало его с такой силой, разве только в юности, когда он открыл для себя френологию и прочие науки о душе. Изобилие блестящих идей, сплав страсти и возможностей, новая жизнь – все как у влюбленного. Мэтью Аллен был влюблен без памяти.
Обрывая полет фантазии, он сел за стол и стал продумывать детали. Двухлоточная система определенно превосходила другие: копировальный прибор и сверлильный станок соединялись строго симметрично. Он бережно отложил чертеж в сторону. Сегодня же он напишет Томасу Ронсли, этому молодому человеку, владельцу мастерской в Лаутоне, который вытачивает шестеренки из древесины граба, и пригласит к себе, чтобы тот ознакомился с его созданием. Тандем изобретателя и ремесленника, причем один из них – человек науки.
Он обмакнул перо в чернильницу и стряхнул каплю. «Многоуважаемый мистер Ронсли!» – начал он. И, приподняв голову, глянул в окно: слабоумный Саймон в испуге пятился от кричащей Клары, которая за что-то его отчитывала, и одновременно, разжав кулачки, осыпала свежесорванной травой. Мэтью Аллен вернулся к письму.
Элиза Аллен имела обыкновение, пошутив, прикусывать кончик языка и с озорным видом ожидать, как воспримет шутку дочь. Ханна отвела взгляд, мучительно покраснев – лицо её словно обдало жаром. В шутке не было ничего забавного, она вообще мало походила на шутку. Зачастую невозможно было понять, шутит мать или нет, разве только по этому ее несносному выражению лица и по выжидательному, пристальному взгляду. Мать всего-то спросила Ханну, что же это она не поинтересовалась мнением мистера Теннисона о книге, которую читает. Неловкость усугублялась тем, что именно читала Ханна. Неужели мать подглядела через плечо? В библиотеке отца из всех томиков поэзии она выбрала старую книжку Драйдена[11]11
Джон Драйден (1631–1700) – английский поэт и драматург, один из основоположников английского классицизма.
[Закрыть]. И там, среди затянутых, тяжеловесных, скучных своей правильностью стихотворений, состоявших сплошь из рифмованных двустиший, ей попалась песнь, начинавшаяся словами:
В пятнадцать свои – воплощенная прелесть,
Невинно на солнышке Сильвия грелась.
Про эту Сильвию говорилось, что «по части мужчин было ей интересно, зачем они вьются и жмутся так тесно».
Ханна была не слишком сведуща «по части мужчин», однако написано было весьма убедительно.
Целуют, вздыхают,
Пыхтят, умоляют,
И вьются, и жмутся,
И вьются, и жмутся так тесно.
Она яснее, чем когда бы то ни было, представила себе, что на самом деле происходит в миг накала страсти. Эти слова, этот легкий мотив заставили ее сердце биться чаще. И вьются, и жмутся так тесно.
Ханна села за стол и, не обращая внимания на недовольство Абигайль, отломила краешек от бутерброда, который ела девочка. Глядя поверх головы сестры, она заметила:
– Что ж ты вся перемазалась в масле, Аби? Ты же не кусок хлеба.
Абигайль воззвала к той, что обладала большей властью:
– Мама, она ест мой бутерброд.
– Ханна, не обижай сестру. Если хочешь бутерброд, возьми…
– Я не обижаю. Я думала, она поделится. Разве нам не следует приучать ее…
– Ханна, не перечь.
– Я и не думала. И вообще, я ухожу.
– Ох, и любишь же ты перечить!
– Вовсе нет.
День выдался погожий. Ханна шла к дому Аннабеллы; шаль свободно ниспадала с ее плеч. Дойдя до аллеи, она пощипала себя за щеки – вдруг повстречает его.
Аннабеллу она нашла в саду, под рано зацветшим терновником – та сидела с книгой.
– Доброе утро! – крикнула ей Ханна.
Аннабелла подняла голову, как всегда, осветив все вокруг своей красотой.
– Приветствую тебя, белокурая нимфа. Правда, под этим деревом все равно что в раю?
– Правда, – Ханна задумчиво, с одобрением оглядела дерево. Листья еще не раскрылись, виднелись лишь тонкие черные ветви и влажные белые цветы с трепетавшими на ветру лепестками. Горделивое дерево стояло, словно охваченное страстью, являя миру цветы, выраставшие прямо из мокрой, корявой древесины.
– Вот это красота! – воскликнула Ханна. – Пойдем прогуляемся?
– Что-то случилось?
– Да нет. Так, обычные тяготы семейной жизни, все как всегда.
– Ладно, я только предупрежу маму.
Ханна осталась одна. Одна. В тихом саду. Аннабелла жила совсем другой жизнью: единственный брат, книги, цветы и красота. Иногда Ханне, со всех сторон окруженной домочадцами и душевнобольными, великим множеством людей, что спешили или просто плыли по течению, казалось, что она живет прямо посреди дороги с оживленным движением.
Во время прогулки Ханна наблюдала, как на встречных действует красота подруги. Сознавала ли Аннабелла, что ее красота создает вокруг нее ореол, накладывает отпечаток на всю ее жизнь? Мужчины приосанивались, выпячивая грудь, и поспешно срывали шляпы. Деревенский парень, только что прогнавший мимо трех коров, приподнял кепку, глупо улыбаясь Аннабелле. Обладай Ханна подобным даром, она бы думала о Теннисоне с большей уверенностью. В конце концов, это ведь сила. А у Ханны силы не было. Она ничего не могла. Ни одна девушка ничего не могла сделать, чтобы выбрать мужа по сердцу: все они только вздыхают, тоскуют, мечтают да стараются быть на виду и казаться посговорчивей.
– Подснежники, – Аннабелла указала на куртинку подрагивающих белых цветочков. – Зайдем в церковь?
– Зайдем.
Это уже вошло у них в привычку. В первый раз казалось, что они преступают границу, совершают нечто запретное, недостойное, предаваясь в церкви праздным мечтаниям и восторженным чувствам. Теперь это стало частью ритуала. Они миновали покосившиеся надгробия в печальном молчании и даже не остановились, как прежде, чтобы сосчитать, кто сколько прожил, и пожалеть детей. Среди прочих была могила семилетней девочки, при виде которой Ханна не могла сдержать слез. Она и теперь мысленно поприветствовала девочку, проходя к холодной каменной паперти. Аннабелла с благоговейным видом потянула на себя тяжелую дубовую дверь, и они вошли. Дверь плотно затворилась, и все погрузилось в тишину, в которой шаги звучали особенно громко; они затаили дыхание. Приглушенные звуки, запах свечей, с которых сняли нагар, ощущение того, что совсем недавно здесь кто-то был. Аннабелла перекрестилась. Ханна сделала то же самое, творя молитву и одними губами, закрыв глаза, шепча имя Альфреда Теннисона. Слова, что слагались в ней столь пылко и страстно, безмолвно срывались с губ.
Аннабелла указала на каменные плиты на полу, куда солнце сквозь витражи отбрасывало едва различимый, переливающийся разноцветный круг. Ханна кивнула.
Она вошла в неф и остановилась у амвона, где на распростертых крыльях бронзового орла покоилась большая Библия. Ханна заглянула в нее. «В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога…» [12]12
Евангелие от Луки. 1:26.
[Закрыть]Выведенная вязью буквица напомнила ей, как красиво сочетались инициалы А. Т. и X. А., мечтательно начертанные ею на листе бумаги. Потом она бросила листок в камин, а сердце при этом колотилось так, будто она уничтожала доказательства убийства, «…к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария»[13]13
Евангелие от Луки. 1:27.
[Закрыть].
Она подняла голову. Аннабелла присела на скамью, обратив прелестные глаза вверх, к восточному окну. Ханна подошла к скамье по другую сторону от прохода. Опустившись на скрипнувшую доску, она посмотрела вверх, на витражи, на застывшие прозрачные фигуры вокруг распятого Христа, на Его красивую голову, безвольно свесившуюся на правое плечо. Ханна разглядывала Его тело, Его печальное лицо, и в какой-то момент в ней зародилось чувство неподдельного сострадания.
Долгую тишину прервал звук отворившейся двери: вошел церковный староста, мистер Трипп. Он перекрестился и прошел в ризницу, глянув из-под тяжелых, нависающих бровей на девушек, по всей видимости, молившихся. Он узнал дочь доктора и ту, другую, красавицу. Когда староста ушел, девушки переглянулись. Ханна показала на дверь: они поднялись и на цыпочках вышли.
Джону больше не дозволялось выходить за пределы лечебницы, не разрешалось даже вернуться к работе в саду адмирала. Ему нашли замену. А ключ забрали. Оставалось лишь бродить вокруг Фэйрмид-Хауз, сознавая, что за ним наблюдают. А все потому, что он осмелился бросить вызов.
Те несколько дней во тьме были подобны смерти, даже хуже: его лишили покоя, Бога, лишили надежды положить всему этому конец. Когда дверь захлопнулась, комната начала проваливаться, пока не оказалась глубоко под землей, глубже шахты. Он мог кричать из глубин, но никто бы его не услышал. Когда же дверь распахнулась, и он снова оказался наверху, навстречу ему с ревом хлынул разноцветный мир, заполняя пустоту его чувств. От такого напора он не устоял на ногах. Тяжелая голова склонилась, немощные руки обвисли, точно плети. Он сидел на земле, чувствуя, как солнце бьет ему в затылок, как его обвевает ветерок, и неподвижно, не имея сил пошевелиться, взирал на травинки у ног, на ползущего мимо муравья. Потом он спрашивал себя, а не привиделось ли ему всё это: он так жаждал вернуть себе мир, что этот мир мог оказаться плодом фантазии, порождением помутившегося рассудка, в то время как сам он оставался под землей. Однако облака, деревья, птицы – все выглядело в точности так, как ему помнилось.
Когда он очнулся и сообразил что к чему, его охватил праведный гнев. Джон затрепетал, померк и отступил, а его место вновь занял Джек Рэндалл. Он никогда не простит доктора, никто не останется безнаказанным. И заявляя об этом, он снова решил бросить им вызов:
Джек Рэндалл Чемпион в Профессиональном Боксе Просит Соизволения Заявить Спортивному Миру Что Готов Сразиться с Любым Желающим на Ринге или на Помосте за Сумму в 500 Фунтов или за 1000 Фунтов в Честном Бою за Тридцать Секунд Решится Победит или Проиграет для Него не Имеет Значения ни Вес ни Цвет Кожи ни Национальность Единственное Чего Он Желает Это Бороться с Тем Кому Хватит Отваги
Джек Рэндалл
Так да погибнут все враги Твои, Господи![14]14
Книга Судей Израилевых. 5:31.
[Закрыть]
Прошло немало времени. Он снова по большей части был Джоном, но его по-прежнему никуда не пускали. Он посмотрел в небо, на медленно плывущие высокие облака. Ухватился за свисавшую с дерева тонкую веточку и принялся разглядывать плотно сомкнутые трехгранные почки, походившие на крохотные пальчики младенца. Из леса донеслась дробь дятла, и он почувствовал, до чего же ему туда хочется. Он потянул за ветку и отпустил – ветка, запрыгав, взмыла вверх.
Джон подошел к скамейке. Сев, он заметил у себя в левой руке Библию, и вспомнил, зачем она ему. Вытащил из кармана листок бумаги и положил перед собой, намереваясь продолжить работу. Выводя завершающие, главные слова, он почувствовал успокоение. Они прогремели. Их услышали.
Дочери Израильские! плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу [15]15
Вторая книга Царств. 1:24.
[Закрыть] , чтобы вы были выше всяких похвал.
На поляне валялся пучок из трех перьев – ошметок разодранного крыла. Он походил на парус игрушечной лодки, трепещущий на ветру среди бурой листвы и хрупких пролесок, вспыхивавших тут и там, когда сквозь ветви деревьев пробивались лучи солнца.
Маргарет села и услышала, как в листве у нее над головой зашумел ветер. Однажды, еще в детстве, она упала в реку и стала тонуть, оглушенная нахлынувшей тишиной. Но ее спасли. Тем временем охвативший ее воздушный поток стал усиливаться, шум нарастал и достиг наконец такой мощи, что у нее перехватило дыхание. Еще немного, и она оторвалась бы от земли.
Ветер распался на одиночные глухие удары, взмахи крыльев. Ангел. Ей явился ангел. Она заплакала, роняя слезы, словно лепестки. Ангел остановился прямо перед ней. Сложил крылья, издавшие при этом шелестящий звук. И принялся расхаживать туда-сюда, ступая мягко, покачиваясь из стороны в сторону: его необычная поступь больше походила на танец. Пытаясь обрести опору в мире смертных, он распростер перед собой прекрасные руки, касаясь ветвей, листьев и оставляя пятна света на всем, чего бы ни коснулась его рука. Неимоверно медленно он обратил к ней свой лик. А когда заговорил, она почувствовала, что слова звучат прямо у нее в голове и в то же время полнят собою лес. Листья шелохнулись и затрепетали.
– Не плачь, – произнес он. – Я – ангел Господень.
– Простите меня, – сказала она. – Простите меня. И моего мужа.
Ангел склонился к ней, улыбаясь:
– Я послан к тебе с вестью.
Услышав тихий, полный любви голос, Маргарет осмелилась поднять голову: ангельский лик показался ей не в пример более тонким устройством, нежели человеческое лицо. На нем отражались малейшие изменения, сколь бы мимолетными они ни были, он переливался, как радужное оперение на голубиной шее.
– Он… Значит ли это, что Он идет? – спросила она.
– Не проси о встрече с Ним, – сказал ей ангел. – Его любовь подобна наводнению. Его сияние обжигает. Тебе этого не вынести. Но ты нужна нам. Протяни руку.
Маргарет повиновалась. Ангел опустил в ее ладонь что-то маленькое и круглое, размером с лесной орех, подобранный с земли.
– Что это? – спросила она.
– Это все сотворенное.
Маргарет вгляделась, залюбовавшись его миниатюрностью и хрупкостью. Она увидела бурлящие реки тоньше жилки листа, моря с приливами и отливами, напоминавшими движение маятника, а вокруг – сияющее небо, иные сферы и, наконец, темноту.
– Лишь благодаря любви Господа все это существует, – продолжал ангел. – Без Его любви…
– …оно исчезнет.
«Исчезнет. Исчезнет. Исчезнет».
Ангел протянул руку – на ее ладони снова ничего не было. Маргарет подняла голову и заметила, как деревья распростерли ветви-руки над ангелом, защищая его.
– Слушай первое повеление.
– Я повинуюсь. Целиком и полностью.
– Ты больше не Маргарет. Этим именем тебя нарекли родители земные, так называл тебя муж. Теперь ты нарекаешься новым именем.
«Нарекаешься новым именем». При этих словах травы и деревья замерли в почтительном ожидании. Она ждала, глубоко затаив дыхание.
– Ты нарекаешься Марией.
– Я не смогу, – Маргарет закрыла лицо руками.
– Таково Его Слово.
– Мария, – прошептала Маргарет.
– Мария.
– Мария, – отозвалась Мария.
– Ты должна свидетельствовать, Мария. Ты – избранная.
– Я не смогу. Я – ничтожество, шелуха.
– Такова Его воля. Он счел тебя достойной.
– Да, я всецело повинуюсь.
– Тогда ты знаешь, в чем твой долг.
– Что я должна делать?
– Изгнать их.
– Да. Да, конечно.
– А теперь я буду танцевать для тебя и вскоре исчезну. Ты же останешься исполнить Его волю.
Мария села и стала смотреть, как ангел танцует. Ликуя, он кружился и вился, прикасаясь к миру и оставляя вокруг себя свет. Вскоре все окрест пестрело пятнами света – он танцевал, окруженный мерцающим сиянием.
Ханна прогуливалась, перебирая в уме удивительные факты: поэт, высокий, красивый, сильный, брюнет – и вдруг он возник перед ней, будто бы прямиком из ее мыслей. При виде его она даже споткнулась, но под колоколом юбки этого не было заметно, и она безмятежно двинулась дальше, готовясь улыбнуться. Чего от него ждать сегодня? В ее мечтах кульминацией их очередной встречи должен был стать ни много ни мало как поцелуй: он обхватит ее своими большими руками, и губы их сольются в неистовом, возмутительном поцелуе.
Поэт вытянул шею, чтобы разглядеть приближающуюся девушку, и приподнял широкополую шляпу.
– Мисс Аллен, верно? Узнаю ваш силуэт.
– Правда? Ну да. То есть это я. Доброе утро.
Он подошел поближе, чтобы лучше ее видеть и не повышать напрасно голоса. Ханна ощутила резкий запах его пота.
– А ведь вы с книгой, – сказал он.
– Да, так и есть.
– А позволите спросить, что это за книга?
– Да, конечно. Это… – она поднесла книгу к глазам и прочла, что написано на корешке, как если бы успела позабыть. – Это Драйден. Стихи Драйдена.
– И где ж этот Драйден был вами найден, а? – Он засмеялся собственному каламбуру, взглядом приглашая ее присоединиться. И она ответила на его дружеский жест – правда, вышло чуть более нарочито, чем ей того хотелось бы.
– А позвольте спросить, – нарушила она затянувшуюся паузу, – что сейчас читаете вы?
– Да бога ради. Тоже стихи, хотя, полагаю, не с таким удовольствием, как вы. Свои собственные. Я готовлю книгу.
– Как замечательно!
– Вы считаете? Не думаю, что критики с вами согласятся. Если мне и удастся когда-нибудь ее издать, едва ли они встретят ее с большим воодушевлением, чем мои предыдущие опусы.
– Ну, критики – они же… – Она понятия не имела, что представляют собой критики, и потому пренебрежительно махнула рукой. – Они же критики. А не поэты. А я буду с нетерпением ждать, когда она выйдет в свет. Быть может, вы даже подпишете мне экземпляр. Как чудесно, что у нас здесь появился поэт – ну, если не считать мистера Клэра.
– Мистера Клэра?
– Джона Клэра. Он лечится у моего отца.
– Джон Клэр, поэт-крестьянин? Вот оно что. Так… – Теннисон нахмурился. И в этот миг из-за облака выглянуло солнце. Цвета стали глубже. Засверкал гравий на дорожке. Ветерок заворошил листву.








