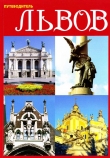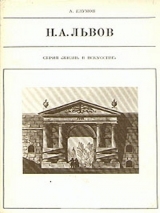
Текст книги "Н.А.Львов"
Автор книги: А. Глумов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Тайна женитьбы Львова соблюдалась строжайше. Даже Хемницер не знал о ней: он сделал Марии Алексеевне предложение. Разумеется, ему отказали. А тут в 1781 году вышел указ, в силу которого Берг-коллегии упразднялись, Горное училище поступало в ведение Казенной палаты; Соймонов ушел под предлогом болезни в отставку, следом – Хемницер. Он стал искать новой службы.
Львов оставался в семействе Дьяковых по-прежнему непризнанным, несмотря на бриллиантовый перстень монархини и золотую с алмазами табакерку Иосифа II.
Тяжело было жить с любимой женой в разных домах, скрывать от всех любовь и опасаться ежеминутно, что их брак будет раскрыт. Позже, в октябре 1783 года, Львов признавался в письме к А. Р. Воронцову: «Четвертый год как я женат... легко вообразить извольте, сколько положение сие, соединенное с цыганскою почти жизнию, влекло мне заботы, сколько труда... не достало бы конечно ни средств, ни терпения моего, есть ли бы не был я подкрепляем такою женщиной, которая верует в Резон, как во единого бога»26.
Мария Алексеевна поистине была воспитана литературой просветителей. Притом чувствовала себя Львовой и этим гордилась. Как полновластная хозяйка она вписывает собственной рукой в интимную черновую тетрадь своего мужа сочиненные ею французские стихи «На мой портрет», заменяя фамилию «Львова» прописной буквой с многоточиями: «Под этой надежною кистью проступают черты Л...».
К какому же портрету относятся эти стихи? К рассмотренному выше портрету 1778 года? Нет, в 1781 году Левицкий написал еще один портрет Марии Алексеевны Дьяковой, хранящийся ныне в Третьяковской галерее. Но атрибуция портрета как портрета «Марии Алексеевны Львовой» ошибочна: для всех, и для Левицкого, она была пока еще «Дьякова».
Если взглянуть на оба полотна – 1778 и 1781 годов, – то в первое мгновение покажется, что тут изображены две разные женщины, до такой степени изменилась прежняя Машенька. А ведь прошло всего только три года! Былая чуть кокетливая нерешительность сменилась спокойной, горделивой уверенностью. Девическая припухлость лица, пышные щечки, мягкий округлый подбородок исчезли. Даже улыбка, прежде чуть робкая, еле приметная, стала уверенной, спокойной. Ум, сила характера ощущаются и в лице и в манере откидывать голову, властно, чуть величаво. Даже глаза ее стали другими. Такие же огромные, необъятные, они утратили былую доверчивость, нежную, лучистую влажность. Перед нами женщина, призванная повелевать и приказывать, притом мягко, выдержанно и тактично.
Лишь густые темные волосы, прическа остались такими же. Тот же тяжелый пышный локон ниспадает на плечо... Ей уже двадцать шесть. По понятиям века ей пора, давно пора замуж. Родители даже тревожатся. По она отвергает всех претендентов.
ГЛАВА 4
1781
В 1781 году Львов отправляется в путешествие по Италии. О пребывании Львова в Италии узнаем из его дневника. Этот «Итальянский дневник, или Путевые замечания» принадлежал в начале XX века известному коллекционеру Н. К. Синягипу. Некоторые выдержки из него искусствовед В. А. Верещагин опубликовал в «Старых годах»27.
«Дневник» – это небольшая изящная записная книжка в переплете свиной кожи, закрывающаяся клапаном. Она должна была легко умещаться в кармане кафтана. Восемьдесят листов почти все испещрены поспешными записями, беглыми зарисовками, подсчетами. Почерк торопливый, крайне неразборчивый. Судя по записям, Львов выполнял чье-то поручение осмотреть картинные галереи в Италии, быть может, закупить что-либо. По всей вероятности, распорядилась направить его в Италию императрица, озабоченная расширением коллекции Эрмитажа. В «Дневнике» нет записей об архитектурных шедеврах, то есть о том, что Львова должно было бы в данный период интересовать больше всего. О встречах с людьми – лишь один краткий рассказ; бытовых зарисовок – тоже всего только одна; нет рассказов о путевых приключениях. Все показывает целенаправленность путешествия: подготовить материал для делового отчета. Ио как художник он этот материал воспринимает и передает живо, образно, обнаруживая, как всегда, острый, наблюдательный глаз.
Что это его вторичная поездка в Италию, узнаем уже на первом листе: «В Ливурну в другой раз приехал, 1781-го года, июля 7-го», далее такая же запись, касающаяся Ватикана и Флоренции. «Во время службы его по дипломатической части, – пишет первый биограф, – неоднократно послан он был в чужие края. Он был в Германии, во Франции, в Италии, в Испании».
К поездке в Италию Львов готовился тщательно. Он прочел изданную в 1764 году и завоевавшую широкую известность «Историю искусств древности» И. И. Винкельмана. Об этом говорит черновая тетрадь: «Особенно примечательны статуи Иларии и Фебы в Фивах, а также лошади Кастора и Поллукса из эбенового дерева и слоновой кости, работы Дипина и Скиллида, учеников Дедала»28.
Как видно из дневника, Рафаэль, Гвидо Ротпт, Тициан, Лпдроа дель Сарто – любимые художники Львова. Рафаэля он называет «божественным». Его творчество он знает теперь весьма основательно и даже отваживается быть судьей его картин и общей «манеры». Так, во время осмотра галереи. Уффици Львов записывает свое категорическое суждение: рисунок «Афинской школы», который приписывается «Рафаилу», не похож на его почерк, на «смелые, выработанные рисунки» Рафаэля, которые он видел в Риме, преимущественно в собрании князя Альдобрандини.
Львов делит творчество Рафаэля на три периода. В первом он находил общность стиля с современными Рафаэлю художниками, хотя отличал разницу «в расположении фигур». Краски стушеваны, одежда яркая, но простая, даже бедная, лица гладкие, почти без полутеней, волосы «выбранные». В «тоне красок лицевых» он видел сходство с манерой русских живописцев – «наше письмо, на лице писаное».
Для второго периода он считает характерным большее количество полутеней, лучшее знание анатомии, меньшую «стушевку» и зеленоватые полутени, которые «теряются с румянцем». Эту манеру он определяет тоже как «прилизанную», присущую старинной флорентийской школе, – только Андреа дель Сарто умел ее применить и сделать «более острой».
Третий, последний период в творчестве Рафаэля Львов характеризует по картине «Иоанн Креститель в степи». В ней он отмечает «неведомые до того краски, круговые черты, живой и смелый рисунок, ученость анатомии, а более всего, неподражаемые физиономии».
Львов все же ставит в упрек Рафаэлю погрешности в анатомии: у юного Иоанна Крестителя мускулы не могли быть так «решительно и сильно обозначены».
Пытается он разобраться также в периодах творчества Гвидо Рени. Например, в Ливорно, в доме английского консула, среди других картин выделяет: ту, на которой изображена «Венера, целующая купидона, и один молодой сатир, поднявший завесу и прельщающийся по-иезуитски телом богини... Но видно, что он писал сию картину в начале... потому, что она очень еще жестка, а особенно лицо Венеры». «Прекрасный колорит» – основной, по его мнению, признак последнего периода творчества Гвидо Рени.
«Наконец картина божественная и лутчее неоспоримо произведение кисти Твидовой, по признанию всех знатоков и живописцев – отрицание святого Петра, коему святой Павел, пришедший с книгою, делает упреки. В лице святого Петра изображено состояние его чистой совести, а в движении рук и головы такое отрицание, какое делает человек, чувствующий преступление свое и гнусность оного. Впрочем такая истина, такой волшебный свет и тень, что фигуры выходят из картины. Кажется, святой Петр говорит с гневом и с жаром святому Павлу, кротко ему пеняющему, да не правда, не правда, поди прочь, это не правда».
Мы уже убедились, как высоко расценивал Львов творчество Андреа дель Сарто, умевшего заострять «характер прилизанный старинной школы флорентийской». И все же, называя его «приятным и неподражаемым», а творчество его «волшебством», описывая картину Андреа дель Сарто «Святая фамилия», Львов упрекает художника за изображение Мадонны: «И если это не портрет какой-нибудь хозяйки, заказавшей картину, то стыдно Андреа дель Сарто». И по поводу «Мадонны» Андреа дель Сарто в собрании сенатора Капрара он замечает: «Хороший рисунок и колера; но я не знаю, можно ли или должно ли божеству приписывать упражнения и человечество унижающие. Он изобразил Богоматерь, держащую под Христом пеленку, как бы подтирая нечистоту Христа Спасителя».
В представлении Львова уже сложилось незыблемое понятие о красоте. Вслед за Винкельманом он считал, что созерцание идеальных форм искусства гармонирует с внутренним миром человека, смягчает характер его. Восторженный поклонник природы, он возмущался всяким проявлением безобразного в искусстве. При всем уважении к Пьетро Перуджино, он так отзывается об изображении Медузы: «Постоянный любитель одной физиономии, которую давал он Христу и богоматери, и девкам, вдруг изменил своей привычке, изобразил издыхающую медузину голову, лрегнусною, гадкою. Мыши по ней ползают, мыши над нею летают».
Но еще более возмущает его во флорентинской галерее полотно Питера Брейгеля Младшего (1564-1637): «...мрачные своды ...коллекция разнообразных чертей, коих бы не хотел я и во сне видеть ...между прочим, рак преужасный, пожирающий человека – отвратительно... самая сумасбродная горячка, ничего адского, подобного гнусности сей, выдумать не может. Святой лежит ниц на земли, обороняясь на оборот Крестом против чудовища превеликого, стоящего над ним раскорячась, в виде скелета лягушечьего иссохшего ...на костях от места до места видно сизое, инде кровавое тело, слизкое... На предлинной тонкой шее большая кость лошадиной головы, гадкою кожей чуть обтянутая, разевая крокодиловый рот, имея клыки и взор – ужасной».
Даже Дидро, признавая Рубенса выдающимся живописцем, осуждал фламандскую школу и «грубые формы его страны».
В картинах Рубенса, хранящихся в венской галерее Бельведера,Львов, хотя и видел жизнерадостное восприятие фламандского быта, упоение плотью, по отмечал их непристойность: «Рубенс здесь бесчисленной, важной, блестящий поразительно до первого размышления. Картин его множество; но я, смотря их так, как их, кажется, смотреть должно, помню только следующие:
1. Святой, изгоняющий бесов из прокаженных. Женщина одна, вся диявольскою силой кажется наполнена, весь ад в ней.
2. Святой Франциск, проповедующий в Индии, перед прекрасной архитектуры европейской портиком, где стояли идолы в нишах, упадающие теперь от силы словеси божия. Блеск колеров то же почти производит на зрителя, не позабудьте, что на минуту, и то па минуту забвения.
3. Три грации, предородные, титьки круглые, фунтов по шесть. Стоят спокойно. Но тела их кажутся падучею болезнью переломаны. Мужчина, пришедший к сему зрелищу, дивится более, кажется, их уродливым пропорциям, нежели красотам кисти.
4. Сад любви. Малая картина, куда Купидон препровождает Рубенса и жену его – запапрасно.
5. Встреча...
6. Остров Цитеры – торговая фламандская баня, исполненная непристойностями. Там иной сатир сажает себе нимфу... не на стул; /фугой ухватив ее за то место, где никакой хватки нет. Спасибо, что без движения. И на другой рисунок сей картины смотреть нельзя.
7. Не помню, какой-то папа какому-то императору делает, не знаю, запрещение, не знаю, разрешение, входит, не знаю, не входит, в церковь. Картина большая и одна из лутче рисованных в сей коллекции; потому что мало фигур голых.
8. Естьли кто хочет полюбоваться на жену Рубенсову, то, несмотря на то, что она вся голая, гляди только голову. Кажется, что ревнивая кисть ее супруга для того собрала все пороки тела женского (особливо ниже пояса), чтобы и в картине никто им не воспользовался».
О картине Рубенса в галерее Уффици Львов записал: «Картина дородного и фиглеватого Рубенса, где, однако, изломаны тела его; по теперь я не дивлюсь, что молодой Геркулес предпочел стезю добродетели, нашед в ней добрую старушку проводником. Стезя, ведущая к утехам, нимало была не приятна. Он видел пьяную, голую, толстую купчиху в виде Венеры, бесстыдно обнажающую отвислые свои прелести, толстые ляжки и красную кожу». Львову больше правятся героини полотен Тициана: «Даная Тицианова, лежащая или лутче полусидящая на постеле, розами усыпанной, имея левую руку между ног и держащая простыню для употребления после утехи. На втором плане женщина, держащая сосуд, в который собирает она золотой дождь. Лицо сей Данаи лутче всех и прекраснее и експрессивнее всех и Венер и Данай тициановых, коих видел я доселе».
Сравнивая две картины Тициана, Львов пишет: «...первой тело не столько красивое, пропорции тела не так искусные и неживые: но видно тело крепкое, здоровое и такое, на коем не без причины можно сковать щастие... Вторая Венера красавица. Части тела ее лехкие и нежные; руки маленькие; груди островатые и ноги под икрами очень тонкие. Словом, все красоты, обещающие хорошую утеху, которую одна беременность или другой какой болезни припадок совершенно в ничто обратить может».
Львов называет искусство Тициана «волшебством». «Я ничего не видел совершеннее тела сей Венеры и ничего подобного кисти сего мастера. Все круглости ощутительные изображены одними полутенями; пи какая грубая и сильная тень, прибежище обыкновенное посредственных живописцев, не портит натурального тела красавицы; написал он тело сие на белой простыне, которая, однако, не портит своею белизною».
В дневнике дана оценка работам не менее чем восьмидесяти художников и скульпторов, часто малоизвестных. Так, например, дважды упоминается Готфрид Шалькен (1643-1706).
Но вместе с тем имена величайших художников – Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рембрандта, Гольбейна – упоминаются лишь вскользь. И опять возникает предположение о четких заданиях, которые были даны Львову при выезде из России: что осмотреть, о чем сделать доклад, к чему, быть может, даже прицениться. Знаменательна запись о том, что английский консул Удин рассказывал Львову, будто картина Тициана «Торжество богоматери» была им куплена в Венеции очень дешево для русского двора, но, не дождавшись из Петербурга ответа, он продал ее папе Ганганелли (Клименту XIV, 1769-1774) за шесть тысяч скуди. При этом консул говорил, что «мы могли ее иметь за половину оного, когда англичане давали четыре тысячй червонцев». Но еще любопытнее то, что, перевернув страницу, мы читаем: «Он же шарлатанит» – фраза написана Львовым несомненно в присутствии консула для какого-то своего русского спутника, чтобы спутник помог направить ход торга.
Редкостные камни «Глаз света» и «Гелиотроп, или Камень солнца» Львов рассматривал во Флоренции в физическом кабинете аббата Фонтана.
Все это снова и снова подтверждает мысль об определенных заданиях Екатерины. Не потому ли он так подробно описывает «Гардеробу» в Палаццо Веккьо во Флоренции.
Особый его интерес вызвали оригиналы булл 1439 года, охраняемые специальной стражей, и пергаментные греческие евангелия XIV века, расписанные золотом и гуашью.
В дневнике немало замечаний о лицемерии и притворной набожности католического духовенства. Львов возмущается «зверскою набожностью», из-за которой было «изрезано в несколько кусков полотно Тициана «Дапая», негодует против коннетабля принца Колонна, «разбивающего в исходе 18 века прекрасные тела греческих Венер для избежания от соблазну... в 55 лет века своего превзойдет он всех остроготов и вандалов, искоренивших лучшую часть художеств в Италии».
В Пизе Львов не может отказаться от соблазна записать архитектурные впечатления: «Соборная церковь. Храм крещения, висящая колокольня и кладбище достойны примечания. Церковь сколько своею величиною, столько мрамором внутре и снаружи и несколькими колоннами из красного порфира; три двери бронзовые работы Джиовапни Болонья, превосходят все те, кои я до сего времени видел». Он упоминает алтарь, состоящий из ляпис-лазури, из брокатели, из зеленого мрамора, но считает, что богатство здесь превалирует над искусством.
Пизанская «падающая» башня настолько поразила его, что он тщательно ее зарисовал.
«Ужасное дело видеть сию громаду, почти па воздухе висящую. А войтить наверх оной по очень покойной, однако, лестнице из нашей шайки никто, кроме меня, не выбрался; но и я не мог бы более минуты глядеть вниз с ее навесу», – ему все время казалось, что он «падает» или «как с качели спускается».
И еще одну краткую запись об архитектуре он заносит в дневник на итальянском языке. Из всех театральных зданий Италии он предпочитал большой неаполитанский Сан Карло, который пришлось ему видеть «по счастливой случайности иллюминированным, – попстине вещь поразительная».
В этом театре он восхищается танцами Вик и Росси, пением Консолини и Каррары: «Легкая, изящная Басси, достойная соперница Росси, с лицом Венеры, телом Эвтерпы, осанкой Нимфы и, что еще важнее, чистотой богини Охоты. О, если бы найти Добродетель в Неаполе! В театре, где так хрупок трон этого божества».
Встречался ли Львов с актерами итальянских театров? С кем свел он знакомство в Италии? Он не мог не встретиться с молодым Александром Бакуниным, обучавшимся как раз в эти годы в Падуапском или Туринском университете. Pie здесь ли произошло их знакомство, в дальнейшем, в России, перешедшее в дружбу?
Но Львов записывает об одной только встрече, знаменательной для него, – с восьмидесятитрехлетним Пьетро Бонавентуре Метастазио, достославным сочинителем многочисленных музыкальных трагедий: «3-е августа 1781 года, в Вене. Сегодня был я у Метастазия. Прием сего доброго и милого человека останется мне и без записки памятным. И записал для гордости, что видел первого нашего века драматического Стихотворца для того, чтобы Ив. Ив. [Хемницер] не хвастал, что он Руссо видел. Метастазио говорил со мною целый час, обнял и поцеловал меня, прощаясь».
Накануне отъезда из Флоренции Львов слушал прославленного скрипача Пьетро Нардини (1722-1793), автора скрипичных концертов, сонат, квартетов.
В Вене ему довелось испытать еще одно сильное музыкальное впечатление: «30 июля был я в церкви святого Карла, новою архитектурою дурно прибранной, где г-н Диц дирижировал с успехом собранным оркестром и напомнил мне смычком своим учителя своего Нардиния». Эта заметка показывает, что Львов вполне профессионально разбирался в скрипичном искусстве.
В дневнике много рисунков. Кроме «падающей» башни в Пизе есть наброски: арка ворот в Шенбрунне, приморская крепость, городская набережная с башней, Палаццо Веккьо во Флоренции, городской пейзаж с мостом через реку...
Последняя запись Львова в его дневнике – стихотворение, посвященное Марии Алексеевне, остававшейся для общества пока еще Дьяковой.
«Уж любовью оживился,
Обновлен весною мир,
И ко Флоре возвратился
Ветреной ее Зефир.
Он не любит и не в скуке...
Справедлив ли жребий сей -
Я влюблен и я в разлуке -
С милою женой моей.
...Красотою привлекают
Ветренность одну цветы;
Но оных изображают
Страшной связи красоты.
Их любовь живет весною,
С ветром улетит она.
А для нас, мой друг, с тобою
Будет целый век весна».
Итальянский дневник Львова – одно из интереснейших описаний путешествий русского за границей. Неугасимое пламя пытливости, любознательность и любопытство ко всем проявлениям духовной жизни, жажда знаний и образных впечатлений сказываютсяв каждой строке дневника. И становится ясным, почему Львова так ценили друзья и современники – Бакунины, Соймоновы, Безбородко, – почему называли его «гением вкуса», почему Державин, Капнист, Хемницер безоговорочно признавали его авторитет.
ГЛАВА 5
1782-1784
Безбородко после встречи императрицы с Иосифом II в Могилеве быстро пошел в гору. Его находчивость в моменты острых осложнений в политике, «сказочная память», остроумие, умение ладить с императрицей – все это отмечено современниками. Европейские посланники прочили ему блестящую карьеру.
Назначенный в конце 1780 года «полномочным для всех негоциаций» при Коллегии иностранных дел с чином генерал-майора, при сохранении обязанностей секретаря, он через год получает в свое ведение международную «секретную экспедицию» и одновременно дела Почтового департамента, более других учреждений приносившего доход государству.
Вслед за Безбородко и Львов перешел служить в правление почты. В апреле 1782 года его называют «членом Почтового департамента», а в июне – «советником посольства, главным присутствующим в Почтовых дел правлении». Взаимоотношения его с патроном стали носить такой дружеский характер, что в конце года он переезжает жить к нему во вновь отстроенный дворец, в «особые покои». Кваренги только что закончил отделку этого сравнительно небольшого по размерам здания, объединив купленные Безбородко подворье курского Знаменского монастыря на углу Выгрузного переулка с соседним домом танцовщика Топоркова. Интерьер дворца был отделан с редким богатством и вкусом. Можно полагать, что Львов положил много труда на внутреннее убранство дворца.
Напротив дворца по Выгрузному переулку построили обширное трехэтажное здание Почтового стана: 7 июня Безбородко отдал приказ Главному почтовых дел правлению приступить к строительству этого огромного дома по чертежам Львова, получившим высочайшую апробацию.
Здание сохранилось. В нем и ныне помещается Почтамт (ул. Союза связи, 9). На месте нынешнего почтамтского зала с застекленным потолком прежде располагался внутренний двор, окруженный каретными сараями, конюшнями, казармами, мастерскими, складами и погребами. Арки ворот – въезд во двор – находились в середине каждого фасада. На втором и третьем этажах были квартиры для чиновников Почтового ведомства. На фронтоне, украшающем главный портик с четырьмя стройными дорическими колоннами, была выведена лаконичная надпись: «Почтовый стан».
Проектируя здание, Львов исчерпывающе учел специфику деятельности того учреждения, для которого оно предназначалось. Не следует забывать, что в обязанности почт в то время кроме развоза писем, денег, документов, посылок входила также перевозка пассажиров. Львов сумел эту обширную «кухню» компактно разместить в одном здании.
Строительство дома Почтового ведомства было закончено в 1785, Почтового стана – в 1789 году. Львов оставил на здании своеобразный «авторский знак»: на карнизе, охватившем весь периметр дома, им водружены лепные маски львов.
В доме Почтового стана архитектор выделил апартаменты для себя, в которых жил с семьей многие годы и даже приютил на длительное время художника В. Л. Боровиковского. По вечерам у них собирались друзья, и хозяин в шутку называл свою квартиру «станом».
Нарастающая потребность страны в почтовой связи, в средствах ускоренного передвижения, вызванная ростом городов, развитием торговли, была угадана политическим чутьем Безбородки. Он велел разослать типовые проекты почтовых дворов по многим уездным и губернским городам России – от Эстландии до Украины и Азова. Создателем этих проектов был опять-таки Львов.
В 1782 году Львов был занят сверхмерно, забот все более и более прибывало. К тому же Безбородко купил себе дачу на окраине Петербурга, на Полюстровской набережной (ныне Свердловская набережная, 5), напротив Смольного монастыря. Дача была возведена десять лет назад В. И. Баженовым. Теперь Кваренги начал ее перестраивать. Позади баженовского дома был разбит грандиозный, свыше десяти гектаров парк, в прошлом излюбленное место гуляний жителей петербургского предместья. Дача была настолько популярна, что даже тракт, идущий от Арсенальной улицы до Финляндской железной дороги, назвали Безбородкинским проспектом (ныне Кондратьевский).
В парке было множество затейливых павильонов, мостиков, статуй. В письмах и мемуарах современников упоминается огромная медная фигура Пифии в двести пудов, изваянная Рашеттом, и чугунный бюст хозяина дома, вероятно, работы Шубина. Достоверно известно, что Львовым построен «Первый садовый домик на даче Безбородко». В разбивке парка Львов принимал, конечно, самое деятельное участие.
При отделке дворца на Почтамтской и дачи в Полюстрове Безбородко пришлось позаботиться и о картинах. Заказал он Левицкому портрет Анны Давиа Бернуцци, своей пассии, артистки итальянской оперы-буфф.
Анна Давиа блистала на императорской сцене в операх Галуцци и Паизиелло. Ездила в Могилев с императорской труппой, сопровождая Екатерину на встречу с Иосифом II. Безбородко был от нее без ума и платил ей ежемесячно «пенсию» в восемь тысяч рублей ?29.
Давиа отличалась своеобразной, типично южной красотой. На портрете Левицкого любуешься цветом ее лица, удивленными, высоко поставленными черными как смоль бровями, томными глазами с выражением наигранного простодушия и легкой игривой улыбкой на нежных губах.
Портрет Анны Давиа в новой для того времени технике гравюры лависом создал и Львов. На гравюре Львова Давиа изображена в профиль. В глазах то же лукавство, но уже с оттенком жесткой настойчивости, что подчеркнуто также линией носа и лба, напоминающей профиль хищной птицы.
Львов, облачившись в мундир Почтового ведомства, сделавшись «главным присутствующим в Почтовых дел правлении», «советником посольства», да еще награжденный в апреле 1782 года за представленные модели кораблей бриллиантовым перстнем (о чем постарался, разумеется, Безбородко), пытается использовать свои связи для друзей: и Капнист и Хемницер нигде не служили. Пристраивать их к делу оказалось не так уж легко. Проще получилось с Державиным: Безбородко 18 июля 1782 года выхлопотал у государыни награду за составленное им «положение», посвященное кругу обязанностей Государственных экспедиций о доходах и расходах, – Державин был возведен в чин статского советника.
Львовский кружок в 1782 году собирался преимущественно в доме Державина на Сенной, у которого оказался добротный кров и хозяйство, а главное, отличная хозяйка. Катерина Яковлевна, дочь кормилицы цесаревича Павла Петровича и камердинера Петра III, унаследовала от отца своего, португальца, чисто южную красоту – смуглое лицо, иссиня-черные брови и волосы, огромные миндалевидные глаза.
«Она пленялась всем изящным, – вспоминает И. И. Дмитриев, – и не могла скрывать отвращения своего от всего низкого»30. Всем нравилось ее гостеприимство, спокойный, ласковый, веселый нрав. Пленира, как звал Державин жену, была образованна, много читала, пела, вышивала, рисовала, переписывала для мужа стихи, умела ловко вырезать портретные силуэты из черной бумаги. Одному из таких ее силуэтов Львов посвятил шутливые стихи:
«Державина сего Гаврилу полюбила,
Чему дивится свет, -
И мужа доброго дурным изобразила.
Так вот и силуэт,
Которого чернее нет.
О, туши мрачна сила!»
Екатерина Яковлевна беззаветно любила мужа, была с ним уступчива, тиха и смиренна, лаской смягчала бурную вспыльчивость и необузданные приступы гнева. Но когда было надо, то умела постоять за себя, а главное – за Ганюшку, тем более что, несмотря на предыдущие уроки, он продолжал себя вести задорно, задиристо.
Написал Державин новые стихи, опять нападал на самую верхушку вельмож, власть имущих. Потемкин, Панин, Вяземский, Нарышкин, Алексей Орлов нашли в них явное, при этом весьма непрезентабельное отражение. Даже царица была задета в стихах: поэт изобразил ее далеко не сверхъестественным существом, возвышенным гением, безгрешной богиней, как это было принято в поэзии тех лет, а самым обыкновенным человеком, наделенным человеческими слабостями, а это казалось дерзостью для того времени. Стихи получились превосходнейшие, легкие, местами шутливые, с лексиконом повседневных, самых обыденных слов, заимствованных из просторечия, чем опять-таки вызывающе смело нарушались заповеди выспренней классической оды. Это были прямые ростки реализма, говоря современным нашим языком. А проявление реализма в ту эпоху неразрывными нитями связано с критикой существующего строя и крепостного порядка.
Львовский кружок понял громадное значение новаторской оды Державина – это было, по сути, преобразование, разрушение старых канонов. Однако после обсуждения предпочли от распространения стихов воздержаться: опасались неприятностей. И Державин запер свою оду в бюро.
В мае Львову наконец удалось выхлопотать у Безбородко службу Хемницеру: назначение на должность генерального консула в Смирне. Пришлось согласиться. Капнист, узнав об этом, воскликнул: «Да подумал ли ты хорошенько, что ты сделал? Да ты таки без друзей там с ума сойдешь!»
Но другого выхода не было. С тоской и смятенной душой в ночь с 6 на 7 июня Хемницер выезжает из Петербурга. Здесь он оставил «всех тех, которые мне жизнь приятною делали». Львов рассказал ему о своей тайной женитьбе. Однако ни тени ревности не найти в письмах Хемницера. Он постоянно шлет Марии Алексеевне поклоны, скромные подарки, вспоминает прощальную прогулку с нею вдвоем в белую ночь по мосту, «который на Петербургскую сторону», ее обещания посылать ему письма в далекую Турцию. Он продолжает ее любить.
Непривычный климат, непривычный быт, непривычные люди окружали Хемницера в Турции. Он сообщает, что в Константинополе и в Смирне грязь, нечистоты, смрад, дохлые собаки и кошки на улицах, родовая месть среди населения ... мщение за мщение... режут и режутся всякий день», а у него – отсутствие денег. Он сам в окружении недоброжелателей – «...зри и виждь: вот змеи шипящие, а ты молчи: глотай, все глотай... Письма от вас, а особливо от тебя, весьма мною ожидаемы. Только у меня и праздника»31.
Львов не забывал его, писал ему часто и много, посылал ему рисунки, стихи, давал деловые советы, без конца исполнял его поручения, был посредником в дипломатических связях с Коллегией иностранных дел, с Бакуниным и Безбородко, в дружеских – с Державиным и Капнистом.
Львову удалось пристроить наконец и Капниста к Почтовому департаменту: его назначили на должность так называемого контролера. Однако Капнисту чиновничий мир был тягостен. Он выхлопотал себе отпуск и уехал в свою Обуховку.
Поздней осенью того же 1782 года Капнист из Обуховки послал с оказией Львову письмо, в котором взмолился выхлопотать ему отставку, – в Почтовом дел правлении у него хватило терпения прослужить всего несколько месяцев. 19 декабря шлет второе письмо: «Никак не старайся... доставлять мне какого-нибудь другого места, я хочу жить совершенно для себя»32.
В конце года новое событие произошло также в жизни Державина.
Его часто посещал сослуживец, советник Гражданской палаты О. П. Козодавлев, недавний студент Лейпцигского университета, сравнительно молодой еще человек, тоже поэт. Он был близок княгине Е. Р. Дашковой, которая вернулась в Россию и помирилась с Екатериной II. Во время беседы Державин полез зачем-то в бюро и выбросил на стол стихи о вельможах и о царице, валявшиеся в ящике около года. Козодавлев прочитал несколько строф и выпросил рукопись домой па денек, поклявшись никому ее не показывать. Вечером прислал стихи обратно. Через несколько дней Державин узнал, что на званом обеде Шувалов читал вслух его стихи. Об этом сразу прослышал Потемкин, затребовал оду для себя. Княгиня Дашкова тоже прочла, восхитилась, захотела стихи поместить в нервом же номере «Собеседника любителей российского слова», новом журнале, который она готовилась издавать.