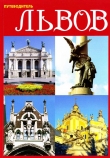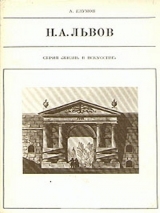
Текст книги "Н.А.Львов"
Автор книги: А. Глумов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Пережитые годы социальных потрясений родили на свет мечту о равенстве людей, то есть лучшую идею просветителей, считавших, что провозглашение высшего разума, борьба с церковными предрассудками и с уродствами феодализма вызывает в мире стремление к новому обществу, управляемому законами, свойственными природе, естественным правом. Отсюда «естественный человек», отсюда равенство и равноправие. В России к концу столетия явно укреплялось демократическое направление. В противовес сухому, отвлеченному рационализму в искусстве появилась тяга к первозданному человеку, к мудрости его примитива, не тронутого цивилизацией.
Народные национальные традиции все более привлекали внимание передовых людей. Непосредственность и чистота народного творчества подводила к идее самобытности, и отсюда – к основам реализма в искусстве.
В «Путешествии из Петербурга в Москву», в главе «Тверь», где напечатана «Вольность», Радищев приводит рассуждение об обновлении русского стиха: «Парнас окружен ямбами, а рифмы стоят везде на карауле... российское стихотворство, а и сам российский язык гораздо обогатились бы, если бы переводы стихотворных сочинений делали не всегда ямбами».
Львов читал эту книгу, а па главу «Тверь» должен был, естественно, обратить особое внимание. «Неизвестное лицо» (известный русский историк и археограф Евгений Болховитинов), приславшее в 1804 году из Новгорода для публикации в журнале «Друг Просвещения» поэму Львова «Добрыня, богатырская песня», вспоминает, как лет десять тому назад (приблизительно в 1794 г.) в кругу друзей, рассуждая о преимуществе топического стихосложения перед силлабическим, Николай Александрович утверждал, что русская поэзия обрела бы большую гармонию, разнообразие и выразительность в топических вольных стихах вместо ее «порабощения только одним хореям и ямбам», что можно написать большую русскую эпопею в «русском вкусе».
В «русском вкусе» переводит с французского Львов фрагмент из исландской саги о норвежском короле Гаральде III и публикует его на русском и французском языках в 1793 году отдельным изданием: «Песнь норвежского витязя Гаральда Храброго, из древней исландской летописи Квитлиига сага, господином Маллетом выписанная, и в Датской истории помещенная, переложена на Российский язык образом древнего стихотворения к примеру «не звезда блестит далече во чистом поле».
Норвежский король Гаральд III Строгий (1015-1066) еще до восшествия на престол взятый в плен византийцами и содержавшийся в Царьграде, позднее женился на дочери Ярослава Мудрого княжне Елисифи (Елизавете) Ярославовне и таким образом стал причастным к древней русской истории. Об этом Львовым рассказано в «Историческом перечне о Норвежском князе Гаральде Храбром», то есть в предисловии к переводу.
«Корабли мои объехали Сицилию,
И тогда-то были славны, были громки мы» -
так начинается песня норвежского рыцаря, который в шести строфах перечисляет свои подвиги на море, во время грозы, в битвах с дронтгеймцами, рассказывает о победе над их царем, о своем умении владеть оружием, об искусстве вождения кораблей и жалуется, что слава, приобретенная подвигами, не может тронуть сердце русской княжны. Каждая строфа завершается возгласом:
«А меня ни во что ставит девка русская».
Вот эта стойкая гордость русской женщины и привлекла внимание Львова в исландской саге. Он заканчивает предисловие выводом, что за подвиги, славу в русской древности считали достойным «венчать Героя в чужих землях знаменитого» только русской красотой.
Евгений Болховитинов высоко оценил перевод Львова, считая, что эти стихи должны служить «образцом, с коим могла тогда соображаться и Русская поэзия»83.
Продолжая рассказ о беседе Львова с друзьями на тему о тоническом стихосложении, он сообщает, как Львов в доказательство правоты своих теоретических тезисов в одно утро написал вступление, чем удивил своих друзей.
Уже составляя «Собрание русских народных песен...», Львов прислушивался не только к музыкальной природе песен, а вникал в архитектонику стиха, изучал капризные на первый взгляд ритмометрические построения, усложняющие задачу подтекстовки при повторении строф при одной и той же мелодии. Восхищаясь творчеством парода, он приводил в пример мнение Паизиелло, которому не верилось, что русские песни – «случайное творение простых людей». Обращение к народному складу стиха Львов рассматривал не как попятное движение к примитиву, а как путь обновления, обогащения поэзии.
По пути утверждения русского народного стиля Львов пошел и в своей неоконченной поэме «Добрыня, богатырская песня». Она написана белым тоническим стихом. Львов был убежден, что этот «размер» свойствен русскому, национальному стиху.
«И ничто в лесу не шелохнется;
Гул шагов моих мне наводит страх -
О темна, темна ночь осенняя!»
Он обращается к Русскому духу, неразлучному другу прадедов: «Звонкий голос твой гонит горе прочь! Покажися мне!» Богатырский дух русских витязей появляется и грозно вопрошает поэта:
«О! почто прервал ты мой крепкой сон?
Да не время, нет – не пора теперь.
Недосуг с тобой прохлаждатися,
Было время мне... но теперь не то -
Как носился я каленой стрелой
С поля чистого во высок терем.
...А теперь кому, где я надобен?»
Русский дух скорбит смертельно: былые дружеские связи, справедливое решение дел в суде, правда в словах – все это вытеснено: карты, табак, роскошь, шинки, «обезьяны на сворочке», шаркающие «разнополые прынтики с мельницы». Русский дух в деревню ушел,
«Поселился жить в чистом воздухе
Посреди поля с православными.
Я прижал к сердцу землю Русскую
И пашу ее припеваючи».
Покидая поэта, Русский дух оставляет ему некрашеный смычок и «гудок нестроеной» («род скрипки без выемок по бокам ... о трех струнах»). Но автор в обращении с ними бессилен, беспомощен! – «задерябил на чужой лад, как телега немазана» – и с отчаянья взывает к древним скоморохам: «люди добрые!., научите, кому мне петь и кому поклонитися; кто мне будет подтягивать?» Нет для него спутников. Он смотрит вокруг и товарищам, «запечатавшим уста», говорит:
«На хореях вы подмостилися.
Без екзаметра, как босой ногой,
Вам своей стопой больно выступить.
Нет, приятели! в языке нашем
Много нужных слов поместить нельзя
В иноземные рамки тесные.
Анапесты, Спондеи, Дактили
Не аршином нашим меряны,
Не по свойству слова Русского
Были за морем заказаны.
И глагол Славян обильнейший
Звучной, сильной, плавной, значущий,
Чтоб в заморскую рамку втискаться,
Принужден ежом жаться, корчиться...»
Первая глава «Добрыпи...» заканчивается появлением поэта у городских ворот славного Киева.
«Что в тебе такое деется?
Пыль столбом, коромыслом дым,
В улицах теснятся,
В полуночь не спят.
На горах огни, па полях шатры,
Разные народы
Кашу разную варят».
Увлечение русским песенным стихосложением захватило весь львовский кружок. По этому поводу Державин писал о Львове в «Объяснениях...»: «Он особенно любил русское природное стихотворство, сам писал стихи тем метром», отмечая, что в этом «простонародном вкусе был неподражаем».
Начиная с осени 1793 года несчастья в личной жизни одно за другим опять посыпались на голову Львова. 28 октября родилась вторая дочь, Пашенька, и Мария Алексеевна после тяжелых родов долго болела. В ноябре Николай Александрович сам серьезно занемог с осложнением на глаза, о чем впервые узнаем из его написанного под диктовку стихотворения чете Олениных – поздравление по случаю рождения сына: «К Лизаньке больной и здоровому Оленю. 1793 года, ноября»:
«Двадцать градусов мороза,
Я в горячке третий день...»
Весь тон стихотворения, легкий, остроумный, никак не отражает ни тяжелого состояния, ни мрачных мыслей об ухудшении зрения, ни тревоги за серьезную болезнь жены. Дашенька, ее сестра, в конце послания приписала: «Сам стихотворец лежит в растяжку, диктует из темного угла и руки не прикладывает. Дарья Дьякова»84.
В апреле 1794 года у Львова произошла жестокая ссора с влиятельным членом Коллегии иностранных дел А. И. Морковым, ставленником Зубова, о чем в письме С. Р. Воронцову подробно сообщил П. В. Завадовский: Львов на званом обеде у графини Браницкой рассказывал за столом о курьезном замечании князя Репнина по поводу его исполнения с посланником в Вене, скрипачом, графом Андреем Разумовским, какой-то сонаты дуэтом. Морков грубо прервал рассказ заявлением, что Львов все врет, как и всегда, что его будто бы «тут не было». Львов, разумеется, ответил. Спор разрастался. Через шесть дней при встрече с Морковым за обедом у Анны Никитичны Нарышкиной Львов в присутствии общества хлестко и беспощадно, со свойственным ему остроумием отчитал Моркова так, что тот немедленно вышел и помчался к Зубову жаловаться. Зубов вызвал Львова к себе. Тот приехал и при Зубове, «вымыв голову» Моркову, с честью вышел из положения.
Хотя Морков становился очень влиятельным, все это было, в сущности, пустяки. Хуже оказалось другое: Львов сломал руку и потерял возможность рисовать и даже писать.
«Вот какой черный на меня год пришел, мой милостивый граф! – диктует он 19 июня 1794 года С. Р. Воронцову, – переломил руку, шесть месяцев глазами страдал, и теперь еще худо могу ими работать, а наконец, всего хуже, я чуть было не потерял Марью Алексеевну, которая после родов имела прежестокую горячку и теперь еще из постели не вышла. ... Физика моя совсем разрушилась... и я 10-ти лет в один год состарился. Когда Марья Алексеевна будет в состоянии выехать, то советуют мне вывезть ее в деревню, куда я и намерен проситься»85.
Ему удалось осуществить свое намерение, и в июле он был уже в своих Черенчицах. Мария Алексеевна болела послеродовым нервнопсихическим расстройством. Львов тщательно скрывал заболевание жены даже от близких.
Державин тем временем, разгневанный стычками с сановниками высшего ранга на бестолковых и суматошных заседаниях сената, заканчивал последние обличительные строфы сатирического стихотворения «Вельможа»:
«Вельможу должно составлять
Ум здравый, сердце просвещенно,
Собой пример он должен дать,
Что звание его священно...»
Меж тем вместо «пользы, славы и чести» любой сановник озабочен только личным покоем, жизнью для себя одного, отрицанием совести и стыда – «нет добродетели! нет бога!» Вельможа проводит дни свои среди вкуснейших яств, за бокалом вина, чашкой густого кофе, «средь игр, средь праздности и неги», в то время как его ожидают в передней вдовы с мольбой о пособии, военачальники, поседевшие в битвах, толпа кредиторов. Никого не щадил Державин в этих стихах – современники безошибочно узнавали в них портреты Зубова, Потемкина, недавнего фаворита графа Завадовского, Самойлова, Безбородко... «Се глыба грязи позлащенной» – так называл Державин «властителей мира» и бросал им в лицо жестокие и даже грубые прозвища, ставшие тут же крылатыми: «Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами».
Императрицу он на этот раз не славословил. О себе, о своем «символе веры» сказал смиренно и гордо:
«Змеей пред троном не сгибаться,
Стоять – и правду говорить».
О том, чтобы напечатать эти стихи, нечего было и думать. Но они сразу же получили громадное распространение в копиях. Популярность Державина в обществе возрастала.
Но ему в это время было не до популярности, не до славы: его постигло глубокое горе – 15 июля 1794 года Катерина Яковлевна умерла.
За три дня до ее кончины надо было Державину ехать по важным делам к императрице в Царское Село, а он боялся Плениру свою оставить одну. Но она сама его уговорила: «Ты при дворе не имеешь фавору, мой друг, однако есть к тебе уважение, вера, их надо беречь. Поезжай. А я постараюсь прожить еще два дни и дождаться тебя, чтобы проститься».
Державин был безутешен. 24 июля он пишет Дмитриеву: «Погружен в совершенную горечь и отчаяние. Не знаю, что с собой делать. Не стало любезной моей Плениры! Оплачьте, музы, мою милую, прекрасную добродетельную Плениру, которая для меня только жила на свете, которая все мне в нем доставляла. Теперь для меня сей свет совершенная пустыня... И вас, друзей моих, нет к утешению моему! Простите и будьте счастливы»86.
Но Львов не мог чувствовать себя счастливым: кроме тяжелых переживаний, связанных с кончиной Катерины Яковлевны, пришло еще известие о болезни жены Капниста, Сашеньки, сестры Марии Алексеевны. И поврежденная рука все еще лишала Львова возможности что-либо делать. А как мог такой человек примириться с бездеятельностью? Отвечая в сентябре Капнисту – опять под диктовку, – Львов сообщал: «Недели через три, может, и я буду в состоянии одеться и сделаться грамотным... Когда в Петербург поеду, не знаю»87.
В том же месяце было им отправлено остающееся неопубликованным письмо к Д. М. Полторацкому, соседу по имению, написанное тоже под диктовку: «Сентября 13! Никольское, Черенчицы тож. Марии Алексеевне стало полегче, и я зачинаю выходить из ребячества, приниматься за дела, которые я четыре месяца почти делал, как в лихорадке». Приписка Львова, сделанная очень нетвердой рукой: «Преданный вам душею Н. Львов»88. В первый раз называет он в этом письме свои Черенчицы Никольским.
«Надобно было, видно, судьбе, мой друг Николай Александрович, – писал Державин 18 сентября, – чтоб на всех па нас напасти в одно время пришли: чтоб я лишился Катеиьки, ты руку переломил и легко также мог отправиться на тот свет».
Долгое-долгое время Державин был действительно безутешен. Получив стихи от Дмитриева, посвященные памяти Плениры, он признается, что не может их «без рыдания читать, но что делать? коль переменить нечем, то плакать будем; плакать и кончать век мой в унынии».
А тут еще из письма П. В. Завадовского, приятеля Безбородко, узнаем подробности о новом ухудшении здоровья Марии Алексеевны. «Лечение привело было се в память, но опять получила рецидиву. Говорят, сей болезни подвержен весь род, и старшая сестра то же имела». Можно представить, как тяжело переживал все это Львов. Характер у него был впечатлительный, легко ранимый.
И и этот мрачный и суровый год – 1794-й – выходит из печать его жизнерадостный труд на греческом и русском языках: «Анакреон. Стихотворения Анакреона Тийского. Перевел ***. Спб., 1794».
Конечно, работал он над ним не один только год – многие годы. Иначе не получилось бы такой легкости стиля, что подкупало и пленяло его самого в стихах «сего любивого и веселого старика», как он писал в предисловии. «Приятная философия, каждое человеческое состояние услаждающая, ... пленительная истина и простота мыслей, такой чистый и волшебный, язык» – все это отвечало жизнерадостной натуре переводчика.
Перевод Анакреона оказался трудом грандиозным. Выдающийся греческий богослов, восьмидесятилетний архиепископ Евгений Булгарис, бывший глава патриаршей академии в Константинополе, принужденный из-за свободомыслия в вопросах религии переселиться с 1775 года в Россию, терпеливо и добросовестно написал для Львова над каждой строкой, над каждым словом греческого подлинника русский текст. Львов в предисловии приводит пример тому и говорит, что выучить греческий текст было бы легче, чем «надеть педантические вериги» и взять на себя задачу не опустить ни единой фразы, ни единого слова, сохранив ритмы подлинника, не теряя при этом «плавности и свободы, красоту Анакреоновых мыслей возвышающих». Для этого пришлось сверять свой текст, справляясь «в море переводчиков». Львов сообщает список: 38 переводов на латинский, французский, немецкий, итальянский, английский, испанский языки, причем в пространных примечаниях к каждому стихотворению он цитирует их, соглашаясь с ними или отрицая их. По всему этому можно судить, каким чутким ухом он обладал, как он уловил музыку чужого, незнакомого языка.
Русских переводчиков он не упоминает, хотя Анакреона у нас переводили давно. Тяга русских поэтов к радостному, солнечному, веселящему сердце творчеству Анакреона проявилась со всей очевидностью, и Львов своим переводом лишь откликнулся на потребности времени. В предисловии «Жизнь Анакреона Тийского» Львов, опровергая несостоятельное обвинение в том, будто Анакреон всю жизнь только пил вино, пел и любил, рассказывал его биографию и восхищался тем, что восьмидесятипятилетним, бодрым стариком, подавившись виноградной косточкой, он умер «весело для себя, приятно для других» в загородном доме на берегу Эгейского моря.
Сложность задачи помешала Львову создать художественно безукоризненные переводы, хотя он избрал легкую форму (нерифмованные, чередующиеся женскими и мужскими окончаниями стихи). Его сковало взятое на себя обязательство: сохранить размер подлинника и абсолютную точность перевода. Но пылкость увлечения творчеством «любивого и веселого старика» Львов передал членам кружка. Вслед за ним и другие современники, исходя из его переводов, создали множество произведений в анакреоническом духе. Шестнадцатилетний Пушкин воспринял многие поэтические образы стихотворения Львова «Гроб Анакреона», что доказано тщательным и тонким анализом видного пушкиниста Л. Н. Майкова. И если бы Львов знал, что его книга станет источником вдохновения для творчества хотя бы только одного этого юноши-лицеиста, то мог бы с удовлетворенностью подумать, что им положено столько труда на перевод «Анакреона» не напрасно.
ГЛАВА 3
1795
31 января 1795 года Державин женился вторично. Прошло всего лишь полгода после кончины любимой Плениры, «ласточки домовитой», как место ее в доме заняла... Дарьюшка, то есть Дарья Алексеевна, урожденная Дьякова, родная сестра Марии Алексеевны Дьяковой-Львовой.
Давно еще, в приятельской беседе, в присутствии домашних и Катерины Яковлевны, покойной супруги Державина, и при нем, когда Дарьюшку хотели просватать за Дмитриева, она отказалась: «Нет, найдите мне такого жениха, как ваш Гаврила Романович, то я пойду за него и надеюсь, буду с ним счастлива». Тогда посмеялись, но Державину эта беседа запомнилась.
Получив предложение, Дашенька пожелала разведать о прожиточных средствах Державина, осмотреть приходо-расходные книги, глядела их две недели и – согласилась. А он, растерявшийся от одиночества, беспомощный в практической жизни, «чтобы от скуки не уклониться в какой разврат», как он сам о себе говорил, «совокупил свою судьбу ... не пламенною романтической любовью, но благоразумием, уважением друг к другу...». Дашенька, а теперь Милена, сразу прибрала к своим рукам хозяйство, всюду навела образцовый порядок, строжайшую экономию, внимательно заботилась о нуждах супруга. Ей исполнилось всего 28, Державину – 52. Она была красива. Высока, стройна, горда... С гостями держала себя сдержанно-суховато. Капнист, из-за затянувшейся тяжбы с Тарновской часто наезжавший теперь в Петербург с готовой комедией о ябеде в кармане, и Львов чувствовали себя в доме Гаврилы уже не так привольно и уютно, как это было при покойной Пленире, хотя стали с хозяином свояками. К их кружку тесно примыкали И. И. Дмитриев, а также ученик и последователь Львова А. Н. Оленин, впоследствии президент Академии художеств.
Еще в начале 1792 года, когда Державин только-только вступил на должность «у принятия челобитен» и отношения его с государыней испорчены еще не были, она обещала издать собрание его сочинений за счет Кабинета. Он при помощи любезной Плениры начал собирать свои стихотворения, написанные порой на клочках бумаги. Она их переписывала, друзья обсуждали, вносили поправки. В академических правилах стихосложения Капнист и Львов были значительно образованнее Державина. Но как-то Капнист, не поняв своеобразия поэтической формы стихотворения «Ласточка», переложил его на правильные ритмы обычного ямба, и стихи потеряли все обаяние. Поправки друзей Державин принимал с благодарностью, но нередко случалось, что начинал сердиться, упрямиться, а однажды, вспылив, закричал: «Что же, вы хотите, чтоб я стал переживать свою жизнь по-вашему?» – и сбросил со стола все бумаги89.
К котщу 1795 года был приготовлен великолепный альбом из красной сафьяновой кожи, с многочисленными цветными виньетками, выполненными от руки А. Н. Олениным, с торжественной надписью: «Сочинения Державина. Часть 1». 6 ноября он был поднесен государыне. Приехав к ней во дворец на парадный прием в воскресенье, поэт увидел «великую к себе остуду». Придворные избегали его, боясь с ним встретиться и вступить в разговор. По прошествии времени ему сообщили, что августейшая держала у себя альбом два дня и передала его для ознакомления Зубову. Потом Державин узнал, что его обвиняют в якобинстве за стихи «Властителям и судиям». Мадам Леблер-Лебеф, воспитательница детей Львова, рассказала ему, что 81-й псалм Давида, переделанный в оду, в революционном Париже пели на улицах санкюлоты. Но главное, стихи показались наидерзповениыми, разящими беспощадно, – они метили не только в верхушку придворных, но даже в царей:
«...Цари! – Я мнил, вы боги властны,
Никто над вами не судья, -
Но вы, как я, подобно страстны
И так же смертны, как и я».
Вспомним, что Львов в черновиках написал около этого четверостишия на полях свое замечание: «Прекрасно!»
«И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет».
Дело принимало дурной оборот. Дмитриев привез весть, что Шешковскому, «кнутобойцу», поручено дело Державина. Пришлось срочно писать объяснение, оправдание: стихи, дескать, были написаны в 1780 году, а напечатаны в 1787-м, когда французская революция еще не начиналась, что царь Давид не мог быть якобинцем, что, дескать, только ночные птицы не в силах сносить без досады сияние солнца... Кое-как обошлось. Однако мечту об издании сочинений пришлось пока оставить.
После этих событий Львов в Петербурге старается жить неприметно. Удаляется на свою дачу, где прикупил еще соседний участок у Вельяминова. Зная по опыту юности, в какой торжественный праздник превращается для молодежи домашний спектакль, какое значение он имеет для духовного роста детей, оп налаживает детские постановки в деревне и в Петербурге, а также в театральном зале нового дома Державина. Ганюшка тоже считал очень полезным представлять на театре «тражедии», что делает, как он говорил, «питомцев хотя в науках неискусными», однако доставляет им «людкость и некоторую развязь в обращении».
У Львова теперь свой оркестр в сорок восемь крепостных музыкантов. Его дочери учатся музыке. Лизаиька поет неплохо русские песни. Впоследствии старый Державин любил, когда Параша играла ему на клавикордах, а Верочка тоже играла и пела ему, переписывала в свой альбом вокальные и фортепианные пьесы. Альбом ее до сих пор сохранился, это альбом В. Н. Воейковой. Второй сын, Алексанечка, наделен голоском, который «более имеет нот, нежели в русской азбуке букв считается, – так писал Львов 10 сентября 1796 года двоюродному брату жены, советнику при псковском губернаторе Н. П. Яхонтову, даровитому композитору. – Для него и для двух моих девочек напишу я маленькую драму и пришлю к твоему песнесловию»90.
Львов действительно сочинил комическую оперу «Милет и Милета» и героическое игрище «Парисов суд».
«Милет и Милета», созданная для детей, сохранилась в двух рукописных вариантах. Первый из них, ошибочно отнесенный к 1794 году, начинается кратким разъяснением для композитора: «Задача сделать из готовых двух песенок и одного хора, на музыку уже положенных и выученных в одной послеобеда, пастушью драму для двух лиц, не переменяя ни слов, ни музыки».
Требовалось также сочинить и симфонию (то есть увертюру) в «пастушьем вкусе». Кроме того, он хотел, чтобы «связь сей пастушьей драмы» была основана на «канцонетте», то есть на песне «одного литератора, не знающего музыки (не самого ли Львова? – А. Г.) со словами Ганюшки «Мечта».
Стихотворение «Мечта» написано Державиным в конце 1794 года «на сговор автора со второю его женою»:
«Вошед в шалаш мой торопливо,
Взглянула: мальчик в нем сидит
И в уголку кремнем в огниво,
Мне чудилось, стучит».
В черновике Державина очень много поправок, сделанных рукой Львова. И обращает внимание сходство темы «Мечты» со стихотворением Львова «на готовую музыку Джирдини» о куколке, которое перекликается с народными песнями.
Пьеса «Милет и Милета» написана на эту же тему народных песен. «Действие происходит под навесом у шалаша – ручеек... цветы». Дуэт («Как приятно, друг мой милый»), вслед за ним «Хор пастухов» («Спи, прекрасная Милета... почивай, почивай...»), «Песенка» («Вошед в шалаш...»), «Ария» («Одна тут искра отделилась...»). Далее ремарка: «В шалаше увидела мальчика, сечет огонь. Искорка попала в глаз – влюблена. Милет – тоже». И заключительный «Дуэт»: «Драгой Милет, драгой Милет, ты мил мне, мил сердечно»91.
Все это написано между делом, с юмором, с легкой песмешкой над происходящим на сцене, очень изящно, для интимного круга.
Вторая комическая опера – «Парисов суд» – «героическое игрище», сохранилась тоже только в рукописи; опера имеет дату: «Октября 17-го 1796 года С. П. Бурге»92.
Эта пьеса – едкая, хлесткая сатира на «олимпийское» общество, площадное гаерство ярмарочного паяца. Оно недаром названо «игрищем» с ироническим ярлыком «героическое»!
Несмотря на некоторые длинноты, пьеса как сатирическое произведение принадлежит к лучшим творениям Львова. Он мастерски обличает высшие круги, задевая даже Екатерину. При этом автор противопоставляет светскому обществу образ Париса, русского пастушка, честного, проницательного. Достаточно взглянуть на иллюстрации Львова к «Парисову суду», чтобы понять гротесковый стиль его «театрального памфлета».
«Парисов суд» примыкает к возникшему в России в конце XVIII века литературному жанру «ирои-комической поэмы», хотя и написан в драматической форме. Он несет в себе явные черты «перелицованного» «ирои-комического» жанра, перенесенного в комическую оперу. Других подобных произведений в театроведении не отмечено.
В «Парисовом суде» сказалось влияние Капниста, о чем свидетельствует и самый текст произведения Львова, но главное – его «предисловие».
Значительность «Парисова суда» – своеобразной комической оперы – и отсутствие каких бы то ни было публикаций заставляет вкратце рассказать ее содержание и привести наиболее характерные цитаты.
«Героическое игрище» Львов предварил своего рода посвящением:
«Брату Василью Васильевичу, творцу Ябеды
Рапорт и приношение
В силу вашего веленья
Учинил я исполненье
И при сем вам подношу:
Обыденную проказу
Суд Парисов по заказу.
Земно, государь, прошу
Помянутое творенье
Взять в свое благоволенье
И решенье учинить
Ябедой своей покрыть.
...А доколе не решится
Ябеде повинен суд,
Униженно поклонится
с приписью подьячий
Сочинитель Ванька-ямщик».
Этой подписью «ямщика» он как бы связывал «героическое игрище» с «игрищем невзначай» «(Ямщики па подставе») и подчеркивал, что «Парисов суд» создан как народное игрище ца ярмарках и площадях. Упоминание «Ябеды» Капниста красноречиво свидетельствует о единстве идейных позиций двух авторов.
Начало – музыкальное вступление – охарактеризовано сочинителем как намерение создать в спектакле именно народное игрище: «Военная симфония пересекается словами и песнею Париса, который под дубом ковыряет лапти, кнут за поясом и котомка за плечами.
Парис (вслушиваясь в военную музыку): Ори, ори, наши ребята, ори:
Песня
Ох! вы братцы дорогие,
Вы, Приямочки родные,
Перестаньте воевать,
Право, вам не сдобровать.
(Симфония возобновляется, трубы, литавры.)
Все б вам бубны да цевницы.
Шишаки да палаши,
А полей хоть не паши:
Были б кони, колесницы...
Право, вам не сдобровать,
Лапти лучше ковырять.
(Симфония на рогах изображает звериную ловлю.)
Ату его! – погнали!
Парис: Спасибо, ребята, да что и впрямь поле не вытопчут для того, что не посеяно.
(Музыка продолжает пляску.)
Ого, ого, го, го, го, ату его!
(Парис, ходя по театру, хлопает кнутом.)»
Здесь явный сатирический выпад против бесконечных войн, намек на пристрастие высших кругов к пышным празднествам, к охотам с потравою всходов на полях и горькое признание в том, что поля нечем засеять.
Следует «ария»; непосредственно за ней ремарка: «Симфония изображает бурю». Гром, молния, из облаков опускается Меркурий, одетый, по понятиям Париса, крайне мудрено: «Экой чудак! петухом нарядился, да и петухом-то ощипанным. Плюньте мне в Ипостасью, есть ли это не Олимпийский какой ни на есть франт».
Меркурий поет арию; в ней он излагает предопределенное богами поручение Парису: вручить яблоко прекраснейшей из богинь. Тонкая злая сатира сосредоточена в сцене, когда Меркурий намеревается ввести пастуха в высшее общество богов Олимпа.
«Парис: Да я, сударь, не хочу, не хочу ни за что... Куда ты это меня правишь? в столицу, да еще и ко двору...
Меркурий: Парис, ... путь почести и славы...
Парис: Пускай по нем гуляет, кто хочет. ...Славою овладели шаркуны да форкуны, а пресмыкалы да нахалы и фортуну взяли в крепость; так подить-ко наш брат пастух, хоть бы сто звезд во лбу, хоть бы он 500 волов упас, так и тут...
Меркурий: Тебе не волов пасть надобно, Парис, но людьми править.
Парис: Управишь ты ими!..
Меркурий: Послушай, Парис, на все это есть уловка ... Свет основан на согласии тел, а в том согласии есть одна струпа, которую музыканты называют господствующая квинта, или, так сказать, самая звонкая дудка. Подладь под нее, да не розцк вот и пошло и пошло...
Песня (под аккомпанемент дудки)
...Изволь играть .. И ну шагать!
Пошла потеха!
А тут и шаркуны,
А тут и форкуны,
Вилюны, говоруны,
Верхогляды, подтакалы,
И лестюхи и нахалы,
Картобои, объедалы
Вдруг тебе составят двор;
Только что по отличайся,
С дудкой знатной соглашайся,
Без того и барства вздор».
Парис пытается уклониться от предстоящего суда. Львов, перекликаясь с Капнистом, в монологе Париса обличает современную систему русского судопроизводства.
«Парис: ...пожалуй, перед светом и без вины будешь виноват; зтот стоголовый судья решит дело одним словом и часто без ведома судимаго. А чтобы он как ни на есть не оправдался, так он сообщает ему приговор ... Антон сказал Софрону, а Софрон сказал свинье, свинья сказала борову, а боров всему городу... и когда уже бедняк побит, обрит и заперт, тогда поди, пожалуйся... Батюшка умер, то детям нищим скажут: отец ваш пострадал невинно, да вы для восстановления добраго о нем мнения не говорите, что он был обрит, а скажите просто, что плешив родился. Впрочем, ежели бы почтенный старик здравствовал, великодушные жрецы Фемиды не отреклися бы, право, купить на свой счет и парик ему. Я благодарен за великодушие и лучше хочу остаться при своей гриве, которую и впрямь очистят. О! великое дело: держатся во славе и клейменой плут и судья и шут».