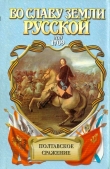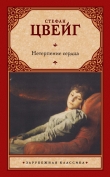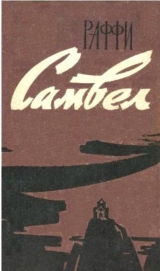
Текст книги "Самвел"
Автор книги: Раффи
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц)
XVIII. Юный Артавазд
Уже сгустился вечерний сумрак, а Самвел, поехавший провожать Саака и Месропа, все еще не возвращался. Старик Арбак одиноко ждал его в приемной палате. Снаружи у дверей стоял юный Иусик. Оба они начали терять терпение: князь чересчур запаздывал.
Старик несколько раз вставал, поправлял фитиль в медном светильнике, усиливал свет, затем убавлял, и наконец, не зная куда себя деть, от скуки стал считать копья и оружие, расставленные по углам. Хотя он уже сто раз их считал, это занятие ему не надоедало.
Иусик иногда входил, говорил старику какой-нибудь вздор, поддразнивал его и снова уходил. А князя все не было.
Вошел опять Иусик, остановился перед стариком и, подбоченясь, спросил его с хитрой усмешкой:
– Знаешь, Арбак, что я сейчас видел на дворе?
– Что же ты видел, чертенок? – спросил старик, устремляя суровый взгляд на хитроватое лицо юноши.
– Вижу, кто-то несколько раз прошел мимо замка… Я притаился у стены. Человек не заметил меня и, покружившись, ушел. Он все бродил около нашего замка и все время озирался. Иногда он подкрадывался к окошку и подслушивал, а чтобы его не заметили, уходил и возвращался. Я выждал, пока он уйдет, притащил здоровенный сук и положил на то место, на которое он становился, когда поглядывал в окно. Смотрю, он опять подкрадывается! Смотрю, запнулся ногой об сук и шлепнулся башкой о камни. Не знаю: голову он себе расшиб или нос, но только заохал и заковылял восвояси!
– Узнал ты его?
– Как не узнать старого черта? Это Багос, евнух княгини.
– Этого негодяя давно следовало бы прикончить… убить, как собаку! – сердито пробурчал старик.
– Он вполне вознагражден! – ответил юноша, выходя из комнаты.
Арбак остался один. Он был опечален. Полвека был он в этом доме свидетелем дурных и хороших дел, радовался его счастью, горевал над его бедами, но никогда еще его сердце не наполнялось такою горечью, как в эти последние дни. Ему не совсем было ясно, что творилось кругом, но чутье подсказывало ему, что творится что-то недоброе. Соглядатаи матери осаждают жилище сына, сын что-то затевает втайне от матери, по ночам неизвестные люди тайком проникают в замок, шушукаются, исчезают… Что все это означает?
Старик не первый раз задавал себе этот вопрос, но бесхитростная душа его не находила ответа.
Так сидел он в раздумье, насупившись, когда в приемной раздался топот тяжелых шагов, распахнулась дверь и в комнату вошел Самвел. Оруженосцы, шедшие за ним, стали по обе стороны двери.
– Добрый вечер, дорогой Арбак, – весело сказал Самвел, подойдя к старику и положив руку ему на плечо. – Давно меня ждешь?
Веселое настроение молодого князя несколько рассеяло грусть старика. Подняв отяжелевшую голову, он спросил:
– Почему ты так запоздал?
– Не легко расстаться с дорогими, близкими сердцу друзьями, почтенный Арбак. Ели, пили, обнимались, попрощались было, а потом опять сели, опять попрощались – так день-то незаметно и пролетел, и солнце закатилось.
Повелительным жестом Самвел приказал оруженосцам удалиться. Они, поклонившись, ушли.
Вошел Иусик и встал у дверей.
– Ну, что, Арбак, был ты у моей матери? – спросил Самвел, устало растягиваясь на диване.
– Был два раза, – ответил старик.
– Нет, три, – поправил его Иусик.
– Да, прости господи, три раза… – сказал старик, бросая недовольный взгляд на юношу. – Один раз утром, один раз в полдень…
– И один раз вечером, – докончил за него, смеясь, Самвел.
– Да, и один раз вечером, – повторил старик, не понимая, чем вызван смех Самвела.
Самвел, слегка возбужденный выпитым вином, был в шутливом настроении. Обычно он никогда не подшучивал над стариком, так как очень уважал своего воспитателя. Заметив, что огорчил старика, он перестал смеяться и очень серьезно спросил:
– Значит, ты был у моей матери? Расскажи же, как она готовится к моему отъезду? Завтра утром я непременно должен выехать, непременно…
– Княгиня тоже хочет, чтобы ты выехал завтра утром.
Арбак поднялся со своего места, подошел к Самвелу и сел возле него на ковре, чтобы легче было разговаривать.
– К твоему отъезду, по велению твоей матери, все готово. Сопровождать тебя будут пятьдесят юношей в серебряной вооружении, все на конях одинаковой серой масти. Двадцать буланых мулов повезут палатки, провиант и одежду. В княжескую колесницу запрягут двух белых мулов; позади поведут двадцать коней буланой масти. Княгиня сама выбирала из собственного хранилища драгоценную сбрую для этих коней. Кроме пятидесяти молодых телохранителей, с тобой отправятся семь оруженосцев, семь сокольничих, семь псарей и два повара. Вина, всевозможные напитки и разные сладости, как полагается, уложены в особых ларцах. Забыл сказать, что среди пятидесяти телохранителей будет один, который понесет княжеское знамя, и отряд литаврщиков и трубачей.
Перечисляя все это, Арбак не ошибался, так как держал в руке записку. Когда он кончил, Самвел заметил:
– Очень торжественно, но довольно неудобно!.. Я бы предпочел легкий отряд из вооруженных всадников.
– Княгиня желает, чтобы твоя свита соответствовала блеску имени твоего отца и твоего имени, – ответил старик тоном, в котором было заметно глубокое недовольство.
– А кого она выбрала из моих людей?
– Никого. Она предоставила это тебе; можешь взять, кого хочешь.
– А ты поедешь со мною, дорогой Арбак?
– Разве Арбак когда-нибудь отпускал тебя одного? Арбак голову свою сложит на твоем пороге! – Старик указал на порог комнаты Самвела.
Юный Иусик стоял у стены и сверкающими глазами смотрел то на своего господина, то на старика Арбака. Он беспокоился. Ему хотелось знать, возьмет ли господин его с собою? Радость его была безгранична, когда Самвел, обратившись к Арбаку, сказал:
– Я благодарен матери, что она предоставила мне выбор. Я возьму с собою всех своих людей. Распорядись, дорогой Арбак, чтобы к утру все были готовы.
– Я уже распорядился! – ответил старик.
Тут Иусик, сильно краснея, выступил вперед и пробормотал:
– У меня просьба к моему князю.
– Какая?
– Лошадь моя прихрамывает после того, как ее подковали.
– Арбак прикажет дать тебе другую из моей конюшни по твоему выбору.
Лицо юноши засияло от восторга.
Арбак поднялся.
– Куда ты? – спросил Самвел.
– Еще много дел… пойду распорядиться.
– Спасибо, дорогой Арбак. Я должен выехать рано утром!
Старик многозначительно покачал головой и, не оглядываясь, вышел из комнаты.
После его ухода Самвел еще больше, повеселел. Подготовка к путешествию, хотя и не вполне, но в некоторой степени соответствовала его планам. Он не ожидал, что мать позволит ему взять с собой своих людей. А их было больше, чем тех, кого назначила она.
Самвел ходил по комнате, усиленно потирая руки и делая в уме расчеты. Иусик, пользуясь хорошим настроением князя, осмелел и решил обратиться к нему с новой просьбой. Однако на сей раз он колебался, и бойкий язык его, никогда не нуждавшийся в словах, на этот раз не повиновался ему. Сконфуженно опустив голову, он переминался с ноги на ногу и уже несколько раз почесывал затылок: «Сказать или не сказать?»
Если бы Самвел хоть раз взглянул на бедного юношу, он сразу заметил бы его беспокойство. Но Самвел был увлечен приятными размышлениями и совершенно не обращал на него внимания.
Юноша несколько раз кашлянул. Его покашливание привлекло внимание Самвела, который посмотрел на возбужденное лицо Иусика и спросил:
– Ты хочешь еще что-то сказать?
– Как мне сказать?.. господин мой, – чуть слышно, потупясь, пробормотал Иусик.
– Ну, так говори, как всегда говоришь, – засмеялся Самвел. – Что же ты стесняешься?
Смех господина приободрил юношу, и он со слезами на глазах сказал:
– Сегодня «она» целый день плакала…
– Кто? Нвард?
– Да, князь.
– Из-за чего же?
– Она узнала, что я поеду с моим князем…
– И загрустила?
– Нет, господин мой. Я дал ей слово…
– Какое слово?
– Что на этих днях…
– Поженитесь? Не так ли?
– Да, князь.
– Так чего же ты хочешь? Остаться и жениться?
– Нет, нет, господин мой, но… Я еще с нею не обручился.
Самвел немного подумал и сказал успокаивающе:
– Половину твоего обещания можешь сдержать теперь: обручись сегодня, а обвенчаешься, когда вернемся. Не знаю, правда, когда вернемся… Но когда бы то ни было, я обещаю обвенчать тебя с Нвард. Она хорошая девушка! За эти дни она оказала мне много услуг и потому достойна особой награды. Я прикажу Арбаку выдать ей из моей казны самый дорогой обручальный перстень.
Смущенный Иусик не знал, как выразить свою благодарность. Слезы радости брызнули у него из глаз. Он упал на колени и хотел поцеловать ноги князя.
Самвел остановил его.
– Встань! Как Нвард – хорошая девушка, так ты – хороший слуга.
В это время дверь с шумом распахнулась, и в комнату влетел юный Артавазд, сын Вачэ Мамиконяна. Он бросился Самвелу на шею, крепко прижал свою красивую голову к его лицу и в величайшем восторге воскликнул:
– Ах, если бы ты знал, Самвел, как я рад, как я рад! Трудно даже выразить!..
– Что это тебя так обрадовало? – спросил Самвел, с трудом высвободившись из объятий бойкого юноши.
– Сядем, расскажу. Ужасно устал, ужасно!..
Они сели на диван. Лицо юноши раскраснелось. Видно было, что он от своего дома до дома Самвела все время бежал. Передохнув немного, сказал:
– Сегодня утром я узнал, что ты едешь встречать своего отца; я и подумал: «Самвел едет, отчего бы и мне не поехать?» Сейчас же побежал к Мушегу, поцеловал ему руку, поцеловал ногу, и, наконец, получил его согласие. Потом побежал к твоей матери, расцеловал ее, – и она тоже согласилась. Осталась еще моя мать, но ее убедить поцелуями было довольно трудно. «Знаешь, – говорю я ей, – Меружан едет, Ваган едет, с ними великие полководцы персидского царя, надо и мне явиться к войскам, показаться им. Там соберутся все сыновья нахараров, а я чем хуже их? И стрелять умею, и копья бросать…» Словом, сказал ей все, что только мог. Ты ведь знаешь, все матери тщеславны, особенно в отношении сыновей! Ей захотелось, чтобы ее сын был также среди сыновей нахараров и удивил персов. Ловко я устроил?
– Неплохо, – ответил Самвел, – хотя и много наврал.
– Нет, бог свидетель, я не врал, только немного прихвастнул! – ответил юноша краснея. – А что мне было делать? Хочется поездить, увидеть свет, а они держат меня дома, как робкую девицу. Я уже не маленький, пройдет год, другой, и у меня уже вырастут усы… Тогда скажут: «Ты мужчина!» Теперь же меня и за мужчину не считают. Всю ночь не буду спать, – перешел он к другому, – не буду спать до рассвета. Когда утром надо куда-нибудь ехать, мне всю ночь не спится. Надо все подготовить, все предусмотреть…
Этот словоохотливый юноша, которого мы видели в первый раз в саду князя Мушега, когда он упражнялся с подростком Амазаспом в стрельбе из лука, был полон жизни и огня, и, конечно, мог принять участие в походе. Но Самвел опасался, как бы неопытный и простодушный мальчик не помешал его планам, не оказался лишней обузой. Поэтому он медлил с ответом. Артавазд, взяв его руки в свои и прижав к своим губам, сказал:
– Все согласны, милый Самвел, теперь все зависит от тебя. Скажи, ты согласен взять меня с собой?
Заметив, что Самвел не торопится с ответом, он добавил:
– Если ты не согласишься, я все равно поеду!..
Самоуверенность юноши была несколько преувеличенной. Но Самвел знал его безудержный, пылкий характер. Действительно, если бы Самвел не взял его с собой, он поехал бы и один.
Самвел подумал: «А ведь он может мне пригодиться…» и, обняв его, сказал:
– Не огорчайся, дорогой Артавазд, ты будешь украшением моего конного отряда. Я без тебя и шагу не сделаю. Беги, готовься к отъезду.
Артавазд вскочил и, от радости забыв даже проститься, выбежал из комнаты. Слуга с фонарем ожидал его в прихожей. Он быстро пошел, опередив слугу. Слуга нес фонарь сзади, едва поспевая за своим молодым господином.
Три дня прошло после той ночи, когда гонцы привезли в Вогаканский замок тяжелые вести из Тизбона.
Через три дня из замка Вогакан выехали два двоюродных брата: утром Самвел, торжественно сопровождаемый конным отрядом, а ночью Мушег – тайно и только со своими двумя оруженосцами.
В скобках
1. Природа, нахарарство и царь
Армения – страна горная.
Непрерывные цепи гор с их бесчисленными отрогами покрывают поверхность земли, образуя гигантскую сеть. Между частыми сплетеньями горной сети стиснуты глубокие лощины, мрачные ущелья и узкие равнины. Эти лощины, эти долины и равнины являлись отдельными областями, отделенными друг от друга естественными границами.
Насколько сильно была изрезана поверхность страны, настолько сильно раздроблены области. Поэтому Армения была той исключительной страной, в которой на небольшой территории имелось так много провинций.
Провинции были изолированы друг от друга и почти не сообщались. Горы служили непроходимой преградой между ними, а долины – глубокими рвами.
У человека встретилось много трудностей в борьбе с суровой природой.
Здесь утесистый кряж, внизу бездонная глубина, откуда едва доносится глухое рокотанье реки, а в вышине нависают скалы, ежеминутно угрожающие обвалом и грозящие скрыть решительно все под собой. В этом грозном неистовстве природы только уроженец гор, именно он мог проложить себе дорогу, состязаясь в проворстве с дикими козами.
Кое-где дороги упирались в темные, дремучие леса. В них люди размножались, росли вместе с лесами, питались их плодами и за пределами своего густолиственного леса не признавали никакой иной страны.
Приближаясь к этим лесам, путники не столько боялись зверей, сколько жителей, засевших в лесных трущобах, как в логовищах. К трудностям путей сообщения, созданным горными и лесными препятствиями, присоединялись также и реки. Они протекали по глубокому каменистому дну, между берегами, с двух сторон окаймленными высокими, как крепостные стены, скалами. Зажатые в узких ущельях, они рычали от бешенства, ревели, грохотали и пенистыми потоками бились о несокрушимые скалы, стремясь хоть немного расширить свое русло. Страшные каскады Аракса внушали путникам ужас.
В теснинах гор и ущелий армянские реки не допускали судоходства. Они были судоходны лишь тогда, когда оставляли глубины ущелий и теснин и когда протекали по ровным долинам, тихо и плавно приближаясь к морю.
Пять великих патриархов, армянские реки: Тигр, Евфрат, Кура, Аракс и Фазис – были нетерпимы, а искусство строить мосты пока еще было бессильно сдерживать их под великолепными арками. Вот почему мост через Аракс, сооруженный императором Августом, был признан за чудо, недаром Вергилий воспел его в своих стихотворениях. А мост, сооруженный персидским царем Киром через ту же реку, считался творением бога. Древнейший мост у города Арташата, называвшийся Таперакан, первоначально представлял собою свайную постройку, которая держалась лишь в тихий период реки.
Не меньшим препятствием для сообщения являлась зима, продолжительная зима Айастана[43]43
Айастан – Армения.
[Закрыть].
Уже в октябре во многих местах, в особенности на возвышенностях, густой снег застилал долины, засыпал овраги, бесследно заносил дороги и прерывал всякое сообщение. Путники двигались по дорогам не иначе, как с длинными шестами в руках; для того, чтобы в случае снежного обвала вышедшие на поиски могли догадаться по верхушкам шестов, что под снегом находятся люди. Шесты представляли и другие удобства. Опираясь на них, путники перепрыгивали через пропасти, а попав под обвал, пробивали ими отверстия, чтобы дышать.
Снежным опасностям подвергались не только обыкновенные смертные, но даже и цари.
Царь Санатрук в детстве трое суток пробыл под снегом в объятиях своей няни. Их нашла белая собака, посланная на поиски и сторожившая это место до тех пор, пока не пришли люди. Царь Тиран Первый был погребен под снежной лавиной; его так и не смогли найти. Десять тысяч греков Ксенофонта[44]44
Ксенофонт – древнегреческий историк (430–355 гг. до н. э.), описавший отступление 10 тысяч греков из Персии в своем «Анабасисе», в котором, между прочим, дал весьма ценные сведения об Армении.
[Закрыть], проходя через армянскую страну, обморозили себе руки и ноги, хотя зима только что начиналась. Ксенофонт приказал даже обмотать ноги коней теплыми мешками, но это не помогло. В дни Артавазда Первого армянская зима погубила восемь тысяч римских воинов Антония при его возвращении из персидского похода.
Ужасны армянские вьюги, бураны!
Свирепый ветер ожесточенно передвигает огромные снежные холмы и засыпает небо густой ледяной пылью. В эти роковые моменты всякое живое существо ищет места, где бы укрыться. На больших дорогах, в опасных местах, строились для укрытия караванов особые постоялые дворы. Но редко во время буранов каравану удавалось благополучно добраться до места спасения: чаще всего его заносило снежной массой, иногда в нескольких шагах от убежища.
В горных местах почти половину года крестьяне жили вместе со своим скотом под снегом, в темных землянках. В этих подземных ямах как хозяева, так и их скот имели достаточные запасы еды. Но голод и падеж скота были неизбежными спутниками затянувшейся зимы. Крестьяне добывали воду, оттаивая снег, но корма для скота достать было неоткуда.
Весеннее солнце вместе с теплом приносило наводнение. Овраги наполнялись мутными, шумными потоками, и сообщение становилось затруднительным. Но вот белые, покрытые снегом равнины у подножья гор начинали постепенно чернеть, затем покрывались чудесным зеленым покровом. Вместе с щебетаньем ласточки доносилось блеяние новорожденных ягнят. Пастухи устраивали свои шалаши на усеянных цветами пастбищах.
Приближалось лето.
У подножья гор, на равнинах, созревали гранаты, инжир, маслины. Золотистым янтарем отливали гроздья винограда, и, подобно косам светловолосой девушки, волновались, развевались отяжелевшие колосья. А там, на высотах, выделялись очертания снежных вершин гор, и широкими, густыми слоями все еще неподвижно лежал снег в вековых углублениях скал.
В долинах, на низменных и ровных местах, летняя духота и зной становились еще более нестерпимыми, чем зимний холод. Солнце жгло, небо низвергало огонь. Люди, спасавшиеся от зимней стужи в землянках, теперь убегали от палящего солнца и подымались вместе со своим скотом на прохладные горные высоты. И так в течение каждого года совершалось это переселение, – от тепла к холоду и от холода к теплу. Но переселение это происходило в пределах своей области.
Жестокие условия природы, полные крайностей, создавали таких же жестоких и суровых людей. Это и было причиной того, что их обычаи, нравы, поведение и вообще весь общественный строй носили отпечаток тех природных условий, в которых им приходилось жить.
Реки, огромные озера, горные цепи с их многочисленными отрогами, изрезавшие поверхность страны, создавали множество мелких частиц, каждая из которых представляла собой особую провинцию, отделенную естественными границами.
Во времена Трдата число областей доходило до шестисот двадцати. А в дни Аршака II оно достигло девятисот. Каждая из областей являлась княжеством, жившим своей особой жизнью и своими особыми обычаями.
Трудность сообщения еще больше усиливала местные особенности. Неизменность состояния страны поддерживала устоявшиеся обычаи. Следствием этого было замедление культуры и прогресса. Жители одной области не понимали языка своих соседей, хотя и являлись их братьями по крови.
Различие интересов способствовало раздроблению власти. Каждая область имела свое управление, свои законы.
Княжества назывались нахарарствами.
Сколько было областей, столько было и нахарарств. В течение веков вследствие различных политических обстоятельств число их то увеличивалось, то уменьшалось.
Владетели княжеств назывались нахарарами.
Каждый нахарар был полным господином в своей стране. Его власть передавалась по наследству из поколения в поколение. Все нахарары подчинялись царю Армении. Они платили в царскую казну определенный налог, были обязаны содержать известное количество войск, помогать царю во время войн, а в мирное время охранять границы государства. Каждый из нахараров наблюдал за теми границами, которые находились поблизости от его нахарарской земли.
Впервые Арташес II определил границы нахарарств, поставил на межах каменные столбы и размер наследования каждого из нахараров записал в царские книги. Трдат же Великий определил обязанности нахараров относительно охраны рубежей.
Нахарарства, находившиеся у границ Армении, были более обширными и мощными, чем те, которые находились внутри Армении. Некоторые из пограничных нахараров владели несколькими областями.
Многие из нахарарских домов пользовались особыми привилегиями как в управлении областью, так и при царском дворе. Например, местоблюстителем царя избирался нахарар из рода Мурацан; в день торжественного венчания царя на царство венценалагателем, аспетом, избирался нахарар из рода Багратуни; главный евнух царского дворца избирался из нахарарского рода Мардпет; главнокомандующий войсками – спарапет – из нахарарства Мамиконян. Были еще и другие нахарарства, имевшие различные привилегии на придворной службе.
Каждое нахарарство представляло собой особое княжество. Княжил старший в роде: он назывался нахапетом, или танутером. Остальные же наследники нахарарского дома пользовались лишь доходами области в виде жалованья или же натуральных поступлений. Рост числа членов княжеского рода в течение веков, вполне понятно, приводил к тому, что доходы области оказывались недостаточными для их содержания. В таких случаях нахарары, как это часто бывало, приобретали новые владения, отнимая земли у своих соседей. Внутренняя борьба и кровопролития продолжались из поколения в поколение и зачастую являлись причиной полного уничтожения целых нахарарских родов. После смерти Трдата нахарары Бзнуни, Манавазян и Вордуни, воюя друг с другом, взаимно почти истребили свои роды.
Царь, по своей земельной собственности, являлся как бы самым крупным нахараром. Он присвоил себе весь Айрарат[45]45
Айрарат – одна из центральных областей коренной Армении. На территории Айрарата находились почти все сменявшие друг друга столицы Армении.
[Закрыть] – сердце страны.
Айрарат, как царская вотчина, был неделим.
В Айрарате жили только царь и царский наследник. Остальные члены царского дома не имели права проживать в Айрарате. Им были выделены определенные провинции. При Аршакидах это стало законом.
Области Аштеанк, Алиовит и Арберани со всеми доходами были предназначены для лиц царской фамилии. С течением времени их численность в этих областях настолько возросла, что даже доходы с земель для удовлетворения их утех оказались недостаточны. Поэтому члены царской семьи постоянно сетовали на малость угодий и выпрашивали у царя новые земли.
В истории Армении нет ни одного случая, чтобы лица из царского рода Аршакидов занимали какую-либо государственную должность. Не выделялись они и на военной службе. Они были обречены на постоянное безделье. Им дарили обширные земли, им выдавалось из казны щедрое жалованье, чтобы они наслаждались жизнью, занимались охотой и разного рода увеселениями, не думая об иной славной жизни. Все это делалось в соответствии с тогдашней политикой с той целью, чтобы отвлечь их от притязаний на престол. В них, живших безнравственной и бесцельной жизнью, убивались возвышенные и героические стремления.
Как уже сказано, царь присвоил себе Айрарат и вместе с наследником престола проживал в столице. Остальные царевичи не имели права селиться в Айрарате. Для каждого из них была предназначена отдельная провинция. Только один из аршакидских царевичей, племянник Аршака II, Гнэл осмелился поселиться в Айрарате, у подножия горы Арагац. Этим поступком он возбудил подозрение Аршака и вскоре пал жертвой его подозрительности.
Вследствие увеличения царского рода и умножения нахарарств занята была большая часть земель страны, это сокращало доходы во вред царской казне.
У царя оставалась лишь одна провинция – Айрарат. При такой государственной организации, когда сила ее измерялась размером земли и количеством жителей, вполне понятно, что объединенная сила нахараров могла не только производить давление на царя, но и имела возможность постоянно держать в своих руках его судьбу. Войско держал каждый из нахараров, и военная сила некоторых из них была значительно больше военной силы Айрарата.
Но, с другой стороны, существовало множество самодовлеющих нахараров, имевших свои особые интересы, свои издревле утвердившиеся обычаи. Поэтому, очень понятно, из этих раздробленных княжеств не могло образоваться единое, крепкое автократическое государство.
Последние цари из династии Аршакидов чувствовали, в чем заключалась их слабость, и с целью превращения государства в единую, крепкую организацию начали постепенно ограничивать господство нахараров.
Общее положение страны, опасность извне и постоянные столкновения с нахарарами повели царей по этому естественному пути.
Эта идея возникла у аршакидских царей, начиная с того дня, когда христианство проникло в Армению. Трдат явился первым, кто уничтожил могучее нахарарство Слкуни и отнял у него Тарон. Но у этого выдающегося государя, занятого большим делом религиозной перестройки Армении, не нашлось времени для осуществления еще более трудной политической перестройки.
Три преемника Трдата Великого – Хосров II, Тиран II и Аршак II повели дальше начатое дело.
Сын Трдата Великого, Хосров Младший, хотя и не походил на своего гиганта-отца и не обладал его непобедимой храбростью, но все же был умным человеком. По отношению к нахарарам он предпринял две меры: одну строгую, другую мягкую. Он был жесток, когда велел убить алдзникского бдешха Вакура, уничтожил его род и после многих убийств, совершенных в Алдзнике, изгнал оттуда его сына Гешу вместе со множеством пленников. Мягкие меры, примененные им, были более политичны и могли оказаться более гибельными для нахараров, если бы Хосров долго жил. Но он процарствовал всего лишь девять лет. Он задумал связать старших нахараров со своим двором и посредством придворных увеселений деморализовать и ослабить их. С этой целью он издал закон, по которому нахарары, имевшие от тысячи до десяти тысяч войска, должны были всегда находиться при царе и не отъезжать от него. И чтобы занять нахараров, Хосров у веселых берегов Ерасха основал город Двин, перевел туда свой двор, а долину реки Азат вблизи города покрыл искусственными лесами, названными по его имени Хосровакерт. Эти леса он заполнил всякого рода зверьем, пригодным для охоты. В этих лесах он построил роскошный дворец, который назывался Тикнуни. Чудесный дворец этот в прохладном лесу являл собой рай, где жили красивые женщины и происходили постоянные увеселения. Там для нахараров были уготовлены всякого рода развлечения и забавы. Там соблазны, придворный разврат изнашивали их, убивали в них стремление к власти. Но это продлилось недолго. Со смертью Хосрова умерла и зародившаяся в нем идея.
Сын Хосрова, Тиран II, не последовал мирной политике отца. Беспощадной рукой он перебил несколько нахарарских родов и в особенности представителей двух старейших нахарарских фамилий – Арцрунидов и Рштунидов. Во время этих избиений два брата Мамиконяна с обнаженными мечами в руках набросились на палачей и спасли двух мальчиков: Шаваспа и Тачата. Это были оставшиеся в живых наследники двух родов.
Тиран не мог продолжать дальше эту внутреннюю борьбу, так как его царствование, подобно отцовскому, было кратковременно – одиннадцать лет. Своим поведением он оттолкнул от себя многих нахараров и остался беспомощным и покинутым. Последствием такого положения явились его военные неудачи, которые он потерпел сперва от римлян, а затем от персов. Персидский царь ослепил его и отнял трон.
Сын Тирана Аршак II постарался завершить то, что начали его предшественники. Он объявил открытую войну нахарарам. Но для того, чтобы начать с ними борьбу, он нуждался в крепкой опоре, иначе говоря, ему нужна была мощная партия. Невозможно было создать такую партию из нахараров, так как все они объединились против него. А один Айрарат не имел достаточной силы для борьбы с нахарарами. Изобретательный царь задумал перетянуть на свою сторону если не весь народ, то по крайней мере недовольных, ту часть, которую преследовали и угнетали властители-нахарары. С этой целью он основал у подножья горы Масис город-убежище, назвав его своим именем Аршакаван. Когда город был готов, он издал приказ, в силу которого всякий вошедший в этот город считался свободным от закона и суда. Вскоре город и вся долина провинции Ког, где находился Аршакаван, наполнилась массой переселенцев. Там нашли убежище все те, кого преследовали и угнетали нахарары. Там нашли убежище все недовольные и протестующие. Там нашли убежище также и преступники, осужденные законом. Там сосредоточилась горечь земли, вековая месть против насилия и грубой силы. Там собрались все прегрешения и преступления, порожденные безудержным произволом деспотов. В очень короткий срок население города достигло двадцати тысяч дымов.
Все жители города были из числа подданных нахараров. Все эти горемычные и вместе с тем отчаянные люди были в руках Аршака мощной силой для борьбы против нахараров.
Нахарары почувствовали это, в особенности когда заметили, что их подданные – и не только недовольные – с удовольствием готовы переселиться в этот свободный город, где не было ни налогов, ни тягот закона, а, наоборот, каждый человек чувствовал себя в полной безопасности.
Кроме того, оставшиеся на нахарарских землях жители, имея перед собою такой пример, могли впасть в соблазн и в любую минуту восстать, видя, что царь жалует свой народ большей свободой и большими милостями, чем князья.
Отсюда возникли кровопролитные войны между нахарарами и Аршаком.
Быть может, Аршак и остался бы победителем, если бы нахарары не прибегли к внешней помощи. Они обратились к вековому врагу армян – к персидскому царю. Шапух извлек пользу из внутренних раздоров Армении и послал на помощь нахарарам свои войска. Оставшийся без поддержки Аршак бежал на север в Кавказские горы.
Во время его отсутствия месть нахараров превзошла всякую меру жестокости. С помощью нахараров персы овладели городом Ани, ограбили царскую казну и даже не пощадили усыпальницу аршакидских царей: разрушили могилы и увезли в плен царские останки.
В то же самое время нахарары обрушились на Аршакаван и беспощадно перебили как мужчин, так и женщин. Город-убежище наполнился трупами; кровь рекой текла по улицам. Уцелела лишь часть грудных детей.
Аршак вернулся с Кавказа, ведя с собой грузинские и иные горские войска. Снова возгорелась война между нахарарами и царем.
Нахарары, проводив персов с богатой добычей, призвали на этот раз против своего царя греков. Легионы Валента приблизились к армянским границам. Перед Аршаком стояли три могучих врага: греки, персы и его нахарары…
Он не отчаивался, но уступил, когда ангел мира явился и прекратил кровопролитие.
То был Нерсес Великий.