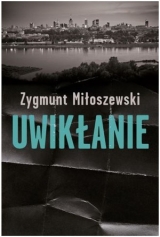
Текст книги "Увязнуть в паутине (ЛП)"
Автор книги: Зигмунт Милошевский
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
Венцель скривился.
– Преувеличиваю? Поправь меня, если я ошибаюсь, но разве восемьдесят девятом году взорвалась некая бомба «К», которая вызвала, что неожиданно испарились все ёбаные красные аппаратчики, дворняжки на советских поводках, эсбеки, персональные источники информации, секретные сотрудники и вообще вся эта тоталитарная чернь? Я вот что тебе скажу: тебя подкупят или запугают. Может даже еще сегодня, как только они узнают, что ты со мной беседовал. Просто так, на всякий случай.
– Ты не знаешь меня.
– Я знаю тех, что были здесь перед тобой. Все такие же стойкие и непоколебимые. Все они говорили, что я их не знаю. С той поры я не слышал ни про них, ни про дела, которыми они занимались. Я без претензий. Такова жизнь: если в частном порядке есть что терять или есть что получить, свое мнение очень легко поменять.
2
На работе он начал с того, что договорился на следующий день с доктором Еремияшем Врубелем. У него в голове появилась безумная идея процессуального эксперимента, но чтобы его провести, вначале нужно было уточнить все подробности с доктором. Забавно, но Врубель, который так раздражал его проявлением превосходства и глупыми шуточками в ходе беседы, записался в его памяти человеком симпатичным и достойным доверия. И он с охотой встретится с ним.
После того он позвонил Кузнецову. Полицейский звонок принял, но, как и всегда, он был в паршивом настроении.
– Теоретически кое-чего есть, а практически – ноль настолько громадный, что в него можно вложить все бабки, прокрученные бандой Пискорского,[135]135
См. сноску на стр. 5.
[Закрыть] в банкнотах по десять злотых, – ответил он на вопрос о продвижениях в исследовании прошлого Теляка. – Мы нашли соучеников из лицея, которые помнили только то, что такой был. Нашли студентов из его группы, которые помнили то же самое. Нашли его сотрудников по Варшавскому графическому предприятию, куда он попал после института. Большая часть его вообще не помнила, только один мастер припомнил, что парень быстро учился и желал экспериментировать с новыми технологиями. Что тогда, наверняка, означало струйные принтеры, впрочем, не имею понятия.
– Можешь забыть про Теляка, – после некоторого колебания сказал Шацкий. – Там мы ничего не найдем. Похоже на то, что мы касались в прошлом не тех людей, что следовало.
– Отлично! – Олег не скрывал разочарования. – Но если ты желаешь, чтобы теперь мы искали его дружков по начальной школе или кого-то другого, то для этой работы найди себе другую районную комендатуру или попроси поддержку со стороны столичной комендатуры.
– Да ты не бойся. Это все мелочи. И, возможно, последние проверочные действия в данном следствии. Слушай, – снизил он голос и осмотрелся по кабинету; тут вспомнились все рассказы Подольского и Венцеля, – а вернее, не слушай, так как это не телефонный разговор. Нам нужно поговорить лично.
– О'кей, я и так собирался ненадолго выйти, могу заскочить и на Кручую.
– Нет, это не совсем хорошая идея. Встретимся ненадолго на ступенях перед Министерством сельского хозяйства. Через четверть часа.
Кузнецов театрально вздохнул, прошептал замученным голосом «ладно» и положил трубку.
Шацкий посвятил эту четверть часа на то, чтобы кратко записать то, что услышал от Венцеля, и на проектирование собственных гипотез.
Он размышлял над тем, чего конкретно хочет от Кузнецова, и что, собственно, должен ему сказать. Неужто он уже сам мыслит словно параноик? Похоже на то. Понятно, что он ему все расскажет, и они вместе подумают, как действовать. Ведь они же всегда так делали. Шацкий вырвал листок из блокнота и разделил его на две половинки. На одной он выписао фамилии лиц, выступающих в деле, на второй – лозунги, соответствующие людям, имеющим связь с убийством 1987 года. Можно ли их каким-то образом объединить? Существуют ли – кроме, скорее всего, Теляка – какие-то общие моменты? Сейчас он был уверен, что, как минимум, один. Но вовсе не исключал, что этот след фальшивый. Или же, что человек, объединяющий эти две истории, вовсе не будет тем, о котором он сейчас думает. К счастью, у него имелась идея, как это узнать.
И, как обычно, когда он уже стоял в двери, зазвонил телефон.
– Это пан прокурор Теодор Шацкий? – спросил мягкий голос, принадлежащий пожилому мужчине. Шацкому этот голос не был известен.
– У телефона. Кто говорит?
– Я старый знакомый Хенрика Теляка, когда-то мы работали в одной фирме. Думаю, нам следует поговорить. Через полчаса я буду ждать вас в итальянском ресторане на Журавей, в том самом, что между Кручей и Братской. Надеюсь, что пан сегодня еще ничего не ел, так что с удовольствием приглашаю пана пообедать.
Венцель был прав. Еще сегодня.
3
Мужчина заказал воду и ждал. Хотелось кофе, но уже выпил два, а сегодня давление – как атмосферное, так и артериальное – металось во все стороны. Все равно же он не откажется выпить маленький экспрессо после еды, а пить дополнительный кофе сейчас было бы глупо.
Он знал об этом, но, тем не менее, страдал. Забавно, как мелкие привычки способны превратиться в одержимость.
Прокурор Теодор Шацкий прибыл пунктуально в срок. В костюме цвета водянистого серебра, выпрямленный, уверенный в себе. Не раздумывая и не разглядываясь по залу, он подошел к столу мужчины и уселся с другой стороны. Руки мужчине не подал. Из него получился бы неплохой офицер. Прокурор не заговаривал, мужчина тоже молчал. В конце концов, он решил тишину прервать, у него не было времени играть в буку до вечера.
– Не знаю, известно ли пану это место, но лучше отправиться к повару, чем ожидать официанта. Можно присмотреться, что он там делает, поговорить, выбрать. А прежде всего: самому собрать салат.
Шацкий кивнул. Мужчина – очередная привычка, перешедшая в манию – взял немножечко рукколы и моцареллы, прокурор выбрал жареные на решетке артишоки и баклажаны, римский салат, немного вяленых помидоров. Для основного блюда – все еще не обменявшись ни словом – тортеллини с рикоттой и грибами, а еще каннеллони, фаршированные шпинатом, в соусе из горгонзолы.[136]136
Очень-очень коротко: тортеллини – итальянская разновидность пельменей, рикотта – сыр, с которым тортеллини готовят; каннеллони – толстенные макароны, которые, как правило, фаршируют мясом, рыбой или овощами.
[Закрыть] Похоже, только лишь в Краковских аллеях подавали пасты, лучше чем здесь.
– Вы меня будете пытаться подкупить или запугать? – спросил Шацкий, когда они вернулись к своему столу.
Балл в его пользу. Если молчал так долго, поскольку раздумывал, как начать разговор, то оно этого стоило. Такого начала мужчина не ожидал. Теперь необходимо было слегка отступить, что сразу же ставило его в худшей позиции. Руккола показалась мужчине более горькой, чем обычно.
– Я вижу, что пан привык одеваться опрятно, – сказал он, указывая на костюм Шацкого.
– Лично я предпочитаю определение: элегантно.
Мужчина усмехнулся.
– Элегантность начинается с десяти тысяч. Пан всего лишь опрятен.
– Следовательно: взятка. Говоря по правде, с какого-то времени мне интересно, сколько вы мне предложите. Так что, может пропустите вступления и обозначите сумму. Мы будем знать исходные позиции еще до того, как принесут заказ.
Второе очко То ли он и действительно с ним играется, либо и вправду для него важны деньги. Неужто все было бы так просто? Мужчина уже столько знал о прокуроре Шацком, что позабыл: он плохо оплачиваемый государственный служащий, столь же жадный к деньгам, как и все остальные. Он чувствовал себя разочарованным, но, и действительно, можно устроить все дело перед тем, как принесут макароны. Мужчина глянул на сидящего несколькими столиками далее мужчину. Тот кивнул, давая понять, что на прокуроре нет подслушки или какого-либо иного оборудования для записи.
– Двести тысяч. За пятьдесят вы отправитесь с семьей в поездку вокруг света. Разве что пан предпочтет с любовницей; говоря по правде, как развернется ваш роман после вчерашнего нежного поцелуя. За остаток пан может купть дочке небольшую квартирку, чтобы та ждала девочку и только увеличивала стоимость.
Шацкий вытер губы салфеткой.
– И пан еще отчислит себе из этой суммы за инвестиционное консультирование? – заявил он с издевкой. – Или же данный подарок обусловлен тем, каким образом мне можно потратить эти деньги?
Третье очко. Слишком много сказал, вот и получил по лапам. Самое время перехватывать контроль.
– Двести тысяч и, естественно, мы поможем пану задокументировать эти доходы. Предложение серьезное, так что свои шуточки можете пропустить.
– Я отвечу вам через неделю, в четверг.
Ошибка.
– Нет, ответ мне пан даст сейчас. Ведь это уже не беседа по вопросу трудоустройства, а предложение гигантской взятки. Пан должен принять решение без консультаций с приятелями, женой, любовницей, родственниками или кем там еще. И времени у пана до – скажем – завершения прощального «экспрессо».
Шацкий кивнул. Официант принес заказанные макароны, они занялись едой. Оба еще заказали по стакану воды: несмотря на кондиционеры, сорочки прилипали к спинам. Небо было черное, где-то вдали гремело и сверкало, тем не менее, не пролилось ни капли.
– А если нет? – спросил Шацкий.
– Лично мне будет неприятно. Прежде всего, потому что вы замечательный прокурор и, вроде как, симпатичный человек, но по случаю пан коснулся того, чего касаться не следует. Думаю, что те деньги пану бы пригодились, облегчили жизнь. Впрочем, глянем правде в глаза – дело и так отправится в долгий ящик.
– В таком случае, почему бы пану просто спокойно не подождать?
– Говоря осторожно, моим приоритетом является покой для самого себя и своих товарищей. Мы не чувствуем для себя угрожаемыми, так что не льстите себе. Мы опасаемся того, что если пан, даже не желая того, чего-то намешает, нам это будет стоить больше энергии, больше тысяч злотых, больше действий, которые – вопреки широко распространенным представлениям – мы всегда рассматривали как необходимое зло.
– Выходит, все-таки угрозы. Как же это дешево…
– Я это понимаю гораздо лучше пана, прошу мне верить. Я слишком уважаю пана, чтобы рассказывать, что мы можем, что мы знаем о вашей семье, о приятелях, знакомых, коллегах по работе, свидетелях, подозреваемых и так далее. Мне бы только хотелось, чтобы у вас не появилось ошибочное мнение о нашей слабости. Поскольку, руководствуясь подобным убеждением, пан мог бы натворить чего-то такое, чего нельзя было бы повернуть назад, чего нельзя было бы обговорить за столиком в симпатичном ресторанчике.
Теодор Шацкий не ответил, не говоря ни слова, он закончил есть, после чего спросил:
– А пан не боится, что я записываю нашу беседу?
Мужчина чуть ли не выплюнул на тарелку кусочек замечательного пирожка. Всякого он ожидал, но не такого пацаньего отзыва, словно из шпионского фильма, снятого группой любителей из начальной школы. Он чувствовал себя смущенным необходимостью ответа.
– Я знаю, что пан не записывает. Это очевидно. Вопрос в другом: а не записываю ли эту беседу я? Не смонтирует ли мой коллега из столичной Криминалистической лаборатории ее столь совершенно, что другой его коллега, который будет анализировать запись по заказу окружной прокуратуры, не узнает, что это монтаж. А ваши коллеги с Краковского будут ломать голову, ну как пан мог быть настолько наглым, чтобы требовать полумиллионную взятку.
– Это блеф.
– В таком случае, пан может меня проверить.
– Следующий блеф.
Мужчина вздохнул и отодвинул от себя пустую тарелку. Соус был таким вкусным, что хотелось вытереть остатки пальцами. Поэзия. Он подумал, а не пора ли продемонстрировать силу. Подошел официант, у которого он заказал маленький черный и порцию тирамису. Шацкий десерта не желал. Очередная ошибка: этим он показал, что боится. То есть, нужно его еще чуточку прижать, и дело сделано.
Мужчина осмотрелся по залу. Несмотря на обеденное время, в ресторации было довольно пусто, большинство клиентов занимало столики на улице, отсюда они были почти не видны. В их части зала было только двое бизнесменов в дорогих, хотя и уродливых костюмах, беседующих о чем-то, что видели на экране ноутбука. Парочка лет тридцати с пиццей, похоже, иностранцы, когда заговаривали громче, мужчина различал английские выражения. И одинокий тип в льняной рубашке, полностью поглощенный чтением газеты.
Официант принес кофе. Мужчина добавил в микроскопическую чашечку две ложки тростникового сахара и тщательно перемешал. Получилось нечто, похожее на ириску, оставленную в машине в жаркий день. Сделал глоточек.
– Так пан говорит: блеф. Тогда послушайте. Прямо сейчас я мог бы вынуть оружие, которое имеется со мной, и пристрелить пана. Вот так, запросто. Понятное дело, пришлось бы потрудиться, сделалось бы замешательство, пресса, громкое следствие. Говорили бы, что это мафия, расчеты между бандитами, что пан наступил кому-то на мозоль. И тут оказалось бы, что пан вовсе не был таким белым и пушистым, как все перед тем считали. Появилась бы некая странная запись. В конце концов, наверху пришли бы к выводу, что, возможно, во всем этом лучше и не копаться. Понятное дело, что лично я никогда бы ничего такого не сделал – то была бы крайняя глупость. Но теоретически я бы и мог…
Шацкий одним глотком выпил кофе, снял салфетку с коленей, сложил ее и положил на краю стола.
– Это самый дурацкий блеф, который я слышал во всей своей жизни, – устало сказал он. – Мне весьма жаль, что у пана поехала крыша, если что, то я с охотой я помогу пану найти специалиста, в последнее время я часто разговариваю с психологами. В любом случае, мне пора бежать. Благодарю за обед, надеюсь, что больше мы уже не увидимся.
Теодор Шацкий отодвинул стул.
Мужчина вытащил из кобуры под мышкой небольшой пистолет с заводским глушителем и приставил Шацкому к сердцу.
– Садись, – шепнул он.
Шацкий побледнел, но марку держал. Он медленно придвинул стол к столу.
– Не знаю, насколько вы сумасшедший, – спокойно произнес он. – Но, похоже, не настолько, чтобы убирать меня при свидетелях.
– А что, – спросил тот с легкой усмешкой, – если тут никаких свидетелей нет? Если здесь одни только мои люди?
Как по команде парочка иностранцев, тип в льняной рубашке и пара бизнесменов подняли головы и весело помахали Шацкому. Официант помахал точно так же весело, как и остальные.
Мужчина снял пистолет с предохранителя и сильно втиснул дуло в грудь прокурора. Он понимал, что на белой рубашке останется след и запах смазки. Ну и замечательно, пускай помнит.
– Так у пана еще имеются вопросы? Или еще раз пану бы хотелось сказать, будто бы я блефую? Или подчеркнуть, насколько я стукнут?
– Нет, – ответил Шацкий.
– Прекрасно, – произнес мужчина, спрятал пистолет в кобуру и встал из-за стола. – Декларации я не ожидаю, зная, насколько это было ы для вас унизительно. Но я верю, что это была наша последняя беседа.
Он вышел, давая знак мужчине в льняной рубашке, чтобы тот оплатил счет. Когда он шел к автомобилю, подул сильный ветер, а на пыльный город упали крупные капли, обещая ливень. Где-то очень близко ударила молния.
4
Шацкий был мокр от пота и дождя, когда, стоя на коленках, блевал в туалете Районной прокуратуры Варшава-Центр, не в силах сдержать рвоту. Уже вышли кофе, каннеллони и жареные на решетке артишоки, за ними пошел завтрак, из горла лилась едкая желчь, а Теодор не мог сдержать ее. У него крутилось в голове, перед глазами мелькали черные точки. Наконец-то ему удалось сделать глубокий вдох, спустить воду и усесться прямо на полу туалета. Шацкий уткнулся лбом в холодную глазурь плитки и пытался медленно дышать. Началась чудовищная икота, но содержимое желудка удержать удалось. Он снял заблеванный галстук и выбросил его в ведро рядом с унитазом. Еще несколько вздохов. Он поднялся на ноги, с подгибающимися коленями вернулся в кабинет и запер двери на ключ. Нужно было подумать.
Он поднял трубку, чтобы позвонить Олегу, но положил ее на место, не набирая номера. Во-первых: никому он не сможет этого рассказать. Никому. Никогда не было беседы в итальянском ресторанчике, никогда не было «ОДЕСБЫ», никто и никогда не вытирал пистолетного ствола о его рубашку, на которой все еще был виден бледный бурый след. Он еще придумает, как схватить этих сволочей за задницу, когда-нибудь он разотрет их в мелкую пыль, но вот сейчас – никому ни слова. Всякий, кто с ним контактировал, сейчас находился в опасности. С тем, кто что-нибудь узнает, может произойти несчастный случай. Одно лишнее слово может означать, что его близким может грозить опасность всякий раз, когда они тронутся на зеленый свет светофора. Вероника, малышка Хеля, а еще Моника. Ну да, Моника, необходимо как можно скорее покончить с этим стеснительным романом, чтобы отобрать из их рук орудие шантажа.
Шацкий позвонил ей. Сказал, что хотел бы ненадолго встретиться. Сообщил он это самым официальным тоном. Та смеялась, говоря, что чувствует себя обвиненной в человекоубийстве. Он же этой темы не развил. Оказалось, что в гнрорд выскочить она не может, сидит дома, пишет текст и никуда не двинется, пока нее закончит.
– Так сожет я заскочу на кофе, – предложил Теодор, не веря в то, что делает. Из всех возможных способов прекращения данного знакомства этот – заскочить на чашечку кофе – был, вне всякого сомнения, наихудшим.
Понятное дело, что Моника была восхищена. Он спросил адрес и не мог сдержать смешок, когда девушка сказала.
– Ты над чем смеешься?
– Андерсена? Сразу видно, что ты не из Варшавы.
– Почему же?
– Ты же говорила, что живешь на Жолибоже.
– Ну ладно, пускай будет, что на Белянах.[137]137
Беляны (польск. Bielany) – дзельница (район) Варшавы, самая северная из расположенных левом берегу Вислы. До введения нового административного деления Варшавы (1994) входила в состав дзельницы Жолибож. Так что Беляны нельзя назвать гминой. Гми́на (польск. gmina – волость) – наименьшая административная единица Польши.
[Закрыть]
– Белянах? Девушка, ведь Андерсена – это провинция, крупноблочная Хомичувка.
– Административно – это еще гмина Беляны. И должна тебе сказать: ты не слишком мил.
– А если привезу пончиков к кофе?
– Тогда, возможно, и прощу. Надо подумать.
Близился шестой час. Шацкий стоял в пробке на Банковой площади и слушал радио. Дворники работали на всю катушку, молнии били в самый центр города, ему же казалось, что каждая вторая метит прямо в антенну ситроена. На пассажирском сидении лежал сверток с пирожными. Вроде как он недавно рвал, теперь же казалось, что мог бы слопать их все и закусить приличным куском мяса. Рядом со свертком лежала купленная по дороге мятная жидкость для устранения запаха изо рта. Ею он воспользовался только раз на стоянке, чтобы избавиться от привкуса рвоты во рту. Пшикнул в рот еще раз, приоткрыл двери и выплюнул на мокрый асфальт. Стоящие на остановке люди удивленно глянули на него.
Шесть часов. Шацкий сделал звук погромче и переключился с «Атирадио» на «Зет», чтобы послушать новости.
– Начинаем с трагедии в Варшаве, – радостно сообщил ведущий, т Шацкий подумал, платит ли станция «Зет» меньшие налоги, раз принимает на работу людей с ограниченными умственными способностями и имеет ли статус защищенного работодателя. – В центре города, в окружении высоких деревьев и высотных жилых домов, молния убила женщину, которая шла забрать из садика семилетнюю дочурку. Наш репортер находится в районе Прага-Север.
Теодор Шацкий почувствовал, что прекращает существовать. Он был только органом слуха, отчаянием и надеждой, что то не она. Заехал в «автобусный карман» и выключил двигатель.
– Грохот был ужасный. В жизни не слышал ничего подобного, – рапортовал возбужденный пожилой мужчина. – Мы стояли с женой у окна и наблюдали за молниями, нам обоим это очень нравится. Видели мы и ту женщину, как она бежала, как будто перескакивал от дерева к дереву, чтобы поменьше намокнуть, только она и так была уже вся мокрая.
Шацкий глазами воображения видел всю эту сцену. Видел Веронику: в джинсах, в мокрой футболке, приклеивающейся к телу, с потемневшими от воды волосами, с каплями дождя на очках.
– Вдруг вспышка и сразу же загрохотало, я уже думал, что мне конец, весь двор осветило, меня ослепило, а она так вроде и даже не вскрикнула. Как только зрение вернулось, то увидал, что она лежит.
Репортер: – То был пан Владислав, живущий на улице Щимановского. Скорая помощь прибыла молниеносно; к сожалению, никакие действия по реанимации уже не смогли спасти женщину. Ее дочка в настоящее время находится под опекой полицейских психологов. С варшавской Праги для «Радио Зет» – Марек Карташевский.
Ведущий: – К этому делу мы еще вернемся в новостях в девятнадцать ноль-ноль; гостем «Радио Зет» будет профессор Варшавской Политехники, специалист по атмосферным разрядам. Маршалек[138]138
Здесь имеется в виду спикер парламента.
[Закрыть] Влодзимеж Цимошевич на сегодняшней пресс-конференции заявил, что…
Шацкий не слушал. Уже в пятый раз он набрал номер Вероники, и пятый раз все заканчивалось предложением оставить сообщение. На автопилоте он связался со справочной и получил телефон детского сада, в который ходила Хеля на Шимановского, и позвонил. Там было занято. Теодор попеременно набирал оба номера. Первый не отвечает, второй занят. Он уже собирался звонить Олегу, когда услышал сигнал ожидания, только неизвестно, по какому из номеров.
– Детский сад, слушаю вас.
– Добрый день, Теодор Шацкий, моя дочка у вас в четвертой группе. Мне хотелось бы узнать, моя жена уже забрала ее…
Он был уверен, что женщина сейчас ответит: «Как, пан ничего не знает?». Он практически слышал эти ее слова и уже собирался отключиться, чтобы оттянуть тот момент, когда на все сто станет уверенно, что его жена лежит мертвая на асфальте двора на Праге, сам он сделался вдовцом, а его самая любимая на свете доченька – сироткой.
Он представил, как живет сам с Хелей, как они возвращаются в пустую квартиру. Неужто после чего-то такого таинственный эсбек продолжал ему угрожать? Хотела бы Моника с ним встречаться? Полюбила бы ее Хеля? Он сам был зол на себя за эти дурацкие мысли.
– Минуточку, сейчас выясню, – сказала сотрудница детского сада и отложила трубку.
Шацкий подумал, что та наверняка отправилась за полицейским: сама боялась сообщить. Кто-то взял трубку.
– Привет, Тео, – услышал прокурор мужской голос, и ему тут же захотелось завыть. Слезы ручьем текли по лицу. – Конрад Хойнацкий, Прага-Север. Мы работали вместе где-то год назад по делу скупщика лома, помнишь?
– Курва, да ты просто мне скажи, – прохрипел Шацкий.
– Что я тебе должен сказать?
– Правду, курва, что еще… – начал он рыдать прямо в трубку. Он не мог выдавить из себя уже ни слова больше, желая, наконец-то услышать страшное сообщение.
– Боже, Тео, да что с тобой? Погоди, сейчас дам тебе жену.
Жену, какую еще жену? О чем он говорит? Шацкий услышал какие-то перешептывания.
– Пан Шацкий? – тот же самый женский голос, что и раньше. – Хели нет, мама забрала ее полчаса назад.
Он ничего из всего этого не мог понять.
– А молния? – спросил он, все еще рыдая.
– Ах, ну да, ужасная история. Конрад мне рассказывал. Божечки, как подумаю, что это могло случиться в нашем детском саду, что могла погибнуть мама нашего ребенка… Рыдать хочется… Такая трагедия. Но даю вам Конрада.
Шацкий отключился. Ему не хотелось беседовать сейчас со старым приятелем, который появился в самом худшем месте, в самое неподходящее время. Он опустил голову на руль и плакал, что было сил, только теперь от облегчения. Зазвонил телефон.
– Ну, привет, ты чего так звонишь и звонишь? Что-то случилось? Мы были в магазине, не слышала звонка.
Шацкий сделал глубокий вдох. Ему хотелось во всем признаться, но вместо того он соврал:
– Знаешь, иногда я занимаюсь такими делами, о которых не могу сказать даже тебе.
– Такая у нас работа. Меня бы тоже уволили за сообщения тебе о некоторых процессах.
– К сожалению, сегодня я должен остаться допоздна, и объяснить тебе не слишком-то могу.
– До какого времени?
– Не знаю. Буду в Национальном совете по судопроизводству. Если смогу, вышлю тебе эсэмэску.
– Что тут поделаешь, вот Хеля опечалится. Только поешь что-нибудь нормальное, не кола с батончиком… А то вырастет у тебя пузо, а мне не нравятся типы с барабанами спереди. Договорились?
Шацкий пообещал, что съест салат, сообщил, что любит, и что на выходные возместит Хельке сегодняшнее отсутствие. После чего запустил двигатель и влился в поток машин, направляющихся в сторону Жолибожа.
Крупноблочный дом на Хомичувке был громадным и отвратительным на вид – как и все крупноблочные дома на Хомичувке – а вот квартирка была очень даже ничего, хотя и низкая. И удивительно большой как на одного человека. Метров как бы не шестьдесят. Шацкий держал в руке стакан белого вина со льдом и позволял себя вести. Забитый книгами салон с допотопным телевизором и огромным, мягким диваном в главной роли; в двух комнатах поменьше Моника устроила спальню и гардероб-свалку. Было видно, что эта съемная квартира, меблировка кухни, шкафы и полки говорили каждому: привет, нас изготовили семидесятые годы, когда еще не было Икеи». Прихожая была обита – а как же еще – сосновыми панелями.
И повсюду были фотографии. Приклеенные, закрепленные кнопками, висящие в фоторамках. Почтовые открытки, снимки, сделанные в поездках, снимки каких-то мероприятий, газетные вырезки. Но большинство – все же частные. Моника – совсем еще малыш с надувным слоном; Моника на верблюде; Моника спит на полу с чьими-то (своими?) трусами на голове; Моника на лыжах, Моника на море, обнаженная Моника читает книжку на траве. Был и тот самый снимок, который она присылала – в белом платье на морском берегу. Шацкий глядел, какая она молодая и свежая и молодая на этих фотографиях, так что почувствовал себя ужасно старым. Словно дядюшка в гостях у племянницы. Вот что он здесь делает?
Раньше, еще в автомобиле, он снял пиджак, расстегнул рубашку и подвернул рукава. Но рядом с Моникой – босой, в джинсовых шортах и футболке с репродукцией «Полуночников» Хоппера – он все равно выглядел госслужащим. Эта мысль заставила его усмехнуться. Ведь он и был госслужащим, так на кого ему было походить?
– Я тут думала, не снять ли половину всех этих снимков, когда узнала, что ты приедешь. Даже уже начала, потом махнула рукой и отправилась в магазин. Тебе макароны со шпинатом нравятся?
– А что?
– Что ни говори, время обеденное, так я подумала, что перед кофе стоило бы что-то перекусить.
Девушка была ужасно зажата. В глаза ему не смотрела, голос ломался, кусочки льда в стакане грохотали. И все время она ходила вокруг, чуть ли не подскакивала. Сейчас же побежала в кухню.
– А зачем ты хотела снять эти снимки? – крикнул Шацкий ей вслед.
– На некоторых из них я паршиво выгляжу. Или слишком худая, или слишком толстая, или веду себя как дитя, ну или еще чего-то не так. Ты же сам видишь.
– Вижу классную девчонку в тысяче воплощений. Ну вот тут, правда, прическа ужасная. Ты не слишком молода для афро?
Моника прибежала.
– Ну вот. По крайней мере, эту следовало снять.
И снова убежала в кухню. Шацкому хотелось ее поцеловать, но он предпочел бы, чтобы это возникло само, как вчера. Чтобы все случилось само. А кроме того, он ведь приехал сообщить, что это конец. Он вздохнул. Лучшше, когда это уже произойдет. Он направился в кухню. Моника вынула из кастрюли макаронину и попробовала.
– Еще минутку. Можешь вытащить тарелки из шкафчика над холодильником?
Шацкий отставил стакан на столешницу и взял две глубокие тарелки с голубой полоской по краю, как в общепите. Кухня – пускай и длинная – была ужасно узкой. Шацкий с тарелками в руках обернулся, и впервые за этот вечер они поглядели друг другу в глаза. Моника тут же отвела взгляд, но в это мгновение она показалась мне красивой. Он подумал, что ему хоть раз хотелось бы проснуться рядом с ней.
Устыженный, он забрал стакан и отправился в салон, чтобы покопаться на полке с книжками. Вся эта ситуация показалась ему смешной. Ну вот что он делает? Несколько лет назад договорился на кофе с миловидной девушкой, и вместо того чтобы попросту трахнуть ее, забыть и заняться женой – как делают это все остальные – он глядит ей в глаза и мечтает о совместном завтраке. Невозможно поверить!
При мысли о Веронике и Хеле Шацкий почувствовал укол печали. Чувство вины? Не обязательно. Скорее – печали. Все в его жизни уже произошло. Никогда уже не будет он молодым, никогда не влюбится любовью двадцатилетнего пацана, никогда не влюбится, не считаясь с чем-либо другим. Столько эмоций всегда будут вторичными. Что бы ни произошло, навсегда он останется типом – пока что среднего возраста, а потом все старше – после всяческих переживаний, с бывшей женой и бывшей дочкой, с изъяном, заметным для всякой женщины. Какая-то из них, возможно, и захочет его по расчету – ведь он все еще ничего выглядит, потому что худощавый, потому что имеет постоянную работу, и потому что с ним можно поговорить. Быть может, и он сам на какую-то из них согласится, ведь, в конце концов, вдвоем живется лнгче, чем одному. Но вот сойдет ли кто-то по его причине с ума? В этом он сомневался. Сойдет с ума сам? Шацкий только лишь горько усмехнулся, ему хотелось плакать. Его возраст, его жена, его дочка – сейчас все это вдруг показалось ему приговором, неизлечимой болезнью. Диабетик не может есть птифуры, гипертоник не может скакать по горам, Теодор Шацкий не может влюбиться.
Моника подкралась сзади и закрыла ему глаза своими ладонями.
– Грошик за твои мысли, – шепнула она.
В ответ он лишь покачал головой.
Девушка прильнула к его спине.
– Все это ужасно несправедливо, – произнес он наконец.
– Эй, только без преувеличений, – заявила Моника с деланной веселостью.
– Тут нечто большее, чем ничего.
– Меня это «нечто» не интересует.
– А больше не всегда удается. Бывает, что и никогда.
– Ты пришел, чтобы сказать это мне?
Какое-то время он колебался. Как всегда, хотелось соврать. С каких это пор это удается с такой легкостью?
– Да. И дело здесь не только в… – снизил он голос.
– В твоей семье?
– Да. Случилось еще кое-что, подробностей я рассказать тебе не могу, я увяз в мрачной афере, и мне не хочется запутывать во все это еще и тебя.
Моника сжалась, но гостя не отпустила.
– Ты меня дурой считаешь? Почему бы тебе не сказать правду, что влюбил меня в себя ради забавы, что все это было ошибкой, а теперь необходимо заняться женой? Зачем ложь? Сейчас ты скажешь, что работаешь на правительство.
– В каком-то смысле это правда, – усмехнулся Шацкий. – И клянусь, что не вру. Боюсь, что тобой смогут воспользоваться, чтобы ударить в меня. Если же речь идет о влюбленности – поверь мне, все совершенно не так.
Моника еще крепче прижалась к нему.
– Но ты останешься? Ну хоть это ты же мне должен…
Ранее он представлял эту сцену во всех возможных вариантах, но такого сценария просто не предвидел. Сейчас он шел за девушкой через коридор в спальню, и внезапно ему захотелось расхохотаться. Шаркаешь, подумал он. Шаркаешь ногами, словно сатир с кривыми волосатыми ногами. Шаркаешь и топчешься словно вечно желающая трахаться обезьяна конобо с красным задом. Словно старый пес, почувствовавший суку. Словно идиот среднего возраста. Нет в тебе ничего человеческого.








