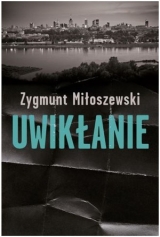
Текст книги "Увязнуть в паутине (ЛП)"
Автор книги: Зигмунт Милошевский
Жанр:
Полицейские детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
– В чем-то – да, в чем-то – нет, – дипломатично ответил тот. Ведь это был тот вопрос, на который никакой прокурор во всей Польше не мог бы ответить категорически, с чистой совестью.
– Да, следовало бы под ореликом[78]78
Наверное, нет смыла напоминать, что гербом Польши является белый орел (снова в короне).
[Закрыть] у дверей написать эти слова в качестве нашего девиза – «В чем-то да, в чем-то – нет». Или, скорее, нет?
– Скорее.
– Пан прав, – снова вздохнула Хорко. – Я подпишу пану этот ваш обвинительный акт, отошлем его на Краковское и поглядим, что будет дальше. А когда все это сделается совсем уже невыносимым, придется подумать. Моя коллега с Воли выправила себе документы юрисконсульта, устроилась в юридическом отделе у производителя минеральной воды в Бескидах. Теперь у нее домик в горах, работает она всего по восемь часов, зарабатывает двенадцать тысяч ежемесячно. и никто не обольет ее кислотой, не поцарапает краску на машине только из-за того, что она «та курва» из прокуратуры.
Шацкий молча кивнул. Хорко была права, но он опасался, что если уж слишком начнет с ней соглашаться, то та почувствует, что нашла в нем братскую душу и предложит заскочить к ней на рюмочку винца и поболтать о тяжкой доле прокурора в Жечи Посполитой. Из вежливости он посидел еще минутку, поблагодарил начальницу, упомянул что-то о горах бумаг и вышел, оставляя Янину Хорко окруженную невеселыми мыслями, смрадом дешевых сигарет и запахом кожеподобного кресла.
3
Во дворец Мостовских он отправился пешком, поскольку весь центр застыл в гигантской пробке. Никакая машина не была способна проехать через сердце города – кольцевой объезд возле Ротонды.[79]79
Ротонда ПКО (польск. Rotunda PKO) является банковским зданием на самом главном перекрёстке Варшавы – Рондо Дмовского.
[Закрыть] Правда, теперь это уже не был «кольцевой объезд возле Ротонды», а всего лишь кольцевой объезд имени Дмовского,[80]80
Роман Дмовский (польск. Roman Dmowski, в русских документах Роман Валентьевич Дмовский; 9 августа 1864, Камёнка близ Варшавы – 2 января 1939, с. Дроздово близ Ломжи) – польский политический деятель и публицист. Был политическим противником Юзефа Пилсудского, последовательно выступал за создание польского национального государства.
[Закрыть] на которого навесили это лишенное всяческого очарования перекрестье двух автострад. На Банковую площадь он мог легко доехать на метро, только этот вид транспорта тоже был закрыт. Так что не без удовольствия он пошел по улице Братской в сторону площади Пилсудского, надеясь, что транспорт тронется к моменту завершения допроса, так что в прокуратуру он сможет вернуться на автобусе.
Прогулка была просто замечательная, и Шацкий подумал, что если бы привезти какого-нибудь иностранца из аэропорта с завязанными глазами и взять на прогулку по этой трассе, в конце снова завязать глаза и перевезти на Окенце,[81]81
Международный аэропорт Варшавы (Okęcie).
[Закрыть] то туристу могло бы показаться, что Варшава – довольно-таки приятный город. Хаотический, но красивый. Опять же, в котором полно кафе, пивных и клубов, которых на этой трассе было даже очень много.
В особенности, отрезок от Швентокшыской, улицы Мазовецкая и Крэдытова с красивыми домами, магазинами для художников (а что, ведь Варшава – это город художников), комплекс на площади Малаховского, здание Захенты[82]82
Национальная галерея искусств «Захента» (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki). один из старейших выставочных салонов и крупнейшая галерея современного искусства в Польше.
[Закрыть] (а что, ведь город искусств) и сбивающая с ног панорама площади Пилсудского с Большим Театром (Варшава – театральный город) и «Метрополитеном Фостера» (Варшава – город замечательной архитектуры, ха-ха-ха).
А под конец прогулка через Огруд Саски[83]83
Огруд Саски – Саксонский сад (Ogród Saski) Саски сад, как часть дворцового комплекса Саская ось, был заложен в начале XVIII века и стал самым большим парком на тот момент, затмив по размерам Сад Красинских.
Название парк получил от имени короля Польши Августа II Саса (Саксонца). До войны парк был с одной стороны ограничен большим дворцом, состоявшим из двух зданий, соединенных двухэтажной колоннадой. К сожалению, во время Второй мировой войны дворец был полностью разрушен. На месте зданий так ничего и не построили, нет даже деревьев – просто газоны. А вместо былой колоннады, создан мемориальный комплекс Могила неизвестного солдата с вечным огнем и почетным караулом. Вечный огонь находится под одноэтажным фрагментом колоннады. Памятные надписи на колоннах отдают дань памяти солдатам, погибшим в войнах за всю историю Польши. Почетный караул лицом направлен к памятнику отцу современной Польши Йозефу Пилсудскому, а парк находится за их спинами. Несмотря на грустную историю, парк по-прежнему прекрасен. Великолепный фонтан-чаша запускается первым из всех Варшавских фонтанов. В парке есть типичные для паркостроения XVIII века аллея античных скульптур, пруд с лебедями и ротонда над прудом. А в тени огромных деревьев всегда приятно спрятаться в жаркий летний день. Огруд Саски находится в самом центре Варшавы в 5 минутах ходьбы от Президентского дворца и Оперного театра.
[Закрыть] с обязательным рассматриванием греющихся на лавочках полек. В течение многих лет Шацкий терпеть не мог этого места, на одной из здешних лавочек он получил отказ от девушки, в которую был влюблен еще в школе. Недавно он увидел ее в магазине. Лысеющий муж толкал перед собой тележку, из которой высыпались покупки; у нее было искаженное лицо, за собой она тащила двоих детей. Или одного тащила, а второго несла на руках? Вообще-то, из всей картинки Шацкий лучше всего запомнил факт, что волосы у нее были жирными, плохо покрашенными. Тогда он сделал вид, что женщину не узнал.
На Банковой площади он ускорил шаг – было уже начало седьмого. По подземному переходу он пробежал в скверик перед кинотеатром «Муранов» и сразу же почувствовал себя виноватым. Сам себя он считал представителем интеллигенции, и в качестве такового не должен был пропускать ни единой премьеры в «Муранове», где вместо голливудского хлама показывали более-менее амбициозные европейские фильмы. Бывал же он здесь крайне редко. Сам себе обещал, что посмотрит потом, на ДВД, но ни одного амбициозного европейского фильма в прокате не взял. Да что там, даже по ящику эту нудятину смотреть ему не хотелось. Сегодня тут показывали «Реконструкцию», какое-то датское размышление, похоже, о смысле жизни. Шацкий отвел глаза от обвинительно крупных литер репертуара. Через полминуты он уже был в фойе классицистического дворца Мостовских, где когда-то размещались органы царской власти, потом польской армии, затем Гражданская Милиция, а в настоящее время – Столичное Управление Полиции.
Навроцкий постарался. Свое обещание он выполнил и посадил Ольгерда Боничку в самом маленькой и самой мрачной комнате для допросов. Шацкий даже не был уверен, что это вообще комната для допросов – возможно, Навроцкий поставил в какой-то позабытой каморке столик и три стула только лишь затем, чтобы вызвать у Бонички впечатление допроса в гестапо. Площадь всего помещения составляла несколько квадратных метров, стены и двери грязные, окон никаких. Единственным источником освещения была лампочка под потолком в проволочной сетке. Хорошо еще, что Навроцкий сдержался и не притащил лампы на кронштейне – базового реквизита тоталитарных допросов.
– Прошу прощения за то, что пану пришлось ждать, – сказал Навроцкий перепуганному мужчине, сидящему за столиком из ДВП. Пластмассовая пленка, имитирующая не существующую породу дерева, по краям была потрепана, в нескольких местах были видны следы от погашенных сигарет. – Это прокурор Теодор Шацкий их центральной районной прокуратуры. Мы посчитали дело настолько важным, что решили переговорить с паном вдвоем.
Боничка тут же вскочил с места. Шацкий дал ему знак сесть. Он и сам взял стул, усевшись у двери, оставляя за столом полицейского и допрашиваемого. При этом он ничего не сказал, потому что ничего говорить и не следовало. Боничка глядел на него перепуганными глазами. Люди часто реагировали подобным образом на присутствие прокурора. Полицейский для них был кем-то, чье присутствие можно было принять. Он шатался в своем мундире по всему микрорайону, переписывал жулье, брал взятки, если кто ехал слишком быстро да еще и по пьянке. Свой мужик, сражающийся с жизнью; который знает, что легко никогда не будет, что нет ничего ни слишком черного, ни слишком белого. А вот прокурор ассоциировался с чиновниками, с которыми ничего нельзя устроить, которые ничего не понимали, которые сами говорили на непонятном языке и которые всегда были против. Потому Шацкий и молчал, зная, что пока что один его костюм и суровый вид говорят сами за себя. По сравнению с ним Навроцкий казался своим парнем. Жирный, запущенный, с опухшим лицом и жирными, редкими волосами, в расстегнутой желтоватой рубашке, без галстука, в старом оливково-сером пиджаке. Явно по причине какой-то аллергии, он ежеминутно сморкался.
Боничка был похож на полицейского лишь в том, что оба выглядели так, будто бы о выпускном экзамене на аттестат зрелости лишь слышали (но Навроцкий, несмотря на внешность, имел два высших образования: право и психологию). Очень худощавый, да что там – просто худой особой худобой человека, который работает физически и вкус стимуляторов узнал еще в начальной школе.[84]84
???
[Закрыть] В нем и вправду было что-то от смотрителя, Щацкому казалось, что чувствует исходящий от мужчины запах пота, дезинфицирующих и чистящих средств, подвала и подгнивших листьев. У Бонички были очень густые, очень черные усы и очень черные волосы с явной лысинкой на макушке. Сплетенные ладони лежали на коленях. При этом он подозрительно поглядывал то на прокурора, то на полицейского, который молча просматривал материалы дела.
– Так в чем, собственно, дело? – прохрипел наконец приглашенный и откашлялся. – Зачем вы хотите со мной переговорить?
– Стали известными новые обстоятельства убийства вашей дочки, – ответил Навроцкий. Он отодвинул бумаги в сторону, включил магнитофон, положил локти на стол и сложил ладони, словно собираясь молиться.
– Так?
Навроцкий не отвечал, только осуждающе глядел на Боничку.
– Вы их схватили?
Навроцкий вздохнул, чмокнул губами.
– Вы понимали то, что ваша дочь перед самым ее убийством была изнасилована?
Именного этого вопроса Шацкий и ждал. Теперь он внимательно следил за Боничкой из-под слегка прикрытых век, стараясь распознать эмоции на лице допрашиваемого. Мужчина лишь слегка поднял брови – и все.
– Как это? Не понял? И вы говорите об этом мне только сейчас?
– Мы и сами узнали об этом только сейчас, – ответил полицейский и громко чихнул, после чего еще пару минут занимался тем, что прочищал нос. – Прошу прощения, у меня аллергия на пыль. Совершенно случайно, в ходе следствия по совершенно другому делу мы напали на след насильников.
– И что? Они признались в том, что убили Сильвию?
– Нет.
Боничка какое-то время глядел то на полицейского, то на прокурора.
– Но вы же им не верите?
– Верим – не верим, это дело наше. Только вначале мы хотели переговорить с вами. Они подробно рассказали нам о том, что случилось тем вечером.
И Навроцкий начал рассказывать. Дважды Боничка безрезультатно просил полицейского, чтобы тот перестал. Во второй раз Шацкий и сам чуть ли не присоединился к просьбе подозреваемого. Комиссар не пропустил ни малейшей детали. Начиная с первых моментов, когда проходящей по улице Хожей девушке кто-то крикнул: «Сильвия, погоди, это я!», продолжая сумятицей на лестничной клетке дома, когда девушка не желала зайти «на минутку», несмотря на уверения, что «все будет супер», не забывая о гоготе, что «все знают, что у каждой телки «нет» – это «да», а «да» – это «завсегда пожалуйста»… вплоть до сцен в квартире на третьем этаже.
Прокурор прекрасно понимал, что Навроцкий не узнал об этом от насильников – если то вообще были они – которые все отрицали. Если блефовал, то это был тупик. Сильвия Боничка могла рассказать отцу о том, как все происходило тем вечером, и тогда их подозреваемый быстро поймет, что на самом деле ничего они не знают. Если и не блефовал, то наверняка цитировал историю, рассказанную ясновидящим. Шацкий выругался про себя. Ясновидящие и психованные психотерапии – его работа все более походила на дешевый сериал о прокуроре, выслеживающем паранормальные явления. Навроцкий мог бы его и предупредить…
– Когда она ушла, а точнее, когда ее уже вытолкали из квартиры, угрожая под конец, что случится, если она кому-нибудь расскажет об их – как они выразились – «шустром перепихоне», девушка поначалу не знала, где находится. Она знала лишь то, что ей страшно холодно. Потом пошла, куда глаза глядят, автоматически направляясь домой. Но когда проходила мимо школы, вспомнила о вас. Какое-то время постояла внизу, затем подошла к двери, позвонила. Заплаканная девочка-подросток в зеленой блузке, джинсовой юбке с блестящими аппликациями, со сломанным каблуком первых в своей жизни туфель-шпилек.
Навроцкий снизил голос. Боничка покачивался вперед и назад. Шацкий умножал в уме трехцифровые числа, чтобы подавить появляющиеся в его воображении сцены насилия. Преступления, которое – по его мнению – следует наказывать наравне с убийством. Насилие всегда было убийством, даже если труп после этого много лет ходил по улицам.
– У нее не было сломанного каблука, – неожиданно прошептал Боничка, все так же ритмически раскачиваясь.
– Не понял?
– Не было у нее сломанного каблука, она пришла босиком.
– Откуда вы можете это знать, если до вас она не добралась?
– Добралась, добралась, – пробормотал Боничка. – Вы знаете, что туфли выбросила по дороге. Смешно, она ужасно жалела о них. Ежеминутно повторяла, что это были такие замечательные туфли, что они так ей нравились. Когда каблук сломался, когда шла по Хожей, то посчитала, что будет лучше их выбросить, но потом сразу же начала их жалеть. Спрашивала, могу ли я пойти и принести ей те туфли, потому что она сама боится. Под конец она ни о чем другом не говорила, только о тех туфлях. Туфли, туфли, папа, принеси мне туфли, они наверняка там и лежат.
Шацкий старался не слушать. Все время он думал о том, что, возможно, следует взять семью или хотя бы одну дочку и выехать как можно дальше из этого города. Боже, как он ненавидел это место.
– И пан принес их? – спросил Навроцкий.
Ольгерд Боничка кивнул. Самые обычные черные туфельки с полоской кожи вокруг щиколотки. Если бы не сломанный каблук, они выглядели бы так, будто бы их только что вынули из магазинной коробки. Впервые она одела их на улицу, перед тем только училась на них ходить дома.
– И что случилось потом?
– Когда я вернулся, она пыталась повеситься на шнуре от электроплитки. Не протестовала, когда я забрал его у нее. Обрадовалась, что я принес туфли. Надела и снова стала рассказывать, как боялась, что упадет, и из-за этого ппрред ней уехал трамвай, так как не могла подбежать, а в ту сторону – так шлли с подружкой под руку. И так беспрерывно. Ни о чем другом. А потом попросила, чтобы я ее убил.
Боничка замолк. Шацкий с Навроцким затаили дыхание. Шорох маленького двигателя магнитофона внезапно стал четко слышимым.
– Удивительно, насколько сильно дети могут быть непохожими на своих родителей, – произнес Боничка, и Шацкий невольно вздрогнул. Ему казалось, будто это ему кто-то совсем недавно говорил. Кто? Он не помнил.
– Все всегда говорили, как Сильвия похожа на меня. Те же брови, те же глаза, те же самые волосы. Вылитая папа. А ведь она не была моей дочкой. В ее жилах не было ни капли моей крови.
– Как это? – спросил Навроцкий.
– Изу, мою жену, изнасиловали через месяц после нашей свадьбы. Вечером она возвращалась со станции в дом моих родителей, в котором мы тогда жили. Сильвия была дочкой насильника. Когда Иза вернулась, то все время говорила лишь о сирени. То был конец мая, и действительно, повсюду пахло сиренью, а возле станции сиреневых кустов было больше всего. Когда проходил мимо, так на рвоту тянуло. И вот она все время об этой сирени… А потом перестала. И потом мы об этом никогда уже не говорили. Ни о сирени, ни об изнасиловании, притворялись, будто бы Сильвия наша дочка. Городок маленький, так что нам и в голову не приходило пожаловаться в полицию. Вот только Иза так никогда уже и не стала той женщиной, на которой я женился. Внутри она была пустой. Ходила на работу, занималась ребенком, варила, убирала, по субботам пекла пирог. Она перестала ходить в церковь, я с огромным трудом уговорил ее крестить Сильвию. Она даже на ее первое причастие не пришла, так как весь костёл был разукрашен сиренью. Она это увидела издалека и вернулась домой. Сильвия плакала. Но тогда мы тоже не говорили об этом.
Боничка снова замолчал. На очень долго. Ничто не указывало на то, что он собирался вернуться к теме, которая интересовала их более всего.
– И тогда, в школе, вы подумали… – мягко возвратил его к сути Навроцкий.
– Я подумал, что не желаю, чтобы моя дочка была такой, как моя жена. Опустошенной. Я подумал, что иногда смерть может быть решением. Что я сам, если бы был на ее месте, не желал тут оставаться. – Боничка глянул на внутренние части сложенных ладоней. – Только я не мог бы ее убить. Только закрепил веревку и вышел. Решил, что вернусь через десять минут, и если к тому времени она не решится, то вместе с ней буду притворяться, что ничего не лучилось. Что никак не понимаю, почему она не желает носить туфли на каблуках, хотя сама не такая уж и высокая.
Кассета закончился, и магнитофон отключился с громким щелчком. Навроцкий перевернул кассету на другую сторону и нажал на красную клавишу «запись».
– Когда я вернулся, она уже была мертва. Перед тем сняла туфли и поставила их ровненько под стенкой, рядом с моими туфлями. Одна туфля стояла ровно, та что без каблука – упала. Я оставил их себе на память.
– А Сильвия?
– Я знал, что перед школой заканчивают ремонт водопроводной линии, и на следующий день будут засыпать. Я положил ее в яму, сверху набросал песку. Никто не сориентировался. Я часто приходил, зажигал там свечку.
У Шацкого все это не вмещалось в голове.
– Почему вы не похоронили ее на кладбище? – задал он первый за весь вечер вопрос.
– Это по причине жены, – ответил Боничка. – Если бы дочку обнаружили повешенной у меня в каморке, началось бы следствие, допросы, размышления, статьи в газетах об изнасиловании. Меня бы точно посадили. Моя жена не пережила бы этого.
– Но разве не было бы лучше, если бы ее ребенок остался в живых?
– Смерть – это решение чистое. Часто, гораздо лучшее, чем жизнь. Так, по крайней мере, мне кажется.
Боничка пожал плечами.
– Вы меня посадите? – спросил он через минуту.
Навроцкий глянул на Шацкого. Мужчины вышли посоветоваться в коридор. Они согласились с тем, что рассказ ясновидящего следует записать в качестве подробных показаний Бонички и дать ему на подпись. И на этом основании возбудить дело об изнасиловании, и виновных посадить за решетку. Причем, все, по возможности, настолько сделать секретным, чтобы газеты ничего об этом не написали.
– А что с Боничкой? – спросил полицейский у прокурора.
– Назначу ему надзор и обвиню в осквернении останков.
В коридоре, должно быть, было ужасно много пыли, потому что Навроцкий расчихался на всю катушку. Когда приступ закончился, он поглядел на Шацкого слезящимися глазами.
– Простите его, пан прокурор, – сказал он. – Он ни в чем не виноват. Это жертва, точно так же, как и его жена с дочкой. Вы все только сделаете хуже.
Теодор Шацкий ослабил узел галстука. Ему было стыдно за то, что собирался сказать, но другого выхода не было. Такая работа.
– Пан комиссар, вы же прекрасно понимаете, что в любом деле имеются только человеческие трагедии, обиды, бесчисленные нюансы, оттенки и сомнения. И как раз потому государство и платит заработную плату таким сволочам, как я. Я знаю, что вы правы, но меня интересует лишь то, что был нарушен один из параграфов уголовного кодекса. Мне жаль.
4
К счастью, когда он вернулся домой, Хеля уже спала. Шацкий поцеловал ее в лобик и отодвинул подальше от края кровати. Та вроде как и не была высокой, но Шацкий вечно боялся, что дочка упадет. Девочка что-то буркнула сквозь сон и покрепче прижала плюшевого муравьеда. Длинная мордаха зверя искривилась от неожиданной нежности. Шацкий встал у кровати на колени и глядел на Хелю. Та дышала через открытый рот, лоб немного вспотел, от маленького тельца било приятно пахнущим свежим хлебом теплом.
Человек перестает быть ребенком, когда от него начинает вонять, подумал Шацкий. Когда смрад идет от рожи, от постели тянет кислым, а от носков – сладким. Когда необходимо ежедневно менять сорочку, а пижаму – через день. У Вероники была привычка спать в одной сорочке целую неделю. Он терпеть этого не мог, но стыдился ей об этом сказать. Точно так же, как сам старался не замечать пожелтевших под мышками блузок. Ну а что он ей скажет? Чтобы купила себе новую? Тогда на это она ему скажет, чтобы дал ей денег. Впрочем, у него самого были пожелтевшие подштаники под безупречно выглаженными брюками в полоску. Может ли ей нравиться такое? Может ли такое нравиться Монике? Какой угодно любовнице? Нет, это бессмысленно. Шацкий знал, что подобного рода размышления – это ловушка, но все чаще думал о том, что несчастные тысяч двести решили бы все его проблемы. Он раздал бы долги, взял год отпуска, отдохнул бы, посмотрел бы со своими девчонками мир. Ну и тогда можно было бы поставить Монике кофе без чувства вины, что при этом тратит деньги, предназначенные на срочные домашние расходы.
Шацкий был рад тому, что малышка Хеля уже спала. Ведь она могла бы увидеть в его глазах тень истории, которую он был обязан услышать ранее. Неужто все, с чем он сталкивается на работе, в нем остается? Неужели все те убийства и изнасилования кружат вокруг него словно пчелиный рой, кусая каждого, к кому он приблизится. Этого он боялся. Боялся, что является носителем этой агрессии, что сделался разносчиком этой агрессии, что инфицирует свою жену и дочку всех наихудшим в мире. Пока что этого не видать, но болезнь еще выявит себя.
Вот эта мысль была для него настолько неприятной, что он, как можно скорее, удалился от кроватки дочери. Он принимал душ, когда в ванную вошла Вероника. Она была в одних трусах, но у него глаза клеились, несмотря на потоки льющейся холодной воды. У Шацкого не было сил даже думать о сексе.
– Ты чего это под душ залез? Встречался с кем-то? – спросила жена, чистя зубы. Делала она это весьма энергично, груди при этом смешно подпрыгивали. Но даже это его не возбуждало.
– Встречался в городе с экспертом-сексологом. Даже не представлял, что человек способен так растягиваться. С нынешнего дня призыв: «давайте сменим позицию» для меня будет ассоциироваться с художественной гимнастикой. Вот тебе хотелось бы перепрыгнуть через коня?
– Идиот. Умойся и иди ко мне.
Они занимались любовью под одеялом: лениво, тихо и удовлетворенно, спокойные тем спокойствием любовников, которые после четырнадцати лет прекрасно знают, куда и как должны прикасаться. Как всегда, все было замечательно. С акцентом на «как всегда», подумал Шацкий, когда они уже лежали рядом.
Электронные часы показывали 23:45:34. Циферки, означающие секунды ритмично менялись. Они и доставали Шацкого, но глаз от них он оторвать не мог. На кой ляд они купили часы с отсчетом секунд? Он же не работает в центре контроля космических полетов. К тому же, вся холера светится словно неоновая реклама, даже на стене заметен багровый отблеск. Нужно будет купить что-нибудь новое. Интересно только, за какие шиши.
Вероника прижалась к нему.
– Ты о чем задумался? – дохнула она ему в лицо запахом зубной пасты и кисловатой слюны.
– О тебе.
– А на самом деле?
– Что здорово было бы выиграть в спортлото.
– Так может: дай счастью шанс, – буркнула жена практически во сне.
– Хорошо. Завтра суббота, куплю несколько билетов наобум.
Вероника открыла один глаз.
– Решение принято десятого июня две тысячи пятого года в двадцать три часа пятьдесят одну минуту и тринадцать секунд. Может, именно эти числа следовало бы вписать в купон? Потрудись-ка немного.
Теодор Шацкий неожиданно сорвался и уселся на кровати. Сна уже не чувствовал. Его серые клетки начали работать на ускоренных оборотах. Только что он услышал что-то очень важное, вот только что? Про себя он повторил всю беседу. О чем шла речь? Боже, о чем шла речь?
– Ты чего, с дуба съехал, или это у тебя сердечный приступ? – Вероника тоже села в постели.
– Спи, спи, – автоматически ответил Теодор. – Кое-что вспомнилось, нужно глянуть в заметки.
– И что за мужик, – разочарованно заметила жена, прикрыв голову одеялом, когда Теодор зажег лампу.
Довольно скоро он обнаружил то, чего искал, записанное в его календаре под датой седьмого июня. Последовательность счастливых номеров Теляка: 7, 8, 9, 17, 19, 22. Почему именно эти числа, и почему вот уже несколько минут в его голове не сколько звенел аварийный звоночек, сколько выли тревожные сирены? Он быстро сложил все числа: 82. Восемь плюс два: десять. Один плюс ноль: один. Бессмыслица, дело не в этом.
Соберись, думал он, массируя пальцами виски. Соберись, сконцентрируйся, начни думать. Вот когда у тебя что-то щелкнуло в голове. Когда Вероника произнесла дату: десятого июня две тысячи пятого года.
Шацкий резко выпрямился и вдруг почувствовал, что ему делается холодно. И сухо в горле. Он пошел в кухню, вытащил из холодильника банку пива, за раз отпил половину. Уже знал. Супруга Теляка, цитирующая прощальное письмо дочки. «Встретимся в Нангиджали. Варшава, 17 сентября 2003 года, 22:00. 17, 9, 22 – три цифры совпадали с теми, на которые ставил Теляк. Возможно ли подобное? Мог ли кто-то быть настолько шизанутым, чтобы выбрать дату смерти дочери в качестве счастливых номеров спортлото? Ладно, а если и так, то что с остальными: 7, 8, 19? Может быть, это год ее рождения: 1987. Да нет, рановато. Кроме того, нет никакой логики. Для рождения только год, а для смерти: день, месяц и час. Логичнее было бы иметь закодированной целую дату. Шацкий всматривался в цифры, пытаясь сложить их в какую-то последовательность. В конце концов, он записал две даты:
17.09.1978, 22:00
17.09.1987, 22:00
И еще вопрос: в чего точную: двадцать пятую или шестнадцатую годовщину, решила покончить с собой Кася Теляк?








