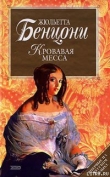Текст книги "Графиня тьмы"
Автор книги: Жюльетта Бенцони
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Мадам Клери поморщилась, раскладывая для глажки с вечера постиранное белье:
– Если вы имеете в виду монсеньора, то уж моим королем он никогда не станет… Бедняжка королева так его ненавидела за всю ту грязь, которую он бесконечно проливал на нее с детьми!
Лаура ничего не ответила. Ей так хотелось сказать, что Людовик XVII жив, что тот, чья душа отлетела вчера, никогда не был сыном погибших мученической смертью коронованных особ, но тайна не принадлежала ей. Она подошла к окну. В солнечном свете начала июньского дня старая башня расцветилась позолотой и от этого казалась не такой мрачной, как обычно. В садике между деревцами зеленела редкая трава. Но взгляд Лауры не задержался на ней. Он был обращен на окна четвертого этажа, на эти узкие отверстия, которые по жестокой воле людей были к тому же до половины закрыты деревянными ставнями, так что свет и воздух проходили, как сквозь воронку, только в щель наверху. Девочка, которая жила там, не видела ни солнца, ни деревьев, ни даже хилой травки, которая хоть как-то скрашивала двор темницы.
Стало ли ей известно, что того, кого считала она своим братом, больше нет на свете? Должно быть, до нее доносился необычный шум, а может быть, тюремщики все же рассказали ей о произошедшем? Еще одна боль! Еще одно страдание для юной души! Лаура представила себе, как Мария-Терезия, преклонив колени возле кровати, молится и льет слезы в тюремной темноте. Что будет с ней теперь, когда официально объявят, что Людовик XVII умер? Какую судьбу готовят ей эти звери?
– Смотрите! – проговорила подошедшая сзади Луиза. – Как велит обычай, приехали на вскрытие врачи.
Действительно, по истертым, истоптанным камням брусчатки в сторону башни направлялись четверо одетых в черное мужчин.
– Почему вы думаете, что это врачи?
– Они должны быть здесь, к тому же по крайней мере одного из них я знаю…
Потом в течение нескольких долгих часов из ворот темницы никто не появлялся. Только водонос, как челнок, бесконечно ходил туда и обратно. Женщины старались не замечать его, ведь если подумать, для чего нужна была эта вода, то становилось и вовсе не по себе. Вечером привезли светлый деревянный гроб. Врачи удалились, и на улице больше никто не появлялся, но обе женщины так и стояли, облокотившись на подоконник, как будто чего-то ожидая, и этим походили на собравшихся зевак, которые никак не решались разойтись. Многолюдная людская толпа в конце концов разозлила часовых, и кто-то из них крикнул:
– Чего вы ждете? Парижского архиепископа с кадилом и хор мальчиков? Обычный заключенный, как и все! Расходитесь!
Люди начали потихоньку расходиться, одни за другими, словно нехотя передвигая ноги. И наконец не осталось никого… Но утром, на заре, все они снова были здесь. И простояли целый день на солнцепеке, казалось не обращая внимания на жару. Кто-то из них время от времени отлучался и приносил для всех еду и воду. Люди не шумели, не разговаривали, и стражники в конце концов оставили их в покое.
– Мы имеем право тут стоять, – как-то возразил один из них на приказ разойтись. – Улица – для всех, а у нас еще Республика!
Наконец перед заходом солнца свершилось то, чего ожидала толпа и две женщины, прильнувшие к окну: узкий сосновый ящик, покачиваясь на плечах носильщиков, выплыл из ворот башни и двинулся вдоль двора к крытой повозке. Подруги перекрестились, и Луиза удивленно заметила:
– Вы обратили внимание, что гроб слишком длинный для десятилетнего ребенка? К тому же дофин был маленького роста…
Они спустились вниз, чтобы проводить гроб из Тампля, и смешались с толпой, ставшей такой густой, что она заполонила собой всю улицу. Народ сдерживали солдаты с ружьями наперевес. Но в этом скоплении людей не было ничего угрожающего, ни намека на беспорядки. Все стояли в полном молчании.
Вдруг Лаура почувствовала, как кто-то дернул ее за рукав. Она обернулась и увидела улыбающегося Анжа Питу.
– Надо же! А я думала, вы в… – она осеклась, не решаясь произнести это слово в толпе.
– Я никогда не задерживаюсь там надолго. «Друга народа» более не существует. Но что вы здесь делаете?
– Как и вы, жду, когда увезут бедного ребенка, мы только что видели, как его гроб вынесли из тюрьмы…
– Я тоже хочу посмотреть. Кажется, этот гроб заказывали для девочки…
– Что вы такое говорите! – выдохнула Лаура, вдруг охваченная ужасом при мысли, что, может быть, умер вовсе не мальчик, но Питу тут же успокоил ее:
– Нет, нет, не волнуйтесь, это для него, но я нахожу, что между ростом десятилетнего мальчика и девушки есть некоторая разница, и мне хотелось бы самому убедиться…
– Луиза тоже недавно сказала, что гроб слишком велик…
Но Питу так ничего и не разузнал. Когда повозка в окружении солдат с ружьями на плечах наконец выехала в сгущающейся темноте на улицу, невозможно было увидеть, что там внутри. Все же Лаура отметила, что люди в толпе снимали головные уборы, по лицам некоторых из них текли слезы.
– Куда его везут? – прошептала она.
– Понятия не имею. Пойду за ними, – так же тихо ответил Питу. – Ах да, чуть не забыл! Хорошо, что мы встретились здесь, не придется заходить к вам.
– Вы хотите мне что-то сказать?
– Да. Он вернулся, и вот тут его адрес, – в кармашек фартука Лауры скользнула сложенная записка.
Толпа последовала за солдатами, а Лаура, замерев, так и осталась стоять на месте. Она стояла, наверное, для того, чтобы сердце перестало так бешено колотиться. Боже, что с ней творилось! Ей хотелось смеяться и плакать одновременно! Жан! Наконец-то он здесь! Они увидятся!
Рука ее опустилась в карман, нащупала записку, и она улыбнулась глядящей на нее с тревогой Луизе:
– Все хорошо. Не переживайте. Наверное, нам пора домой.
На самом деле она хотела вернуться, чтобы поскорее развернуть записку, которая словно жгла ей руку. Лаура не решалась развернуть клочок бумаги на улице, как будто ветер мог подхватить его унести прочь. Но там было всего несколько слов: «Отель Бове, улица Старых Августинцев. Гражданин Натей».
– Хорошая новость? – поинтересовалась мадам Клери, со снисходительной улыбкой наблюдавшая за тем, как вспыхнуло лицо Лауры.
– Очень хорошая! Не сердитесь, Луиза, но завтра я должна уйти на целый день. Мне нужно кое с кем увидеться. Только не вздумайте волноваться, если я припозднюсь или даже совсем не приду ночевать. Я, может быть, переночую на улице Монблан…
– Спасибо, что предупредили, дорогой друг. Ну что ж, поступайте как знаете, и если вам будет отмерено немножечко счастья, никто не возрадуется этому так, как я.
Вместо ответа Лаура обняла ее и поцеловала, а потом быстро отправилась спать. Но погрузиться в сон ей удалось с большим трудом: скомканная в ладони записка с адресом вселяла в нее нетерпение. Но когда она наконец заснула, то увидела во сне, что бежит к дому, но находит на его месте лишь груду развалин… Проснулась Лаура в холодном поту и с колотящимся сердцем…
Ей не сразу удалось успокоиться, и на заре она сама пошла к колодцу за ведром воды, чтобы как следует искупаться. Потом надела свежее белье, белое перкалевое [52]платье, на шею повязала батистовую косынку (все тщательно отглаженное), на ноги – красные кожаные башмачки, на голову – широкополую соломенную шляпу с белыми лентами, чтобы уберечь лицо от солнца, которое, судя по всему, намеревалось сегодня палить нещадно. Поцеловав Луизу, она покинула ротонду.
Улица Старых Августинцев соединяла улицу Круа-де-Птишан с улицей Монмартр и пересекала улицу Пажевен. Отель Бове был одним из доходных домов, где можно было снять меблированную квартиру на месяц или на год. Это было красивое здание в стиле Людовика XV, а поскольку оно постоянно было населено, то даже не пострадало от революционных потрясений. Владелец дома сообщил Лауре, что гражданин Натей живет на третьем этаже, окна его комнаты выходят на улицу, и указал на закругляющуюся каменную лестницу с роскошными резными железными перилами. С невероятной легкостью, вздымая юбки, взлетела Лаура наверх и вмиг оказалась перед выкрашенной в белый цвет с серыми вкраплениями дверью. Сердце ее бешено колотилось, но, не медля ни минуты, она, согнув палец, несколько раз постучала в дверь. Через несколько мгновений она услышала глубокий голос, который был так хорошо ей знаком, – от его теплых интонаций она чуть было не теряла сознание, – этот самый голос задал короткий вопрос:
– Кто там?
– Я… Я, Лаура!
Дверь отворилась, и в солнечном свете пред ней предстал Батц. Впервые Лаура увидела его в таком виде: лишь панталоны и рубашка, широко распахнутая на волосатой груди. От сладкого волнения у нее защемило сердце. И в этот миг она поняла, хотя до тех пор боялась сама себе признаться, что пришла сюда, чтобы отдаться любимому.
Он почувствовал это и, не говоря ни слова, взял ее за руку и провел в комнату. Лаура оказалась в центре большого теплого солнечного пятна, скрывающего узор ковра. Какое-то мгновение Батц касался ее только взглядом, его ореховые глаза заглянули в самую темную глубину ее зрачков, и там он прочитал призыв, мольбу. Он принял ее в свои объятия и жадно впился страстным поцелуем в губы – так целует изголодавшийся любовник. Соломенная шляпа полетела на пол, за ней косынка, скрывавшая декольте, но ленточки корсета держались по-деревенски крепко, и Жан, нетерпеливыми губами ощущая нежную кожу шеи и груди Лауры, даже слегка рассердился. Подхватив ее на руки, он отнес молодую женщину на постель, куда-то отлучился, а потом вернулся с бритвой и одним движением вспорол все ленты, мешавшие ему раздевать Лауру. Одну за другой он снимал с нее многочисленные детали дамского туалета, пока Лаура не осталась в одних белых чулках на шелковых бледно-голубых подвязках. Она смотрела на него, забавляясь, восхищаясь и волнуясь одновременно, и наконец отдалась его ласкам, прислушиваясь только к своим неведомым доселе ощущениям, ведь Понталек запомнился ей лишь грубой поспешностью в постели… Они предавались любви бесконечно долго, и Лаура испытывала подлинное блаженство, но ни один из них не произнес ни слова…
И только когда они отдыхали, лежа бок о бок на белых смятых простынях, Жан, приподнявшись на локте, сказал:
– Ну, здравствуйте… Как мило с вашей стороны явиться ко мне ранним утром! Никогда еще я так дивно не завтракал!
Он смеялся, сверкая белоснежными зубами, его ореховые глаза искрились, а пальцы гладили восхитительные округлости тела Лауры.
– Великолепно, но мало, – не унимался он. – Знаете ли вы, моя красавица, что я еще очень голоден?
И тут же продемонстрировал свой голод.
Все это продолжалось пять дней. Целых пять дней безумной страсти, прерывающегося шепота слов любви, безрассудства и бесконечной нежности. Жан и Лаура познавали друг друга, и это открытие вело их к доселе неизведанным высотам. Двери были закрыты и отворялись, только чтобы пропустить водоноса – они обожали купаться вдвоем – и еще человека, приносившего еду из соседнего трактира. Все остальное нашими любовниками было забыто, все, что мешало их единению. Важным было лишь то, что случилось с ними: слова, древние как мир, но казавшиеся им удивительно новыми; минуты отдыха после любви, что тоже их не разделяли; дыхание одного смешивалось с дыханием второго, как некогда их тела, и руки Жана ни за что бы не позволили Лауре отдалиться от него. Но спал он меньше, чем она, как человек, привыкший ежедневно подниматься по тревоге, и так лежал часами, вглядываясь в чистую, совершенную красоту своей подруги, словно ограненную шелком копны распущенных волос. Он, как Пигмалион перед своею статуей, приходил в восторг от нежного света разделенной любви. В его руках Лаура стала другой женщиной, той, которую – он это знал, – он будет желать всегда, будет любить вечно. И тогда, стараясь не разбудить любимую, он овладевал ею, и Лаура прямо из сна попадала в жгучую сладостную реальность…
Утром шестого дня обыкновенный клочок бумаги закрыл для новоявленной Евы и новоявленного Адама врата в рай. Клочок этот был письмом, доставленным посыльным. Жан прочитал и исчез: его место на сцене занял барон де Батц.
– Я должен ехать в Брюссель, – вздохнул он. – Новость об официальной смерти Людовика XVII привела в оцепенение парижских роялистов, но это ничто по сравнению с настроениями за границей, а ведь именно там должно создаваться ядро будущей армии – завоевательницы престола. Мне надо срочно отправиться туда, чтобы сторонники короля не растеряли свой энтузиазм…
– Во имя чего ты собираешься это делать сейчас, когда для всех король считается умершим? Трудиться во славу регента, который уже и не регент, наверное…
– Насколько я знаю его характер, он должен был, не медля ни минуты, провозгласить себя королем. Королем Людовиком XVIII, – с горечью уточнил Батц. – Мне кажется, он мечтал об этом дне с рождения. Хотя если бы все сложилось, как он рассчитывал, у Людовика XVI так и не было бы детей, и он тогда сделался бы Людовиком XVII. Как бы то ни было, в его сторону повернутся сейчас многие роялисты, а моя личная задача сейчас будет состоять в том, чтобы делать вид, что сам я тоже принял сторону регента, потому что не следует дробить силы. Так потрудимся же во славу Людовика XVIII, а когда будет проторена дорога к трону, я поеду за моим маленьким королем и возведу его на трон!
– И ты думаешь, что монсеньор так тебе и позволит себя обойти? Он завопит о самозванстве, и у тебя не будет никакой возможности доказать, что это не так.
– Ты забываешь о принце Конде и еще, возможно, о герцоге Бурбонском, его сыне, которого он, должно быть, посвятил в тайну, а главное, о молодом герцоге Энгиенском, который точно знает, где в настоящее время находится истинный король. И потом, если понадобится указать верный путь французскому дворянству, есть еще документ, который хранится у моего друга Омера Талона…
– Какой еще документ?
– Исповедь маркиза де Фавра, повешенного в 1790 году за попытку «убрать» Людовика XVI и таким образом навеки отстранить его от власти. Талон в те времена был адвокатом и в то же время другом Фавра. Он получил это письмо лично в руки перед его казнью. «Исчезновение Людовика XVI» прописано там буквально. Так что я еду, и, прошу тебя, любовь моя, прости, но ты ведь знаешь, что долг для меня всегда считался выше счастья. А ты что будешь делать? Вернешься домой?
– Нет. Поеду в Тампль! Напомню, если ты случайно забыл, что там томится девочка, и она тоже могла бы занять свое место в борьбе тех, кто мечтает о конституционной монархии.
– Я не забыл о ней, Лаура. Я еще вернусь. Я сам займусь ею.
В одной нижней юбке, Лаура взялась было за платье, но тут же и уронила его с гримасой отчаяния на лице:
– Что же мне теперь, так и идти в Тампль полуголой? Ты перерезал все тесемки…
Он захохотал и снова схватил ее в объятия, целуя, и этот поцелуй чуть было не отправил их снова в смятую постель.
– Неужели ты полагаешь, что я позволю кому бы то ни было созерцать даже малую толику твоего тела? Я ведь ревнив, ты знаешь, – вдруг со всей серьезностью сообщил он и приказал: – Жди меня здесь. Пойду за новым платьем. Тут неподалеку есть лавка галантерейщика.
Полчаса спустя Лаура покидала отель Бове в фиакре, который нанял для нее Жан. Одета она была с иголочки и причесана под стать – об этом позаботился лично Жан. Как некогда Мари, она не знала, когда ей доведется увидеть любимого вновь, но сердце ее переполняла радость, она искрилась счастьем, предаваясь воспоминаниям, о которых никому не принято рассказывать, даже самой близкой подруге. Но эти воспоминания, она знала, расцветят яркими красками даже самый серый непогожий день и согреют душу в злые холода. Только одно ей было невдомек: что она и сама излучала сияние, способное оградить ее от любых невзгод. Это было сияние разделенной любви.
Лишь только Лаура показалась на пороге, Луиза Клери тут же поняла, что она едет от мужчины. Об этом нетрудно было догадаться: от молодой женщины исходил чудесный свет, глаза ее блестели, а улыбка не сходила с ее счастливого лица. Но, догадавшись, Луиза не стала ничего говорить и только успокоила подругу: нет, она не слишком волновалась, она думала, что раз Лаура не появляется, значит, она чем-то очень занята. Луиза и сама полностью ушла в свои дела. Они с Лепитром много играли, пели в полный голос мелодии и песни, которые, им казалось, могли бы отвлечь юную пленницу, в случае если ей сообщили о смерти брата. Кроме того, Менье намекнул, что в скором времени следует ожидать больших послаблений, и первым из них станет прогулка в саду…
– Похоже даже, что Комитет общественной безопасности ищет женщину, которой будет позволено приходить сюда и заботиться о ней…
– Боже правый! – простонала Лаура. – Какого еще солдата в юбке назначат эти люди?
– Времена Робеспьера прошли, и мне кажется, что они будут стараться выбрать кого-то поприличнее…
– Но почему мы с вами не можем выставить свои кандидатуры?
– Лаура, вы размечтались! В прошлом мы были слишком к ним близки, и шансов у нас не больше, чем у мадам де Турзель [53], ее дочери или у старушки де Мако, ее бывшей младшей гувернантки.
– А они просились?
– Просились. Как только об этом решении стало известно, они тут же подали прошения в Комитет общественной безопасности. Сегодня должны объявить о том, кому будет дозволено находиться рядом с девушкой. Но неужели вы обо всем этом не знали? Как же далеко вы уезжали!
– Очень, очень далеко, – прошептала молодая женщина, тайком улыбаясь чудесным образам, живущим у нее в памяти.
Как же пригодятся они в тяжелые дни, что наверняка скоро наступят, ведь прошло время иллюзий для всех этих бесчисленных французов, чьи надежды сейчас или уже обратились в сторону конституционной монархии, способной, по их мнению, придать стране. больший вес и почет и не растерять при этом главных завоеваний революции. Однако совсем скоро новоиспеченный король мановением своего пера развеет эти надежды, прислав из Вероны манифест, ничем не лучше Брауншвейгского, который еще в 1792 году толкнул предместья в атаку на Тюильри и предопределил трагическую судьбу всей королевской семьи, не считая прочих многочисленных несчастных дворян, сложивших головы в тюрьмах и на эшафоте… Людовик же XVIII предполагал «отомстить за брата, наказав наглых убийц короля; восстановить три государственных столпа – дворянство, духовенство и третье сословие по состоянию на 1789 год; восстановить парламенты в исконных правах; сохранить остатки Конституанты и расстрелять торговцев церковным имуществом…», не считая прочих «милостей», направленных на уничтожение доброй половины населения Парижа, обвиненных в событиях последних месяцев. Одним словом, намечался просто-напросто возврат к старому режиму. Разница состояла лишь в том, что тот, кто называл себя наследником короля-мученика, был гораздо менее милосердным и собирался взяться за дело со всей решительностью, чтобы силой восстановить порядок.
Читая газеты в последующие дни, Лаура поняла, что увидит Жана еще не скоро. Начиналась новая охота на ведьм, и направлена она была теперь против тех, кто считался агентами Людовика XVIII. Мечты о монархии, на мгновение промелькнувшие было в лучах надежды, снова канули в густые сумерки вынужденного забвения. Молодая женщина искренне желала, чтобы Батц как можно дольше не возвращался из Брюсселя, ведь его имя было в списке эмигрантов. Если бы он, вернувшись, вновь начал борьбу с Конвентом, то его противник сейчас ни за что бы не сдался, и Батц рисковал потерять в этой борьбе свою жизнь. Если бы он попал к ним в лапы, то даже не смог бы рассчитывать на депортацию в Гвиану (эта каторга на северо-востоке Южной Америки стала модным местом для ссылки неугодных правительству граждан), он угодил бы прямиком на гильотину, которая снова заработала вовсю.
Несколько дней спустя музыкантам ротонды стало известно, что «компаньонкой к дочери Луи Капета» назначена гражданка Шантерен. И в самом деле, утром 21 июня Луиза с Лаурой увидели, как ко входу в Тампль подошла женщина лет тридцати. Со вкусом одетая, она держалась с достоинством и выглядела элегантно, а милое лицо располагало к себе. Женщина показала стражникам свой пропуск и прошла внутрь. А подруги остались во власти любопытства.
Довольно быстро они узнали, что звали компаньонку Мадлен-Элизабет-Рене-Илэр Ларошет и что она была замужем за неким Боке де Шантереном, одним из начальников Полицейской административной комиссии. Ей было тридцать три года, и проживала она в доме № 24 по улице Розье, недалеко от Тампля, а юность свою провела в Куйи, что около Мо. Стало также известно, что она прекрасно говорила и писала по-французски, знала итальянский и немного английский язык, училась географии, истории, рисованию, музыке, обладала разными другими талантами и собиралась, как ей было приказано, обновить гардероб узницы и создать ей в Тампле более-менее сносные условия существования. Разумеется, ей было предписано отчитываться во всем и строго наказано не отвечать на вопросы узницы относительно того, что случилось с ее матерью, теткой и братом.
Со своего наблюдательного поста женщинам было видно, что первым делом были отворены деревянные ставни, превращавшие камеру Марии-Терезии в нечто подобное темной могиле. А потом, 28 июня, около пяти часов пополудни, произошло то, о чем они могли только мечтать: на пороге темницы, поддерживаемая мадам де Шантерен, показалась сама принцесса. Она вышла за порог, который не переступала вот уже три года, и сердце Лауры готово было выпрыгнуть из груди: годы заключения нисколько ее не испортили, она была все такой же, самой прекрасной девушкой на свете.
Одетая в хорошенькое платье из зеленого шелка – еще бы, ведь предательский черный цвет был сурово изгнан из ее гардероба, – в наброшенной на плечи белой муслиновой косынке, великолепные вьющиеся волосы цвета платины, доходящие до середины спины, были украшены зеленой лентой. От матери она унаследовала грацию, огромные голубые глаза и нежный цвет лица, «неподвластный тени» [54].
На мгновение она остановилась, словно ослепленная ярким солнцем и лазурной голубизной неба: она смотрела и смотрела, как будто видела все это впервые в жизни. В бинокль, который привезла мадам Клери, возвратясь в Тампль, Лаура могла видеть, что руки ее слегка дрожали, по крайней мере та, которая была свободна. Другой рукой она держала под руку свою спутницу. Было очевидно, что Мария-Терезия была очень взволнована. Мадам де Шантерен, впрочем, тоже. Было ясно, что она окружала девушку трогательной заботой. Внезапно Лаура с Луизой обнаружили, что не одни они наслаждаются красотой и важностью этого момента: во всех окнах ротонды и окружающих Тампль домов виднелись лица наблюдающих. И вдруг грянуло дружное «Виват!», которое с радостью подхватили обе женщины.
Счастливая улыбка озарила почти детское лицо, и, не отходя от своей компаньонки, чью руку она взяла в свою, Ее Королевское Высочество присела в глубоком реверансе в знак благодарности всем, кто с такой непосредственностью ее приветствовал.
Еще немного, и могло бы показаться, что присутствующие оказались в Версале: зрители почувствовали небывалый кураж – какое счастье, что это чудесное дитя, единственную надежду на продолжение рода Людовика XVI и Марии-Антуанетты, все-таки удалось вызволить из заточения! Простые парижане были растроганы: они уже любили эту принцессу. Да, это был благословенный день, когда она вышла из тюрьмы в первый раз, он как будто расцветился надеждой…
Они и не знали, что в это самое время в Бретани разыгрывалась страшная драма. По приказу графа д'Артуа, мечтавшего атаковать Республику, три тысячи пятьсот эмигрантов несколько дней назад погрузились на корабли под командованием сэра Джона Уоррена. В числе их военачальников были граф де Пюизэ, последний комендант Тюильри вплоть до 10 августа, маркиз д'Эрвильи и граф Сомбрей, но принца с ними не было. Англичане предоставили все: суда, деньги, оружие, но не дали ни одного солдата. Высадка предполагалась в бухте Киберон, и там же было назначено воссоединение с шуанами из Морбиана, предводителями которых были шевалье де Тинтеньяка и знаменитого Жоржа Кадудаля [55]. Вначале все шло хорошо: высадка произошла за день до того, как Ее Высочество вновь увидела солнечный свет. В тот же день был занят киберонский порт. Шуаны тем временем успешно атаковали Орэ и взяли городок. Гош [56]и Синие сидели в Ване. И вот тогда предательство одной женщины, Луизы де Понбеланже, супруги эмигранта и любовницы Гоша, решило дело: по ложному донесению Кадудаль был отправлен в противоположный конец залива Морбиан, в то время как Гош выступил на Киберон, где атаковал армию эмигрантов, защищавшую самую узкую часть полуострова в Форте Пентьевре. Гош так и не дал им выйти из этой западни и прорваться на Ренн, где к ним присоединился бы весь край.
После маршей и контрмаршей заключительное сражение состоялось 17 июля и оказалось смертельным для эмигрантов. Напрасно Пюизэ, вернувшись на борт корабля, умолял Уоррена вмешаться: тот разрешил открыть огонь только одному своему фрегату, но в гуще сражения под его прицелом роялистов погибло столько же, сколько и республиканцев. После этого флот покинул место сражения… 21 июля Сомбрей сдался Гошу, поверив его слову даровать жизнь пленным. И около Шартрез д'Орэ, в месте, которое позднее будет названо «полем мучеников», начался кошмар: Гош счел за лучшее удалиться, и все пленные, даже раненые, погибли под пулями. Позорная бойня! Но граф д'Артуа даже не посчитал нужным выехать из Англии. Ему ведь обещали преподнести на блюдечке Бретань, а то и всю Францию целиком!
Ничего не ведая об этом новом побоище, Ее Высочество, сидя в саду под каштанами, слушала в тот вечер, как Лепитр с мадам Клери исполняют дуэтом арию Гретри…