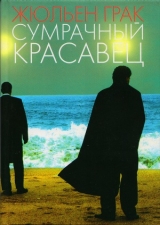
Текст книги "Сумрачный красавец"
Автор книги: Жюльен Грак
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Мы дошли до углового бастиона, который нависал над озером, словно видовая беседка. Густая, пышная растительность штурмовала эту одряхлевшую твердыню, воздвигала в ней свои укрепления, устраивала тайное убежище, где орешник отбрасывал в лунном свете черную, как тушь, причудливую, узорчатую тень. А наверху отливала мягким шелковистым блеском уцелевшая стена, поистине омытаясветом, она круто поднималась к небу в холодном сиянии звездной ночи. С озера веяло прохладой. Где – то вдали на деревенской колокольне пробило одиннадцать, и в памяти разом зашевелилась целая толпа метафор из детских сочинений. Аллан улыбнулся:
– К ночному посещению церквей я пристрастился, когда был студентом. Нет ничего легче, чем остаться на ночь в церкви, под замком, особенно в деревнях, там народ беспечный. Как говорил Оскар Уайльд, в наши дни почитаемых святынь уже не крадут. Надо сказать, в этом моем капризе (хотя это, пожалуй, было чуть больше или гораздо больше, чем каприз) не было ничего от кощунства, и уж вовсе ничего от мистической экзальтации, – просто мне казалось, что в таком месте, с наступлением темноты, вернее, чем где-либо, можно было обрести скрытый смысл.
Тут мне вспомнилась – настойчиво, но смутно, как в памяти сыщика всплывают две пока еще не связанные между собой цепи доказательств, – некая фраза из письма Грегори, – и я стал слушать с особым вниманием.
"Когда запирали дверь и я оставался один в центральном нефе, под лаской последних солнечных лучей, растекавшихся на витражах маслянисто-желтыми лужицами, когда я еще отчетливо слышал пение птиц, видел колыханье ветвей, – у меня щемило сердце, возникало безумное желание вырваться на волю, бегать по полям, по лужайкам под сияющим светом дня. Однако с наступлением сумерек меня охватывал священный ужас. Здесь, в этом нефе с его замогильным эхом, за этими слепыми, как матовое стекло, витражами, среди церковных запахов, которые напрямую говорят с душой: запах свечей, холодных плит пола, неизъяснимая сладость аромата лилий в полумраке, – именно здесь надо слушать, как один за другим замирают звуки дня и притаившаяся в храме тишина растет, крепнет, обретает силу и плоть, – как вода, откатившись, возвращается мощной волной. О! Последняя птичья трель, последний, так долго не сдающийся звук – он затихает, потом возникает опять, и так снова и снова: еще долго в бесконечной дали слышатся эти грустные, обреченные ноты – эта уходящая, задумчивая нежность! Потом ветер последний раз проводит смычком по листве, – торжественный, завершающий, предсмертный аккорд, поистине последний вздох дня, и вот наступает абсолютная тишина. И в стенах храма начинается невидимая работа, как в спальне, где готовятся ко сну: этот корабль собирается в ночное плавание. Иногда меня коробила эта невозмутимая тишина вокруг святыни, словно я видел мать, бодрствующую у гроба ребенка, которая ходит, кашляет и даже не забывает поесть. Итак, воцарялась тишина, наполненная поскрипыванием стульев и все более громким, неотвязным потрескиванием свечей, – тишина, зародившаяся среди тихих нежных звуков в сумерки, когда поблекли высокие окна, теперь обрела силу и мощь. Ночь наползала большими клубами черного дыма, и все вокруг становилось другим. Свечи! Они опустили свою волшебную решетку перед затерянным в полумраке алтарем, порою они отбрасывают яркий отблеск на одну из статуй, – так в ночном парке зеленоватое свечение бенгальского огня выхватывает из темноты мраморную нимфу – свечи, эта сладостная смерть пламени, такого чистого у верхушки, этот огненный винт, пронзающий черноту, – с какой неуемной жадностью я любовался ими, долго, непрерывно, часами. Огонек с черной сердцевиной, в которой, словно во чреве женщины, сосредоточен самый жар, – наконечник копья, осиновый лист, крохотный неиссякаемый светоч – такой неподвижный, такой сонный, будто он теплится в бездонном колодце, он словно расплывающееся, колеблющееся отражение языка пламени в воде священного озера. Он завораживал меня, что-то во мне стремилось к этому свету, чтобы сгореть в нем, подобно мотыльку. Это не был огонь в деревенской ночи, возвещающий об ужине и ночлеге, это был свет над темными водами, который укрощает бездну и отводит неотвратимое. Иногда я был настолько поглощен созерцанием (говорят, так бывает у индийских йогов), что словно бы сам становился этим пламенем, чувствовал, как мое сердце превращается в свет. Ах! если бы я мог слиться с ним, раствориться в нем, стать легким и неуловимым, как воздух, холодным, как каменные плиты, вознестись к парящим, прохладным темным сводам, навсегда обрести покой. На ум приходили странные слова, я повторял их много раз, точно заклинание: только пламя должно вернуть нас ночи. Ах! пусть бы ночь раскрылась, разверзлась, воцарилась среди пламени свечей, пусть бы день не наступал никогда. Часы пролетали, как минуты. А потом, совсем скоро занималась заря, и на темных сводах вдруг появлялись широкие серо – голубые заплаты, – правда, было видно, что они выкроены из той же ткани, что и тьма. И наставало неизбежное утро.
Тут я услышал шорох листвы, обернулся и увидел Ирэн: она незаметно подошла к нам и, по-видимому, уже несколько минут слушала Аллана. Взаимопонимание, возникшее было в ночном мраке между тремя собеседниками, словно в детской игре, и позволявшее нам высказать все, было внезапно нарушено. Ирэн заговорила, и тон ее голоса никого не мог обмануть:
– Это очень интересно и в высшей степени романтично. Но вы не сказали, что вам было нужно в этой церкви.
– Может быть, это нескромный вопрос?
– Какое такое убежище вы могли искать в ночи? Я чуть было не поверила, что вы говорите всерьез. Вы и вправду с таким отвращением относитесь к реальнойжизни? А я слышала, что вам удается получать от нее немалое удовольствие.
Враждебность в ее голосе становилась все явственнее.
– Возможно, когда-то я и умел с пользой распорядиться жизнью, – я не жалею об этом. Но, по-моему, это не возбраняет мне интересоваться ее противоположностью.
– Вот уж не ожидала. Неужели смерть заслуживает того, чтобы о ней думали? Все равно от нас тут ничего не зависит. Пустые, никчемные, нездоровые мысли!
– Верно. Однако вы, по-видимому, упустили из виду одну деталь: смерть может быть добровольной. С этой точки зрения все представляется иначе.
– Что вы хотите этим сказать?
– Что человек может убить себя сам. Если нам дозволено думать о смерти как о подвиге, как о победе, на которую мы имеем неотъемлемое право, то можно пренебречь правилами хорошего тона, которые мы в иных случаях обязаны соблюдать. К чему стесняться?
– Так вы что, решили "свести счеты с жизнью"?
Несмотря на кривляние Ирэн, разговор принял такой неожиданный и ненужный оборот, что мне стало не по себе. Мне показалось (быть может, меня ввел в заблуждение лунный свет, каплями ртути переливавшийся между черными ветками), что Кристель, слушавшая молча, не отводившая взгляда, вдруг резко побледнела. Аллан, раскованный, странно улыбающийся, напоминал игрока в покер, который медлит раскрыть карты.
– Так или иначе, мадам, я не настолько бестактен, чтобы разглашать это в обществе.
Становилось прохладно. Мы спустились обратно, туда, где росли могучие деревья. Я вел Кристель под руку и чувствовал, как дрожит ее рука: от холода или от волнения? Снизу нас звали приветливые голоса, прерываемые гудением клаксона: Анри и Жак, стоя у машин с включенными фарами, уже заждались и хлопали друг друга по плечам, чтобы согреться.
29 июля
Сегодня утром, проснувшись, я почувствовал в самом сердце лета – как в сердцевине яблока угадывается червяк, от которого оно погибнет, – незримое присутствие осени. В этот день, погожий, еще жаркий, озаренный чудесным мягким светом (но чуть приглушенно, словно бы издалека: тонкое очарование лица, тронутого увяданием), подул свежий ветер, ровный, упругий, целительный, – воздух сразу стал чутким, ясным, текучим, его как будто можно пить, вбирать в себя: в груди – ощущение космической широты, оно переполняет, опьяняет, кажется, что вдыхаешь чистую красоту, оно приподнимает тебя над землей, как античную Победу. Долгие дни, будто бы предвещающие мир и покой, скользящие от ночи к ночи и убаюкивающие, как медлительные качели, когда лицо снова и снова обращается к небу, слишком меланхоличному, слишком нежному, – дни, уносящиеся, как пальмовые листья с атолла, тающие, как снег, без ропота увлекаемые землей в ее стремлении к прохладе – дни предчувствий, овеваемые крылами судьбы, дни таинственных прощаний, неясных пророчеств, божественной и нежной беспечности, золотое кружево гибели, боль и блаженство, безумная улыбка сладостной неизвестности, без берегов, до оцепенения, до забытья. Ах! Только море и песок – эта божественная прозрачность дня, эта бесконечная песня, сияющая дымка, которая пронзает сердце зовом потустороннего —и, как жертва преходящей красоте дня на этом затерянном берегу, как провидение поэта, – предвестие зимней мглы среди этой райской истомы, туман, поднимающийся над кучами водорослей.
И все же я не могу спокойно наслаждаться этой переворачивающей душу красотой. Я не в ладу с самим собой, я весь – сплошной диссонанс. Вчера, в жаркие послеполуденные часы, я бродил, как неприкаянный, по коридорам отеля, не зная, куда себя девать, чем успокоиться. От давешнего пикника у меня осталось умиротворяющее впечатление, мягкое, будто лунный свет, и даже поэтичное. Я слушал, как два гармоничных голоса тревожат ночь, – это было похоже на детский сон, и я упивался чувством свободы. Но мне не дает покоя одна загадка, – этюд, к которому я безуспешно подбираю решение. Здесь что-то затевается. Во всех этих, на первый взгляд совершенно незначительных событиях, какие произошли за последние дни и какие я описал в этом дневнике, меня настораживает вот что: пусть даже в словах и поступках не проявилось ничего определенного,ничего такого, что здравомыслящему человеку показалось бы необычным, – но у всех, и у меня в том числе (по ком судить, как не по себе?), реакция на эти слова и поступки всякий раз была неоправданно острой, преувеличенной, – пустяковые, случайно оброненные замечания сами по себе явно не могли стать ее причиной. Словно бы некий неслышный мотив,подобно музыкальной теме, что незаметно возникает в оркестре, то вторит основной мелодии, то перебивает ее, а то и обогащает, придает ей торжественность или мягкость, добавляет раскатистости, создает подтекст, – некий мотив еще ведет фразы, когда уже смолкли голоса, продолжает движение, когда уже опущены руки, и транспонирует обыденность этих происшествий в более высокий регистр. Но если этот мотив и вправду существует, его знает только Аллан.
Яуверен, что после разговора в Роскере он и Ирэн расстались врагами. Они столкнулись, как два существа разной породы. И можно быть уверенным: их взаимная неприязнь будет только возрастать.
Как все теперь поблекло для меня на этом пляже! Простодушные летние радости, веселое фырканье животного, выпущенного из загона на волю, – мне теперь не до них. Письмо Грегори сыграло со мной скверную шутку. После того, как уехала Долорес, я уже готов был прогнать призраков, которых вызвал сам, приложив для этого немалые усилия. А теперь он облек меня ответственностью, доверил мне важную миссию. Просто невероятно, до чего легко втянуть человека в чужие затеи, в любое, сколь угодно сомнительное, нестоящее дело, если внушить ему, что он призван сыграть в этом деле важную, ключевую роль. Нет, корысть не самая могучая движущая сила в человеке. Инстинкт комедианта – вот что побуждает нас к действию. Задень эту струнку – и она непременно отзовется. Вероятно, каждый человек, сам того не сознавая, мечтает однажды сыграть главную роль. Иногда, за обедом, глядя на Аллана, я нащупываю в кармане письмо Грегори – и испытываю низменное, но сильное удовольствие, какое испытывает полицейский, следящий за мошенником. Я увлекся этой игрой – и вот наблюдаю, подстерегаю, жду событий, почти желаю, чтобы они произошли, как бы при этом ни сложились обстоятельства.
Но один ли я здесь этим занимаюсь? Кто может сказать, на что способен человек, увлекшийся игрой?Надо бы написать трактат о рождении трагедии, совершенно не похожий на книгу Ницше. С глубокой древности даже в продуманно сконструированных, прочно основанных на "логике страстей" трагедиях толчком к развитию действия служил сумасбродный, необъяснимый поступок одного из героев, внезапная прихоть, буйная, как порыв ветра, которую можно оправдать лишь одним: неудержимым желанием бросить себя на чашу весов, любой ценой, во что бы то ни стало блеснутьна подмостках жизни – и ввязаться в игру, не имея на то никаких разумных причин. Не раз, сидя в зрительном зале, я размышлял об этой стороне трагедии: возвышенная одержимость, состояние транса, передающееся, как зараза, священный огонь, охватывающий героев одного за другим: "А! Нет уж, позвольте. И я тоже, и я тоже!" Как на стадионе: если один спортсмен ступил на гаревую дорожку, то всем остальным не терпится оказаться там же.
Но играть можно по-разному. Такие люди, как Аллан, по праву рождения получают во всемирном театре амплуа премьера: принц, он властелин жизни. А мне, по-моему, отведена роль наперсника героя – это в лучшем случае. Почему всякий раз, когда требуется выйти на первый план, я пытаюсь спрятаться в тень? Это желание укрыться за чьей-то спиной, ехать в чьей-то колее, – оно преследует меня всю жизнь. Быть может, я выигрываю от этого: из тени лучше видно, – по крайней мере, мне так кажется. Впрочем, возможно, я ошибаюсь. И это лишь иллюзия, безобидная реакция на собственную второстепенность. Есть такой компенсаторный механизм, который заставляет маленького человека верить, будто он один – вероятно, потому, что всегда смотрит со стороны – способен по-настоящему все понять, во всем разобраться. Нет такого лакея, который – если у него чуть-чуть ослабеет профессиональное чувство такта, – не принимался бы поучать своего хозяина. Нет такого письмоводителя, который не корпел бы долгими часами над речью министра, надеясь найти в ней ошибки.
Вот оно, единственное преступление, какое нельзя искупить: жизнь загубленная, испорченная, изъеденная ленью, трусостью, расчетливым минимализмом. Каждодневное, систематическое неиспользование всех возможностей, дарованных судьбой. И под конец – медленное угасание, которое оправдываешь, становясь в очень удобную позу скептика. Начало такое: "Я нарочно старался не понравиться, потому что боялся не понравиться на самом деле" (Мориак). А вот продолжение: "Я нарочно старался проиграть, потому что боялся проиграть на самом деле". Конец может быть такой: "Я нарочно старался умереть, чтобы не умереть на самом деле" (коронная фраза для талантливого комика). Ничто, наверное, так не истощает жизнь человека, как эта смесь гордыни и малодушия ("Все равно же все кончится плохо").
В последние дни мы с Анри очень сблизились. Из его полупризнаний я заключил, что моя давняя догадка подтвердилась: между ним и Ирэн наметился разлад. Он не уделяет жене должного внимания; но в ней столько жизни, столько энергии, что она держится как ни в чем не бывало, – у менее темпераментной женщины все уже было бы написано на лице, а здесь душевный надлом даст о себе знать гораздо позже.
Ирэн с ее кипучей натурой бросилась в вихрь светских удовольствий, танцев, спорта: так раненый скакун поначалу лишь ускоряет бег. Она проявляет незаурядную волю – и Жак с его нерешительным характером, легко поддающийся влиянию, не мог остаться к этому безразличным. Мне показалось, что теперь я чаще обычного встречаю их вдвоем – на пляже, на теннисном корте, в баре казино перед ужином. Быть может, тут еще сыграло свою роль воспоминание о Роскере? Ведь тогда они оказались по одну сторону баррикады.
Вчера вечером, в казино, я смотрел, как они танцуют: в призрачном, словно в аквариуме, свете ламп, который ракетой взмывает к потолку и разбивается под бодлеровский монолог саксофона (да-да, вспомните: "Звук трубы так восхитителен") среди некоего подобия тропического леса, наполненного сиянием огромных белоснежных цветов. Такой вкрадчивый свет в увеселительном заведении напоминает о театре с его колдовской игрой огней и полумрака, – на мгновение даже вульгарная красота обретает изысканность, глубину, недосказанность. Оба они были хороши собой, танцевали вдохновенно и, как можно было подумать, совершенно беззаботно, – однако я чувствовал (они меня заметили), что под их горделивой осанкой, уверенными движениями прячется желание отыграться, побороть страх, преодолеть унижение. Мне показалось даже (хотя при таком неверном освещении я мог и ошибиться), будто они ловили мой взгляд, надеясь увидеть в нем восхищение, одобрение: это позволило бы им считать, что они с кем-то поквитались.А точнее (я думаю об Ирэн) – что они отомстили за себя.
После отъезда Грегори, любителя миниатюрного гольфа, мы с Анри вновь принялись играть в настоящий гольф, и нам нравилось начинать день с небольшой партии, тихим утром, когда море еще не стряхнуло с себя ночной сон. Вчера, когда мы закончили партию и шагали обратно, к зданию клуба, я сказал Анри, что эти волнистые лужайки, упругие и сочные, точно приморские заливные луга, почему-то напоминают мне порыжелый кустарник на холмах вокруг Роскера. И вдруг увидел, как его лицо неуловимо напряглось: будто крохотная, с песчинку, пуля ударила ему в переносье.
– Занятный был вечер, не правда ли, Анри?
– Да, и несколько сумасбродный. Это типично для Ирэн – собирать вместе таких разных людей.
В его голосе проскользнула досада; однако последнее определение поразило меня какой – то инстинктивной точностью. Выходит, не я один так думаю! И все же я решил не вдаваться в существо дела.
– Странно, что вы так выразились. А знаете, ведь в разговоре таких людей, как мы с вами, привыкших тщательно взвешивать каждое слово, это прямо указывает на избирательное сродство?
Анри метнул на меня острый взгляд, и оба мы почувствовали, что стало "горячо", как в детской игре.
– Что ж, возможно. Предположим тогда, что Ирэн – отважный экспериментатор, которого не остановит даже угроза взрыва во время опыта. Согласитесь, ведь только так и совершаются открытия.
По его интонации можно было понять, что последняя фраза относилась к нему самому.
– Дорогой Анри, то, что у одних зовется наивной тягой к экспериментаторству, другие называют стремлением искушать дьявола. Вспомните: Церковь не слишком-то поощряла алхимиков. А что они делали? Исследовали взаимное влечение стихий – только и всего. Какое чудесное, манящее искушение! Соединить вместе воду и огонь, соль и серу. И весело глядеть, как взрываются реторты. Но я уверен: в основе этих опытов было лишь невинное, хотя и необузданное, желание установить предрасположенность различных сил ко взаимному влечению.
– Ваши алхимические иносказания очень изящны, но, по сути, вы обвиняете Ирэн в сводничестве. Вы суровы, Жерар.
– А вам не кажется, что все люди склонны к сводничеству – в той или иной форме? Поместить в близком соседстве два вещества или двух людей – и смотреть, что будет: взрыв или синтез. Это так естественно.
– Быть может, это проявление извращенности.
– Да ведь извращенность заложена в природе! Извращенность присуща человеку! К счастью для всех нас. Благодаря этому свершаются события, благодаря этому люди встречают друг друга, все удачи, все находки приходят именно этим путем. А как иначе события и люди могут взаимодействовать, обогащать друг друга, если их не извратить,не заставить свернуть с привычного, накатанного пути? Кто-то скажет: в этом есть нечто дьявольское. Согласен. Все окольные пути – от дьявола, потому он и зовется Лукавый.
На мгновение Анри задумался.
– Возможно. А что касается избирательного сродства, то я все же не могу поверить (голос его странным образом не вязался с темой разговора – слишком серьезный, даже с нотками тревоги), чтобы вы принимали всерьез эту старую небылицу. Остатки ее пылились на дне тиглей и реторт, всеми забытые посреди будуара эпохи Просвещения, когда их забавы ради подобрал Гете. И роман у него получился на редкость скучный.
– Дорогой Анри, я не стану дискутировать с вами по этому поводу. Скажу только вот что: должно быть, психология не вполне доверяет себе, раз не решается выбросить на свалку эту теорию о созданных друг для друга душах (я старался вложить в эти слова всю иронию, на какую был способен). Алхимии больше нет, ее вытеснила химия – ну и ладно. Но что касается психологии, точнее, психологических идей, выдвинутых романистами, то тут судьба теории зависит не от ее применимости на практике (которую невозможно проверить), а, в конечном счете, от ограничений, налагаемых обществом. О самоценности данной теории я не знаю ничего – наверно, она не хуже и не лучше любой другой, – но я уверен: гетевская идея избирательного сродства осталась непопулярной потому, что человек, живущий в обществе, просто не смог бы ее принять, не вызвав тем самым бесконечной череды катастроф. Вы только представьте себе: мир под вечно грозовым небом, которое прорезают сполохи мгновенно вспыхиваюших страстей, души-сестры, подобные перелетным птицам, вечно скитающиеся в поисках друг друга, пары, которые то возникают, то распадаются, – пляска стальных пылинок возле магнита. Такое было бы совершенно неприемлемо. Мир не мог жить в состоянии непрерывного напряжения. А с другой стороны, стендалевская теория "кристаллизации", то есть памяти любви, поддерживала глубоко лицемерный институт брака, или, если хотите, честного сожительства. И поглядите, какой успех! В сущности, именно Стендаль, этот мнимый анархист, подвел идейную основу под гражданский брак, заключаемый по Кодексу Наполеона. Так что Кодекс позаимствовал у этого романиста не только стиль, как сообщают нам учебники, но и нечто гораздо более важное.
Я остался очень доволен этой маленькой тирадой, которая развеселила было Анри – но потом он опять задумался.
– Может быть, вы и правы. Некоторых покойников стоило бы убить снова. Но даже в Кодексе Наполеона, если разобраться, есть статья, воздающая должное Гете.
– Что вы имеете в виду?
– Так называемый "развод из-за несходства характеров". Ваши алхимики были бы в восторге.
Я понял, что пора обратить все в шутку и положить конец разговору, тема которого была отвлеченной лишь по видимости, легкомысленный тон – наигранным, а юмор – отнюдь не безобидным.
Теперь мы молча шагали у подножия скал, разглядывая унылые равнины. Земля здесь встречает море с большей скромностью, чем в других местах – без деревьев, без роскошного и суетного убранства, какое видишь на более живописных побережьях, – будто два прекрасных тела сбросили одежды, чтобы возвысить миг любви. Анри сказал, что эта суровость пейзажа несказанно трогает его. Я и не догадывался, что столь уравновешенный и, как мне казалось, робкий человек может любить неоглядные просторы. Нас было двое в дремотной, вялой пустоте утра; две крохотные темные точки, две букашки, ползущие по одеялу, – такими казались мы курортнику, который в это время оглядывал берег с высоты эспланады.
– Вам не приходилось замечать, – вдруг спросил Анри, – что в отдельные периоды нашей жизни сны как бы возвращаются,то есть повторяются с очень небольшими изменениями, и все они связаны между собой какой-либо общей, запоминающейся деталью, – вроде сходства на фамильных портретах?
– Я редко вижу сны, и у меня просто нет возможности наблюдать, как они выстраиваются в ряд. Но такое, кажется, действительно бывает, притом почти у каждого. Когда я был моложе, это случалось и у меня.
– Ну, тогда, выходит, я молодею. Вот уже две недели, как меня преследует один сон, он повторялся несколько раз, почти без изменений. Один из тех исключительных снов – ярких, четко выстроенных вокруг главной темы, – что словно продолжаются наяву, чуть ли не в течение всего дня. В нем есть некое предостережение – не решаюсь сказать "пророчество", – явным, но необъяснимым образом затрагивающее меня. Помните начало романа Достоевского "Вечный муж": герою, Вельчанинову, несколько дней подряд постоянно попадается в толпе один и тот же, ничем не примечательный человек, лицо которого, однако, ему о чем – то напоминает. Вот и все. Но мало-помалу жизнь его меняется, здоровье расшатывается; он растерян, не знает, что делать. Мое сердце бьется ровно – можете пощупать пульс, но в этом повторяющемся сне есть что-то гнетущее.
– Интересно.
– Мне постоянно снится один и тот же пейзаж. Я стою на высокогорном плато, рно раскинулось вокруг, насколько хватает глаз, поросшее высокой сочно-зеленой травой. Этот травянистый покров изрьп волнами, точно море, и тянется до самого горизонта. Надо мной – ослепительно синее небо с вереницей облаков, белых небесных коней, они несутся вдаль и пропадают из виду, сливаясь с волнами травы.
Движение облаков вычерчивает в небе угол, вершина которого – как раз надо мной, и этот угол в точности повторяется внизу, будто в зеркале воды, и бег переливчатых изумрудных волн тоже будто устремлен к какой-то неведомой вершине. При ярком свете дня (солнце сияет ослепительно, великолепно, невыносимо) возникает то же зрелище, что на полотнах примитивистов, изображающих закат – пучок красных лучей расходится веером и на небе, и на поверхности моря (на самом деле перед закатом на небе не бывает ничего похожего на веер): это своего рода одержимость перспективой, материализовавшейся, превратившейся в грозную силу, в великаншу, которая пожирает пейзаж, словно щупальцами притягивая его к точке схода; так столб смерча или бездна водоворота всасывают все вокруг. Лицо овевает вольный, девственный, головокружительно свежий ветер, он пьянит, как вино, и сразу понимаешь, что ты – на громадной высоте, на безлюдном плоскогорье вроде тех, какие бывают в Андах или на Памире, – ветер, рождающий безумное желание мчаться за ним вслед, до самого горизонта, по этим заповедным травам, этим коврам небесных водорослей, этому Саргассову морю среди ледников.
Но совсем рядом, слева от меня, прямо напротив точки схода, плато вдруг заканчивается ужасающе отвесным обрывом. Здесь, где я стою, – гладкое, ровное плато, величественное и необозримое, словно охватившее всю землю; там, внизу, – дно пропасти, все изрезанное, изрытое, ячеистое, похожее на алмазный карьер, на распиленный пополам термитник. Или, точнее, на картонный муляж человеческого тела, какие стоят в кабинетах естествознания: если приподнять лоскуток "кожи", под ней откроется разноцветное переплетение вен, сухожилий, кишок, странное и отталкивающее, точно копошение красных муравьев под каменной плитой. С такого огромного расстояния дно пропасти видится в голубоватом свете, словно долина широкой реки в предвечерний час. Там, на дне, различимый отчетливо, как в подзорную трубу, открывается привычный глазу пейзаж: купы деревьев, прихотливо вьющиеся тропинки, крошечные домики, окруженные садами, ручейки, а чуть подальше – окутанные легкой дымкой городские окраины.
И вот я с поразительной четкостью вижу улицы таинственного города. Около шести вечера, золотистые солнечные блики на мостовой, влажной от только что прошедшего ливня, блеск мокрого камня, веселая суета у дверей магазинов. И меня охватывает неизъяснимое волнение при виде каждой, пусть и незначительной детали, – вот бордюр тротуара, вот тихий безлюдный переулок: так странно видеть его сверху, в двух шагах от широкого оживленного бульвара, – вот люди, снующие у входа в дорогой отель, сквер в кольце недвижных деревьев, – сам не знаю, отчего, но я чувствую безмерную любовь ко всему этому. Мне тяжело, мне не по силам стоять здесь одному и смотреть на город с невидимой вершины, как смотрит парящий орел, или бог, или душа, унесенная демоном на горную кручу – город кажется таким беззащитным, таким уязвимым, он словно в теплице, в неправдоподобном, сказочном покое. Здесь, наверху, ветра уже нет – опускается слабый туман, еще мгновение можно различить дальние дали, словно увлекаемые течением реки, воздушные, расплывчатые, печальные, осененные густыми деревьями, – и видение исчезает. Пропасть заволакивает мглой, плато смыкается над ее краями, как подъемный мост, и опять вокруг меня – сплошная, неоглядная травяная пустыня.
30 июля
Сегодня утром, когда я проснулся, – быть может, мне передался сон Анри? – голова у меня полнилась звуками дальней дороги. Нахлынули воспоминания раннего детства, упоительные воспоминания о сборах и отъездах – у меня это всегда были отъезды на морские курорты вроде здешнего, и я даже ощутил запах вокзала, запах солнца. Я снова вижу полутемный пешероподобный зал с высокими окнами, слышу врывающийся под своды грохот, радостное пыхтение машин, будто зверей, спешащих в нору, в драконью пещеру. Там, вдали, где кончается навес над платформой, в торжествующем блеске солнца, на дне узкой расщелины между домами я вижу убегающие рельсы: образ бесконечности, принадлежащей мне одному. Черный запах угля обдает теплом, как свежие булочки, как сверкающие лучи солнца над путями, на ум приходит паровозное депо, доменная печь, паровой молот, все, что связано с таинством огня. В нишах каменной стены, где устроены залы ожидания, прохладно, словно в гротах – и красуются дивно безупречные, поистине самодостаточные фразы, висящие в воздухе, точно алмазная люстра под высоким дворцовым потолком. "Пор-Вандр, самая короткая и удобная переправа". "Замок и городок Бенак". И, словно Фантомас на роскошном океанском лайнере, – лихой росчерк, взлетевший над темной зеленью скалы, над гребешком стройных сосен и ныряющий в густую, иссиня-черную, точно нефть, воду, – одно лишь слово, ибо комментарии излишни: " Форментор". Да, эта крытые платформы вокзалов, эта закопченные траншеи, где повсюду видны отметины от молнии, повсюду чувствуется запах серы, – для кипения моих желаний, близ бескрайнего пространства, расстелившегося здесь передо мной, они были тем же, чем для реки, лениво текущей по равнине, бывает отводной канал, который гонит ее воду к турбинам.
Вот так же на меня, на всех нас действовало присутствие Аллана. Теперь я это понял.
3 августа
Сезон в самом разгаре. В отеле появляются новые лица. Но я знаю заранее, что новоприбывшие ничего не будут для меня значить. Мой мир на время жизни здесь будет ограничен этой небольшой, случайно подобравшейся группой людей, теми, кто в моих воспоминаниях навсегда – что бы ни произошло потом – останется связан с неким приобщением.Да, мы познакомились случайно, но не убеждайте меня, будто случай – это что-то пустое и никчемное. Нет, случай – это божество, самое хитроумное, самое властное, самое скрытное из всех. Я чувствую, что между нами – мной, Анри, Ирэн, Жаком, и даже Грегори, если он вернется, – возникла та же связь, какая возникает между солдатами, вместе принявшими боевое крещение. Я знаю, что изъясняюсь выспренне, что мое настроение трудно передать – но ведь я обращаюсь только к самому себе. "Я делал записи о приступах неистовства".







