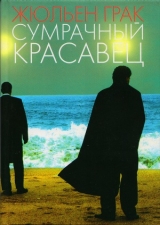
Текст книги "Сумрачный красавец"
Автор книги: Жюльен Грак
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)
Она была рядом, он ощутил прохладу и тонкий аромат ее тела, закутанного в купальный халат, и поцеловал ее голое плечо, робко и ласково, словно щеку матери.
– Как малый ребенок… – растроганно повторяла Ирэн, взяв его голову в ладони и притянув к себе.
– Ты уверена, что Анри не вернется?
Голос Ирэн показался ему задумчивым и серьезным, в нем будто сквозил смутный страх.
– Нет. Не беспокойся. Сегодня вечером он сюда не вернется, – ответила она.
Казалось, она хотела отогнать тревожную мысль. Жак безотчетно вздрогнул.
– Надень-ка халат. Вон тот, белый, он тебе больше пойдет. Ночь сегодня холодная… А ты красивый, – добавила она с нежной чарующей улыбкой, потом обвила руками его шею и устремила на него долгий взгляд.
И снова в комнате настало неловкое молчание. Жак поднял глаза: на потешке металась тень ночной бабочки, кружившей возле лампы. На окнах висели тяжелые гардины, но было слышно, как снаружи рыщет ветер. Два или три раза с неравными промежутками долетал приглушенный грохот разбивающейся волны: словно вдалеке кто-то стучал кулаком в дверь.
– Тебе не кажется, что в отеле стало очень мрачно?
– Не будь таким нервным. Дай мне руку… Ты готов! – И она склонилась к его лицу, глядя на него жадно, с наслаждением.
А Жак снова видел длинные, стылые коридоры отеля в тусклом свете – похожие на подземные штольни, на закоулки океанского лайнера без пассажиров, когда его обходит ночной дежурный: скрипучие, кряхтящие, стонущие, как черная зевающая пасть. Этот розовый, окутанный мягким светом оазис приоткрылся ему, стал его убежищем, – а вокруг были пустые комнаты, пустой отель, где гуляло эхо, и приходилось понижать голос…
– Сегодня за ужином Аллан был какой-то странный. Ты не обратила внимания?
Ирэн раздраженно встала, машинально проверила запоры на окнах.
– Оставь Аллана в покое, очень тебя прошу. Ты ведь не хочешь испортить нам ночь – нашу ночь? Может быть, другой у нас не будет.
– Обычно он не бывает таким рассеянным. Да, я уверен: его что-то очень тревожило. И Кристель тоже вела себя странно. Ты заметила, как она посмотрела на него, когда он встал, чтобы с ней попрощаться? Честное слово, я не думал, что она может так смотреть…
– Слушай!
Встрепенувшись, едва переводя дух, Ирэн властным жестом велела ему замолчать. В коридоре, за тонкой перегородкой, негромко хлопнула дверь. Затаив дыхание, они долго вслушивались в недвижную тишину.
– Это ветер, – сказал наконец слегка побледневший Жак. – В коридоре одно окно все гда оставляют открытым.
– Нет, это в егокомнате… – Голос Ирэн звучал уверенно и в то же время тревожно, словно эта уверенность причиняла ей боль.
Жак осторожно поцеловал ее в губы: казалось, она вне себя от растерянности и страха.
– Видишь, ты тоже нервничаешь.
– Обними меня.
Теперь она дрожала всем телом. Такая Ирэн, ранимая, беспомощная, уже не вызывала у него болезненной робости. Он привлек ее к себе и припал губами к ее губам. Ее большие, влажные, чуть испуганные глаза были совсем рядом и неотрывно смотрели на него. Она начала тихонько стонать.
– Иди ко мне, – прошептала она вдруг торопливо, порывисто…
Когда он проснулся, еще не вполне сознавая, где он, ему показалось, что кругом совершенно темно. У него было ощущение, какое возникает у человека, очнувшегося от долгого, тревожного сна в обманчивой полутьме комнаты с закрытыми ставнями, куца сквозь щели уже пробивается бледный свет утра. Но накрытая платком лампа в углу все еще горела. Комната была словно придавлена тяжелыми драпировками в широких черных складках. В такой обстановке, должно быть, люди сидят ночью у постели умирающего. Особенно впечатляли занавеси алькова, они шевелились, точно палатка на ветру, вызывая глухое беспокойство, – и стены словно расступались, отдалялись от этого унылого, безрадостного ложа, от этого особого, строго охраняемого сна.
"Я спал!" – подумал он вдруг, и у него защемило сердце, будто он проспал какое-то важное событие, будто его одолела тяжкая, цепенящая дрема, как учеников на Масличной горе.
Какая-то смутная греза властвовала над этой надменной комнатой, она сразу подчинила себе два распростертых тела, а потом притаилась, влилась в завораживающую, маниакальную неподвижность, которая словно оледенила здесь все – темные занавеси, бледные пятна простыней, словно превратила их в груду камней после обвала.
Ему было тяжко, точно его тошнило, он посмотрел вокруг – взгляд его скользил по грифонам и блеклым цветам гобеленов. Шум волн стал глуше. "Начинается отлив", – подумал он почему-то: только это сейчас и пришло ему в голову. Мысль его преодолевала невидимые стены и врывалась в тишину пустых комнат – тишину, похожую на мощный, стремительный, захлестывающий поток. И снова в коридоре негромко, медлительно хлопнула дверь.
Он повернулся к Ирэн. Приподнявшись, застыв, как мраморная статуя, широко раскрыв невидящие глаза, с исказившимся от напряжения и страха лицом, она чутко прислушивалась – будто внезапно очутившись в неимоверной дали, на другом краю бездонной пропасти, в одной из коварных ловушекСна: бывает, человек радостно просыпается – и видит, что рядом с ним лежит каменный истукан.
– Что с тобой?
Вскочив, он схватил ее за руки, словно пытался унять буйно помешанную. Голова Ирэн вновь упала на подушку, лицо отвернулось от света. И Жак вдруг разорвал завесу, сбросил с себя зловещие чары этой лживой ночи и почувствовал, как в нем поднимается неудержимая волна гнева.
– Зачем ты меня сюда привела?
И услышал слабый, дрожащий, задыхающийся от безмерного ужаса голос:
– Мне страшно…
Аллан неподвижно сидел за столом в темной комнате и в распахнутые окна смотрел на небо: там, точно звенящие ожерелья, сияли созвездия, а полная луна покрывала их прозрачной голубоватой дымкой – вроде того светящегося облака, что поднимается ночью над большим городом, точно испарения от разгоряченного животного. Мирный лунный свет вливался в окно со стороны парка, и тень оконной рамы большим черным крестом ложилась на кровать. Вдруг совсем рядом торжественно зашумели деревья, в безветрии, будто сами собой. Огромные светящиеся купола, серебристые, нежные, неприступные, поднимались вверх, как ступени волшебной лестницы в этой священной ночи, их окутывал голубоватый дым жертвенников, в их темной зелени открывались таинственные гроты, подобно прогалинам в тучах. Порой с ветки срывался лист, порхая, будто крохотное привидение, оробев от почти давящего мистического восторга, разлитого вокруг.
За пляжем, на пустоши, по склонам сползала масса пушистого голубоватого снега, в оврагах он рассыпался хлопьями, катившимися медлительно, как облака, разливался озерцами, нес с собой отупляющую вялость, расслабленность, дремоту.
"Перестать бороться, – подумал он. – Тогда все станет легко. Погрузиться на дно… "лечь", как говорят про лошадь, не желающую брать барьер. И только-то?.."
Он отвинтил крышку с маленького флакончика и вылил в наполненный водой стакан несколько капель темной жидкости. Потом размешал ложкой, которая звякнула так мелодично и успокаивающе, словно заманивала в западню, в круг старых, уютных привычек.
«Кофе… Скверный кофе…»
Он медленно подошел к окну в парк, высунулся и стал смотреть на деревья. На лужайках парка лежали длинные, извилистые, великолепные тени, густые, как чернила, коварные, как дремлющая топь, а всего в нескольких шагах от них свет превращался в бесконечную песнь, в прозрачное марево, он бесшумно вибрировал над землей, как туча роящихся насекомых, он плясал – легко, весело, упиваясь свободой. Этот бледный свет торжествовал над жизнью, захватывал ее в плен, сковывал, лишал всего, что придавало ей своеобразие, и превращал ее в единое целое с молчаливым безглазым фасадом, с зачарованными садами. "Каменный гость", – с горечью подумал он.
Отойдя от окна, он оказался в почти полной темноте. Проскользнувший в комнату лунный луч расстелил на поблескивающем паркете кусок шелка. Во мраке звучно тикали часы, отсчитывая секунды. Безмятежное чудо лунного света через окна вытягивало жизнь из этой темной комнаты: так бальзамировщик через ноздри вычищает череп, заменяя теплое дыхание жизни ледяными и бесплодными парами эфира, – и превращало ее в один из гротов зачарованного сада. В памяти у него вдруг всплыла фраза из стихотворения, написанного в юности: "Если я, оставив эту женщину спящей, сейчас встану и пойду, – бледный, с высунутым языком и замедленными, как у лунатика, движениями, которые будут выдавать меня, то стану безотчетно искать на боку зияющую рану, откуда вытекла вся моя кровь, наполнив остывшую комнату смертной тоской".
Луна обшаривала комнату, как чердак старого дома, выхватывая там и сям какую-то неповторимую деталь, вдруг ставшую важной, сохранившую слабое биение жизни, точно это была человеческая рука, которая торчала среди развалин или из смятого, искореженного аварией автомобиля. Словно луч театрального прожектора выхватил из тьмы слабо переливающийся письменный стол, заваленный бумагами. Аллан расхаживал по комнате широкими, упругими шагами. А за окнами все сеялись голубоватые струйки, растекались волнами, усыпляли сад, будто накрывая его снегом.
Он снова сел за стол, рассеянно принялся перебирать бумаги. Вдруг от слабого порыва ветра листки слетели со стола, закружились в воздухе. Он резко обернулся: на пороге стояла Кристель.
Несколько секунд они не двигаясь смотрели друг на друга. Его фигура темной массой выделялась на фоне окна, откуда лился яркий лунный свет, – он ссутулился, напряженно вытянул шею. Она, закутанная в белый махровый халат, скрывавший кисти рук, стояла, заслонив собой дверь, как бы отрезая путь к бегству: казалось, она доведена до крайности.
– Это вы, Кристель, – сказал он тихо, не веря своим глазам.
– Да. – Голос звучал еле слышно.
– Что случилось? Идите сюда, сядьте. Хотите, я зажгу свет?
– Нет. – Снова этот сумеречныйголос, почти шепот.
Белая фигура зашевелилась, медленно двинулась в глубь комнаты, к столу. Лунный луч осветил босые ноги, ноги смиренной нищенки. Бескровное лицо притаилось среди тяжелых темных волос, как прячется злодеяние в неосвещенном доме. При виде этой походки, неуверенной, шаткой, как у сомнамбулы, ему стало не по себе: он остановил ее и сказал резким тоном, чтобы привести ее в чувство:
– Зачем вы пришли?
Она часто, со свистом задышала, потом наконец выдавила:
– Вы сейчас должны умереть…
Он выпрямился, охваченный внезапным гневом, посмотрел ей в лицо.
– Что это значит?
– Вы сейчас должны умереть. Я знаю: вы хотите умереть. Для меня это стало ясно уже давно, много дней, много недель тому назад.
Он взял ее руки в свои, попытался успокоить ее.
– Что за нелепые мысли, Кристель!
Ее голос окреп, стал увереннее и жестче.
– Пожалуйста, не надо обращаться со мной как с ребенком. Я обо всем догадалась.
Он чувствовал, как этот полос проникает ему в душу, – отрезвляющий, строгий, несущий в себе некое тайное знание, почти пророческий, – спокойный голос, в котором уже не было слез. Он удивленно поднял глаза: ее лицо было бескровным, но почти радостным. Прекрасное лицо.
– Это правда, Кристель: сегодня – моя последняя ночь.
Лицо застыло, – оно словно истекало кровью из невидимой раны. Ее нежное, горестное участие, тишина вокруг, – все это смягчало, расслабляло, располагало к откровенным признаниям.
– Я это знала. Когда вы приехали…
– Верно, тогда все уже было решено. Но до того, как очутиться здесь, я не представлял себе, что смерть, даже спрятанная в чемодане, может бьггь такой постыдной тайной, и что ее так трудно скрыть.
Он коротко, зло рассмеялся.
– Не смейтесь так. Мне от этого больно.
Он вдруг сощурился, быстрым, жестким взглядом охватил распущенные волосы, халат, босые ноги, – это тело предлагало себя. Он дерзко посмотрел ей в лицо и коснулся ладонью ее обнаженной руки.
– Вы пришли меня спасать? – Он почти прошипел эти слова. – Девственница готова стать последней любовью умирающего. Ничего не скажешь, замечательную роль вы для себя выбрали, и притом какую героическую!
Он грубо сжал ее руку, наклонился, глядя на нее в упор.
– А знаете, я мог бы этим воспользоваться. Я еще ничего не решил.
– Я здесь, перед вами. – В ее голосе звучала оскорбленная гордость. Слова застряли в горле Аллана: Кристель порывистым движением развязала пояс халата. Она была совсем близко, но Аллан остановил ее.
– Вы смелая девушка, Кристель. Простите меня.
Разом потеряв самообладание, ослабев, задыхаясь от нежности, он привлек ее к себе, ощутил совсем рядом ее тело, свежее и теплое, как летний дождь, осыпал поцелуями покорные глаза, приник к ее груди лицом, залитым слезами, вне себя от счастья.
– Милая моя бедняжка, сколько в тебе смелости! Неужели ты так сильно меня любишь?
Она осторожно прижимала его голову к своей груди, она исходила рыданиями, часто, судорожно всхлипывала: это было похоже на шум клокочущей воды.
– Да, да!.. Если бы ты только знал…
Со смиренной нежностью она целовала ему руки, обливая их слезами.
– Ты не умрешь, правда?.. Ты теперь меня не оставишь…
Он высвободил руки, поцеловал ее в лоб, подошел с ней к окну. Долго смотрел на сад, бесстыдно млеющий под лунным светом, на замершую от восторга ночь. Она зачарованно следила за его взглядом.
– Я вас уже оставил, – не оборачиваясь, с грустью сказал он.
– Как?..
– Я дал слово.
– Долорес?..
В ее голосе слышалась нарастающая тревога.
– Да. Мы умрем вместе. Я буду обесчещен, если завтра увижу рассвет.
– Аллан, неужели все так серьезно? – Она с мольбой подняла на него глаза.
Он ласково провел рукой по ее волосам и строго взглянул на нее.
– Возможно. О! Я знаю, как смешон может быть человек, который твердо решил осуществить задуманное. Особенно то, что я задумал сделать сегодня. Сколько разных отговорок рождается в уме, сколько веских причин, чтобы продолжать жить: они плодятся, размножаются, отталкивают и отгоняют друг друга – и все это за самое короткое время, за день или за неделю. Знаю: сегодня я умру не тем человеком, каким приехал сюда два месяца назад. Не тем, – и не по тем причинам. Более того: могу ли я знать, кеммне предстоит умереть через два часа? Но не стоит гоняться за призраками, – добавил он, устало махнув рукой. – Так или иначе, Кристель, все уже решено.
– Зачем же вы приехали сюда, – на горе, на несчастье нам всем?
– Да, это правда, я играл с вами. Как играет по ночам привидение, завернувшись в белую простыню. Этакий печальный дух… А потом… не знаю, потом все запуталось. Я жил сегодняшним днем, словно одержимьгй, я пытался перехитрить судьбу. Если сейчас я могу простить себе это мрачное ребячество, то лишь потому, что тогда ясно сознавал: я заплачу за все.
Какая-то извращенная нежность, предательская слабость заставляли его изливать душу, ставить под угрозу намеченный план. Он заговорил снова: теперь в его тихом голосе было что-то похожее на страх.
– Теперь, Кристель, я знаю одну тайну. Ужасную тайну. Да, я знал и прежде, что смерть человека – если только его не убивают так неожиданно и так быстро, что он не успевает приготовиться, если это жестокаясмерть и видно, как она приходит, – смерть человека собирает множество зрителей. Взять хоть театральные представления или публичные казни. Но я не знал другого: нельзяпозволять смерти слишком долго разгуливать по земле с открытым лицом. Этого я раньше не знал… Когда ей это позволяют, она будит, будоражит ту смерть, что до поры дремлет в другом человеке, точно ребенок, скрытый в материнском чреве. Когда одна беременная встречает другую, она может не смотреть на нее, но в глубине души они почувствуют общность…
Он поглядел на нее и с твердой, по-детски наивной убежденностью встряхнул головой.
– … Да, смерть вдруг начинает шевелиться внутри другого человека, и он это чувствует. Но ее уже не так просто побороть.
– Не говорите так. Это невыносимо. Вы сведете меня с ума, – гневно бросила она ему в лицо. Он был совсем рядом, но она уже чувствовала: он уходит, скрывается за потайной дверью, покидает эту ненадежную комнату, растворяется в благодатной ночи.
Он жестко возразил:
– Спросите у Жерара. Он тоже это знает. Он сумел угадать очень многое.
Она вцепилась в его плечи обеими руками, в горестном порыве подняла к нему лицо:
– Почему вы хотите умереть?
– О, это долгая история…
Он устало пожал плечами.
– Почему я решил умереть – это, быть может, сейчас уже не важно. Стоит ли доискиваться? Но я переверну ваш вопрос наизнанку. Неужели вы думаете, что теперья смогу жить дальше?
Горькая усмешка исказила его лицо.
– Утопающий спасся и вдобавок выловил себе прелестную даму. Да, возможно, я смог бы жить дальше, – если только можно жить, сделавшись посмешищем. Знаете, почему окружающие так безжалостны к тем, кому не удалась попытка самоубийства, и к тем, кто только делал вид, будто хочет покончить с собой? Это месть. Так походя пинают ногой поверженного героя, так болельщики освистывают своего кумира, если ему не повезет. Обманутые надежды, впустую растраченный энтузиазм – как вино, превратившееся в уксус, они находят выход в язвительных насмешках.
Он повернулся к окну и продолжал свой задумчивый монолог.
– Да, когда я приехал сюда с Долорес, то думал, что я свободен, что она стала мне опорой по моей собственной воле. И если сегодня я умираю, то не в последнюю очередь, – нет, в первую очередь потому, что окружающие хотят моей смерти, гонят, подталкивают меня к геройской гибели.
Оскорбленная, она подошла к нему вплотную, взглянула сурово, гневно.
– Какое самомнение!..
Он улыбнулся горделивой, печальной улыбкой.
– Да, пожалуй. И еще… Это трудно объяснить.
Он понизил голос, очевидно высказывая затаенную мысль:
– И еще кое-что, гораздо более важное, то, что сыграло, быть может, решающую роль… не знаю… В священных книгах иногда попадаются странные места, доступные не всем, а только тем, кто способен подняться над обыденностью. Это строки, в которых выражено требование: совершить подвиг во имя веры, ценой жизни подтвердить высшую истину, стать вечным яством для вечно голодной толпы…
Он смотрел на Кристель до странности напряженным взглядом. И на ее лице он увидел смутный ужас. Она подняла на него смиренные, умоляющие глаза.
– А как же я, Аллан?
– Вы!..
Обуреваемый противоречивыми чувствами, вне себя от волнения, он стал целовать ей руки.
– Я делаю это и ради вас тоже… Особенно ради вас. Чтобы быть достойным…
В полутьме она жадно смотрела ему в глаза, – и ее наполнял панический ужас, от которого мутился разум.
– Я буду любить вас каким угодно, хоть праведником, хоть грешником, пойду за вами повсюду, стану вашей рабой, вашей вещью, – даже если погублю себя, даже если не смогу помочь вам.
А в его смятенном взгляде вдруг возникло что-то новое, какая-то мучительная догадка.
– Да, Кристель, вы меня любите. Но я так все запутал. Вы любите меня, потому что на мне – печать смерти.
Она пришла в ярость.
– Вы сумасшедший!
– Я заключил сделку с дьяволом. Если я спасусь, – я стану вам неинтересен. "Когда вы полюбили меня, я был украшен, укрыт с головы до пят кровавой мантией, – она была неотделима от меня, как пурпур – от венценосца…"
Она хотела ответить, возразить, – но он жестом призвал ее к молчанию. В его голосе крепла, нарастала неизъяснимая вера, – все сильнее желавшая раствориться в милосердной ночи.
– Я причинил вам боль, но я буду жить в вас всегда.
– Неужели вы думаете, что после вашей смерти я еще смогу жить?
– Конечно. Рука, которая нанесла рану, может и исцелить ее. Когда соблазн теряет силу, он может принести огромную пользу. Когда то, что должно было свершиться, действительно, неопровержимо свершается, – это очень важно. Свершение несет в себе великую силу, оно возвышает, очищает людей. У вас возникнет чувство необыкновенной свободы, обновления, вам будет хорошо. Вот увидите, Кристель, какой прекрасной, какой радостной станет жизнь после моей смерти.
– Зачем вы меня мучаете?
Но у нее больше не было сил бороться, больше не было слез: его слова связывали, сокрушали ее. В душе Аллана поднялась последняя буря: его мысль, по сути уже покинув мир живых, лихорадочно работала, перебирала все возможности, искала способ спалить, как факел, взорвать эти последние, роковые минуты. Внезапно он принял какое-то решение и направился к столу.
– Смотрите!
Она вздрогнула от звука его голоса. Стоя на фоне ослепительного лунного сияния, он с мрачной важностью поднял наполненный ядом стакан. Медленно, как завороженная, с остановившимся взглядом она подошла к нему. Шли минуты. У Кристель, казалось, помимо ее воли, вдруг задрожали пальцы, потом вся рука. Он понял, что она борется с неодолимым искушением. В его глазах вспыхнул огонек безумия, – то было исступленное торжество, дикая ревность.
Он отставил стакан подальше от нее.
– Вот вы и увиделито, что все время было у вас перед глазами.
Она дрожала всем телом, как натянутая струна. Он положил ей руку на плечо. Внезапно очнувшись, она широко раскрыла глаза, полные нестерпимой боли, и впилась ногтями в его руку, точно висела над пропастью. Он поцеловал ее в мягкие, горячие от слез губы и, одну за другой, ласково, но решительно отстранил ее руки.
– Пусть меня отнимут у всех, кого я люблю. А теперь прощайте, Кристель. Все сказано – оставьте меня.
Недрогнувшей рукой он затворил за нею дверь, закурил сигарету. Он шумно, тяжело дышал. В окна проник ровный шум начинающегося прилива. Деревья парка, повсюду, куда хватал глаз, серебрились в лунном свете, будто покрытые инеем. В сердце темной комнаты маятник мирно, обыденно отсчитывал секунды.
Он услышал, как дверь снова отворилась, и спокойно, не шелохнувшись, встретил роковой час.







