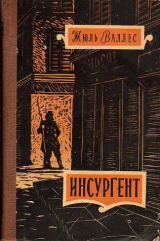
Текст книги "Инсургент"
Автор книги: Жюль Валлес
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
XVI
15 июля [117]117
15 июля. – В этот день (15 июля 1870 г.) правительство Наполеона III обратилось к Законодательному корпусу с просьбой ассигновать средства на проведение мобилизации ввиду «оскорбления Франции Пруссией». Через четыре дня Франция объявила войну Пруссии.
[Закрыть]
Берегитесь крови!
Она нужна им, они хотят войны! Нищета наступает на них, вздымается волна социализма.
Простой народ страдает всюду: на берегах Шпрее так же, как и на берегах Сены. Но на этот раз у страдающего народа нашлись свои защитники в блузах, стало быть пора устроить кровопускание, чтобы соки новой силы вытекли через рану, чтобы возбуждение масс разрядилось под грохот пушечной канонады, как разряжается, уходя в землю, смертоносный ток при ударе грома.
Победят они или будут побеждены, но народный поток, натолкнувшись на щетину штыков, будет разбит о зигзаги побед и поражений.
Так думают пастыри французской и немецкой буржуазии, дальновидные и предусмотрительные.
Впрочем, красные штаны и компьенские стрелки ничуть не сомневаются в победоносном шествии французских войск через завоеванную Германию.
На Берлин! На Берлин!
На одном из перекрестков со мной чуть было не расправилась воинственно настроенная ватага, когда я вздумал высказать ей весь свой ужас перед этой войной. Они обозвали меня пруссаком и, вероятно, разорвали бы на части, не назови я себя.
Тогда они отпустили меня... не переставая ворчать.
– Этот хоть и не из таких, но он тоже не лучше. Они не верят в родину, в братство и в дружбу, им плевать на то, что державы Европы оскорбляют нас.
Пожалуй, мне действительно наплевать на это.
Не проходит ни одного вечера без бурных диспутов, которые неминуемо кончались бы дуэлью, если б сами нападающие на меня не считали, что нужно беречь шкуру для неприятеля.
И часто самыми ярыми шовинистами в наших спорах оказываются наиболее передовые, старики 48 года, бывшие бойцы. Они бросают мне в лицо эпопею четырнадцати армий[118]118
Четырнадцати армий. – Здесь и дальше перечисление тех патриотических усилий и военных подвигов, которые совершил французский народ в борьбе с интервенцией монархических держав в период французской буржуазной революции конца XVIII в.
[Закрыть], подвиги майнцского гарнизона[119]119
Майнцский гарнизон. – В 1793 г. французский гарнизон, занимавший крепость Майнц, выдержал продолжительную осаду со стороны войск монархической коалиции.
[Закрыть], волонтеров Самбры и Мааса и 32-й полубригады. Они забрасывают меня деревянными башмаками мозельского батальона, тычут в глаза заслугами Карно[120]120
Карно Лазар (1753—1823) – французский военный инженер, член Конвента. В качестве члена Комитета общественного спасения занимался организацией военных сил республики, получил прозвище «организатора победы». После реставрации Бурбонов (1815) эмигрировал в Бельгию.
[Закрыть], султаном Клебера.
Мы взяли полосы материи и, написав на них обмакнутой в чернила щепкой: «Да здравствует мир!» – ходили с ними по всему Парижу.
Прохожие набрасывались на нас.
Среди нападающих были агенты полиции, но они не подстрекали толпу. Они довольствовались тем, что выслеживали людей, на которых обрушивался гнев толпы, и тогда они выбирали среди них тех, кого знали как участников какого-нибудь заговора, кого видели на собраниях, в день демонстрации на могиле Бодена[121]121
Демонстрация на могиле Бодена. – левореспубликанского депутата Бодена (1811—1851), убитого на баррикаде во время бонапартистского государственного переворота, произошла 2 ноября 1868 г.
[Закрыть] или на похоронах Виктора Нуара. И как только человек был намечен, свинцовая дубинка и кастет расправлялись с ним. Боэра[122]122
Боэр Анри (род. в 1852 г.) – студент и литератор (театральный критик); после подавления Коммуны был сослан за участие в революционных событиях 1870—1871 гг. После возвращения из ссылки отошел от революционного движения.
[Закрыть] чуть не убили, другого сбросили в канал.
Порой меня охватывает постыдное раскаяние, и я испытываю преступные угрызения совести.
Да, сердце мое переполняется сожалением, – сожалением о принесенной в жертву юности, о жизни, обреченной на голодание, о моей попранной гордости, о моей будущности, загубленной ради толпы. Я думал, что эта толпа наделена душой, и мечтал посвятить ей когда-нибудь все свои мучительно накопленные силы.
И вот теперь эта толпа следует по пятам за солдатами. Она идет в ногу с полками, приветствует радостными кликами офицеров, на чьих погонах еще не высохла декабрьская кровь, и кричит: «Смерть!» – нам, желающим заткнуть корпией раструбы сигнальных рожков.
Это самое глубокое разочарование в моей жизни!
Среди всех унижений и неудач я хранил надежду на то, что настанет день – и народ отомстит за меня... И вот этот самый народ только что избил меня[123]123
...этот самый народ только что избил меня... – Валлес ошибался: в большинстве своем это были не трудящиеся, а переодетые в рабочие блузы полицейские агенты и праздношатающиеся обыватели.
[Закрыть], как собаку. Я весь истерзан, и в сердце моем бесконечная усталость...
Если б завтра какой-нибудь корабль согласился взять меня к себе на борт и увезти на край света, я уехал бы, стал дезертиром из чувства отвращения, отщепенцем всерьез.
– Но разве вы не слышите «Марсельезы»?
Она внушает мне ужас, ваша теперешняя «Марсельеза». Она стала государственным гимном. Она не увлекает за собой волонтеров, она ведет войска. Это не набат подлинного энтузиазма, это – позвякивание колокольчика на шее прирученного животного.
Какой петух возвещает теперь своим звонким «ку-ка-ре-ку» выступление полков? Какая идея трепещет в складках знамен? В 93-м году штыки поднялись от земли с великой идеей на острие, как с огромным хлебом:
День славы наступил!!!
Да, вы увидите это!
Площадь Бурбонского дворца
В день объявления войны мы все трое – Тейс, Авриаль и я – отправились к Законодательному корпусу.
Ярко светит солнце, мелькают красивые женщины в нарядных туалетах, с цветами на груди.
Вот лихо подкатил военный министр или какой-то другой; новая коляска, лошади в серебряной упряжи.
Точно какой-то придворный праздник, торжественная церемония, молебен в Соборе богоматери. В воздухе носится аромат пудры и цветов.
Ничто не выдает волнения и страха, которые должны сжимать сердца при известии о том, что родина готова обнажить меч.
Слышатся приветственные крики... «Ура!»
Жребий брошен,– они перешли Рубикон!
6 часов
Мы пересекли Тюильрийский сад молча, в полном отчаянии.
Кровь бросилась мне в лицо и грозила залить мозг. Но нет! Эта кровь, которую я обязан отдать Франции, вышла самым нелепым образом через нос. Увы, я обкрадываю родину, наношу ей ущерб; кровь все идет, идет не переставая.
Лицо и пальцы у меня совершенно красные, носовой платок имеет такой вид, как будто им только что пользовались при ампутации, и прохожие, возвращающиеся в приподнятом настроении от Бурбонского дворца, сторонятся меня с жестом отвращения. А между тем они же сами приветствовали постановление, обрекающее нацию исходить кровью изо всех пор.
Вид моего похожего на томат носа неприятен им... Шайка сумасшедших! Пушечное мясо!
– Не мешало бы ему спрятать свои руки! – бросает с брезгливой гримасой какой-то бородач, только что кричавший во все горло.
Я умываю лицо в бассейне.
Но тут вмешиваются мамаши.
– Какое он имеет право пугать лебедей и наших крошек? – раскричались они, созывая своих малышей, из которых трое или четверо были наряжены зуавами.
Красный Крест
Все журналисты забегали. Каждый хочет вступить в армию.
Организовали санитарный батальон. Все, кто пробыл хотя бы недолго на медицинском факультете, все, у кого завалялось в кармане какое-нибудь старое свидетельство, – все обращаются к некоему доктору-филантропу, подающему хирургию под женевским соусом[124]124
...под женевским соусом. – В Женеве в 1864 г. была заключена международная конвенция о Красном Кресте.
[Закрыть]. Он придумал какой-то черный костюм стрелка или туриста в трауре, и все записавшиеся имеют в нем не то монашеский, не то похоронный вид.
Я только что видел, как они выходили из здания министерства промышленности. Сержант, шедший во главе, – секретарь редакции «Марсельезы», тот самый, что в день убийства Виктора Нуара соблаговолил дать нам немного денег, но наотрез отказал в пистолетах. Этот славный малый, воинственный, как павлин, важно выступал с ворохом амуниции, нацепленной за его спиной наподобие распущенного веером хвоста.
В этих санитарных отрядах, которые только что отправились, сбиваясь с ноги, на поля сражения, много искренне преданных делу людей, но сколько там также романтиков и комедиантов!
Сады и скверы полны людей, одетых наполовину в штатское, наполовину в военное. Их разбивают на взводы и заставляют бегать, топтаться на месте, образовывать каре, круг...
– Против кавалерии скрестить штыки! Защищайся от пехоты! Сохраняйте расстояние в пять шагов... Уберите локти!.. Девятый, вы выдаетесь из строя!.. Левой, правой! Левой, правой!
И локти убраны, и девятый подобрал свое брюшко...
Левой, правой! Левой, правой!
Ну, а дальше что?
Неужели вы думаете, что в разгар сражения где-нибудь на лугу, в поле или на кладбище, когда вдруг неожиданно повстречаешься с неприятелем, эти дистанции будут соблюдены и штык будет действовать с размеренностью метронома?
Каждый день по направлению к вокзалам двигаются целые отряды, но это скорее шумные, разбегающиеся во все стороны толпы, а не дефилирующие войска. Они катятся, как огромные волны, и бутылки торчат из их мешков.
А я... по охватившему меня волнению я чувствую, что поражение уже сидит на крупах лошадей кавалеристов, и не жду ничего хорошего от всех этих фляжек и котелков за спиной пехотинцев.
Они идут, словно на какой-то пикник... Боюсь, как бы дождь из ядер не попал в их суп, пока они будут чистить картошку и лук.
От этого лука поплачешь!
Никто не слушает меня.
То же самое было и в декабре, когда я предсказывал поражение. Мне отвечали тогда, что я не имею права обескураживать тех, кто захотел бы сражаться.
Сейчас мне кричат: «Вы – преступник и клевещете на родину!»
Еще немного – и меня, пожалуй, отведут в штаб как изменника!
Вандомская площадь
Меня и в самом деле препроводили туда, схватив во главе кучки людей, приведенных в отчаяние подлинными поражениями, взбешенных вымышленными победами и горланивших: «Долой Оливье!»
Меня узнали, указали другим и выдвинули вперед. Это была большая честь, но зато какую я получил взбучку... Тут было все: и удары сапогом в спину, и эфесом шпаги по ребрам... Били и приговаривали: «Ну, двигайся же, бунтовщик!»
Десять человек поволокли меня в штаб национальной гвардии.
– Шпион! Шпион! – ревели мне вдогонку.
А когда я крикнул в ответ: «Дураки!» – несколько буржуазных штыков принялись оспаривать друг у друга удовольствие проткнуть меня; но лейтенант, командующий постом, вырвал меня из лап солдат.
Он знает меня, он видел карикатуру, где я изображен собакой с привязанной к хвосту кастрюлькой.
– Как! Это вы!.. Но ведь вы – тот молодец, которого я ищу! Вас-то мне и надо! Они чуть было не распотрошили вас?.. Сорвалось!.. Но они все равно способны сослать вас в Кайенну![125]125
Кайенна – главный город французской колонии – Гвианы, служившей местом политической ссылки.
[Закрыть] Да, да!
Он прав. Из министерства юстиции поступил приказ передать меня жандармам.
Четыре черных силуэта обступили меня, и мы двинулись в путь, как китайские тени.
Наши шаги гулко раздаются в ночной тиши; полуношники подходят и глазеют на нас.
Остановка в полицейском участке. – Допрос, обыск, заключение в кутузку.
Нарочный привозит распоряжение о переводе меня в арестный дом.
Я устало опустился на деревянные нары, между нищим с культяпками, растравляющим свои язвы каким-то снадобьем, и человеком с интеллигентным, но совершенно растерянным лицом. Увидев, что я сравнительно прилично одет, он придвинулся вплотную ко мне и тихо, сквозь сжатые зубы, чуть не задыхаясь, зашептал:
– Я – скульптор... Я не успел намочить глину... Не дал поесть кошке... Я шел купить ей печенки... меня схватили с республиканцами...
У него захватило дыхание.
– А вы? – с трудом вымолвил он.
– Я не шел за печенкой... У меня нет кошки, у меня есть убеждения.
– Как ваше имя?
– Вентра.
– Ах, боже мой!
Он отодвигается, закутывается в свое пальто и прячет голову, как страус.
Но скоро он высовывает ее и дрожащим голосом, почти касаясь моего уха, шепчет:
– Когда придут полицейские, сделайте вид, что не знаете меня, хорошо?
– Да, да! Спокойной ночи! Эй вы, калека, уберите-ка ваши крылышки!
Утро. На скульптора жалко смотреть.
Его допрашивают первым.
– Я ничего не сделал... Я шел за печенкой для кошки... Я – скульптор... Я не намочил глину... Меня освободят?.. Я стою за порядок...
– За или против – нам наплевать! Уведите его!
Я – стреляная птица.
Тюремный сторож догадывается об этом, и мы с ним болтаем по дороге в камеру.
– Вы уже сидели здесь?.. Я это сразу понял! Вместе с Бланки? Делеклюзом? Межи?..[126]126
Межи Эдмон (1844—1884) – участник революционного движения 60-х гг., рабочий-механик, был приговорен к каторжным работам. Участвовал в восстаниях 31 октября 1870 г. и 22 января 1871 г. в Париже. Во время Коммуны был комендантом форта Исси.
[Закрыть] Я знаю всех этих господ... Употребляете? – И он протягивает мне табакерку.
Мне разрешили выйти подышать свежим воздухом.
Правда, я по-прежнему меж четырех стен, но зато под открытым небом.
Какой-то шум отвлекает на минуту тюремщиков, и они бросают заключенных на полдороге.
Какой-то человек подходит ко мне и трогает меня за плечо... Нет, это не человек, а какой-то призрак, выходец с того света!
– Вы не узнаете меня?
Мне кажется, что я действительно видел уже где-то этот потертый сюртук, болтающийся, как пустой мешок.
– Я скульптор.
– Да, помню... глина... кошка... печенка...
– Как вы думаете, что они сделают с нами?
– Расстреляют.
– Расстреляют!.. Нас!.. А между тем у меня там кое-что было!
– Где это?
– Разве я вам не сказал своего имени?
– ?..
– Я Франсиа.
Франсиа! Вот тебе на! Ведь это ему было поручено изваять статую воинствующей Республики с обнаженной шпагой в руке.
Я все жду, что меня вызовут на допрос, жду с мучительным беспокойством.
Один из сторожей сообщил мне по секрету, что на днях перед зданием Палаты была бурная демонстрация.
Он утверждает, что сегодня после полудня будет еще одна во главе с Рошфором; его должны вызволить из тюрьмы Сент-Пелажи.
У следователя
– Милостивый государь, вы обвиняетесь в подстрекательстве к гражданской войне.
Хочу объясниться, но чиновник останавливает меня взглядом и жестом.
– За то время, что вы находитесь здесь, милостивый государь, великие бедствия постигли Францию. Она нуждается во всех своих сынах. Лицо, приказавшее арестовать вас, просит меня теперь открыть перед вами двери тюрьмы. Вы свободны.
Он сказал это совсем просто, и голос его задрожал при словах «великие бедствия».
Я вышел из дома заключения еще более печальный, чем вошел туда.
Я подбежал к афишам. Эти огромные белые плакаты, расклеенные на стенах, испугали меня: я словно увидел бледный лик моей родины.
Что там такое?..
Признайся, Вентра, что в глубине души ты был скорее несчастен, чем доволен, узнав, что император одержал победу. Ты страдал, поверив слухам о победе, почти так же, как горбун Наке[127]127
Наке Альфред (1834—1916) – французский ученый и политический деятель, буржуазный республиканец. В 1869 г. участвовал в революции в Испании. Участник революции 4 сентября 1870 г. В 1871 г. был избран депутатом Национального собрания. Впоследствии примкнул к булаижизму.
[Закрыть], которого это заставило плакать от злости.
И вот облачко заволакивает твои глаза, на них показываются слезы.
Двое суток провел я, сосредоточив все свои мысли и чувства на известиях оттуда, прислушиваясь к эху далекой канонады и к шуму улицы.
Все тихо.
XVII
Десять часов утра. Стук в дверь.
– Войдите!
Передо мной высокий детина с мертвенно-бледным лицом, заросшим густой черной бородой, в очках, какие носят немецкие студенты, и в шляпе калабрийского бандита.
– Вы не узнаете меня?
– Право, нет.
–Я – Бридо[128]128
Бридо Габриэль – французский рабочий (гравер), бланкист. 14 августа 1870 г. участвовал в нападении бланкистов на казарму в парижском квартале Ла-Виллет, за что был приговорен к смертной казни. Революция 4 сентября 1870 г. привела к его освобождению из тюрьмы. Во время Коммуны был начальником муниципальной полиции.
[Закрыть]... Один из ваших учеников в Кане.
Да, да, припоминаю. Мальчик с такой фамилией был как раз в том отделении, которому я, будучи временным заместителем учителя риторики, рекомендовал ничего не делать.
– Ну что же, как сложилась ваша жизнь?
– Я подыхал с голоду! Получив аттестат бакалавра, я решил поступить на юридический факультет. Мой отец мог заплатить только за три семестра, не больше. Он – мелкий деревенский нотариус. Я считал его богатым, пока он однажды со слезами на глазах не признался мне, что он очень, очень беден... Полагаясь на свою репутацию хорошего ученика, я начал бегать по учебным заведениям... Не тут-то было! У тех, кто учился в Париже, есть еще какие-то связи, протекция их бывших учителей... Но провинциал, будь он семи пядей во лбу, мечтающий приложить свои знания между Монружем и Монмартром[129]129
Между Монружем и Монмартром – то есть в Париже, так как эти возвышенности расположены на его противоположных концах.
[Закрыть], может, не раздумывая, броситься в воду вниз головой!.. У меня оказалось больше мужества... Я стал рабочим, гравером. Я не такой уж искусный мастер, но и моим неловким резцом мне все-таки удается заработать себе на жизнь... Сколько раз вспоминал я вас и то, что вы говорили нам по поводу университетского образования. Тогда я думал, что вы шутите! Ах, если б я вас послушал!.. Впрочем, дело не в этом. Я пришел не затем, чтобы хныкать перед вами. Вот уже три года, как я принадлежу к одной бланкистской секции. Секции хотят выступить!
Я схватил его за руки.
– Вы говорите, что секции хотят выступить?.. Так вот, не рассказывайте мне об этом, сохраните вашу тайну. Я не хочу, чтобы на меня легла какая-то доля ответственности за попытку, заранее обреченную на неудачу; единственным результатом ее будет то, что многих славных ребят засадят в Мазас и в Центральную тюрьму.
– Я выполняю возложенное на меня поручение. Вчера у нас зашел разговор о людях, которые не останутся равнодушными, если в каком-нибудь углу раздастся пистолетный выстрел. Ваше имя Бланки назвал первым; он знает вас по рассказам товарищей и решил, что вас нужно предупредить... Теперь вы можете поступать, как вам будет угодно. Я знаю, что вас не затащишь туда, куда вы сами не хотите идти, но все-таки будьте сегодня в два часа пополудни у казармы Виллетт – и вы увидите начало восстания.
Половина второго
Я пришел.
Они тоже пришли, черт возьми! Всего несколько человек: Бридо, Эд[130]130
Эд Эмиль (1844—1888) – французский революционер, студент, типографский служащий, журналист, член Парижской коммуны и ее Комитета общественного спасения, командовал южными фортами.
[Закрыть], – он делает мне знак головой, на что я отвечаю подмигиваньем, – смуглый субъект в фуражке, с пенсне на носу, сгорбленный старик с длинным кротким лицом, да плюс еще какой-то тип.
Бланки стоит немного поодаль, возле бродячего фокусника.
Тра-та-та!
– Милостивые государыни и милостивые государи, покупайте мой порошок для чистки!.. Представьте себе, что вы в гостях у жены министра и снимаете нагар со свечи... Тогда вы сыплете немного моего порошка... И скоморох, не переставая расхваливать свой товар, подходит время от времени к красно-бурому барабану, чтобы выбить на нем дробь своей магической палочкой.
Уж не на этом ли ярмарочном барабане будут бить призыв к атаке, любезный Бридо?
– А, гражданин Вентра! Давно уж нам нужно свести с вами счеты. Наконец-то вы мне попались... теперь уж я вас не выпущу.
Я случайно столкнулся нос к носу с одним механиком из этого квартала; у нас с ним не раз бывали стычки. Он – коммунист, я – нет.
Он и в самом деле не выпускает меня и заставляет проводить его немного.
Он пристает ко мне с вопросами, я отвечаю. Но мысли мои далеко. Я невольно прислушиваюсь, не донесет ли теплый ветерок, овевающий наши головы, эхо перестрелки; и в ту минуту, когда мой собеседник спрашивает в упор, какие у меня имеются возражения против коллективной собственности, – я думаю о Бридо, об Эде и о Бланки.
Почему вдруг умолк барабан шута?
– Признайтесь, что вы разбиты! – говорит механик, весело чокаясь со мной. – Если б только нам удалось захватить власть!
Власть? Вон там, около фигляра, их шестеро, готовых уже овладеть ею.
Но я не говорю об этом товарищу, – не считаю себя вправе.
Довольствуюсь тем, что спрашиваю, может ли, по его мнению, движение, руководимое воинственно настроенными людьми, увлечь народ против империи.
Он берет спичку и медленно проводит ею о штаны.
– Смотрите, достаточно будет сделать вот так, и все вспыхнет. Только вот так!
– Вы уверены, дружище?
А между тем, если б что-нибудь произошло, мы знали бы это здесь... Но пока ничего!
Очевидно, в тот момент, когда фокусник жонглировал своими шариками, их схватили в толпе, да так, что они даже и ахнуть не успели, и теперь шпики вылавливают подозрительных.
4 часа
Ни шума, ни волнения!
Рабочие, вырядившись в новые пиджаки, прогуливаются со своими расфранченными женами. Старшие сестры тащат за руки маленьких братишек, останавливаясь перед выставленными на витринах картинками и сластями. В мозолистых руках виднеются цветы, и на лицах всех этих тружеников написано желание отдыха и покоя.
Воскресенье – неудачный день для восстаний.
Никому не хочется портить свое лучшее платье, лишать себя угощения в кафе, на которое давно уже отложено несколько су; к тому же это единственный день в неделю, когда можно побыть в кругу своей семьи, навестить старика отца, повидать друзей.
Не следует призывать к оружию в дни, когда бедняки принаряжаются, когда они, промечтав об этом целую неделю в своих мрачных жилищах, устраивают пирушку в веселом, увитом зеленью ресторанчике.
Поэт Гюстав Матьё[131]131
Матьё Гюстав (1808—1877) – французский революционный поэт, популярный среди коммунаров.
[Закрыть] и волосатый Реньяр, поймав меня за столиком в ресторане Дюваля, где я только что уселся, сообщают мне, что человек тридцать осадили казарму[132]132
...осадили казарму... – 14 августа 1870 г. отряд вооруженных бланкистов (сам Бланки тайно прибыл в Париж для руководства восстанием) совершил нападение на казарму, расположенную в квартале Ла-Виллет, чтобы раздобыть там оружие и начать всеобщее восстание с целью свержения империи. Массы населения, не подготовленные к выступлению, не поддержали бланкистов. Организаторы этого дела были преданы военному суду. Крушение империи спасло их от смертной казни.
[Закрыть] пожарников в квартале Ла-Вилетт и открыли огонь по полицейским.
И, по-видимому, уложили одного или двух.
– Преступники! – говорит Матьё.
– Идиоты! – кричит Реньяр, которому, как бланкисту, самому полагалось бы там быть.
Идиоты! Преступники!.. – эти честные, смелые люди...
Необходимо в ближайший день обсудить все это.
Эд и Бридо арестованы по собственной неосторожности.
Военный суд выносит смертный приговор.
Как их спасти?
Быть может, на общественное мнение воздействует письмо какой-нибудь популярной, знаменитой личности?
И мы ищем, кто бы мог составить и подписать это письмо величайшей важности.
Трудное дело.
Осужденные заявили, что они отвергнут всякое ходатайство о помиловании, возбужденное перед империей; да и мы сами не хотели бы, во имя их, допустить какую-нибудь слабость, – даже ради их спасения.
Люди убеждений – ужасный народ.
Но все же мы думаем, что, если заговорит такая величина, как Мишле, – его услышат... и, возможно, прислушаются к его словам.
Рожар[133]133
Рожар Луи-Огюст (1820—1896) – французский политический деятель, педагог и публицист, сотрудник лево-республиканских газет, автор памфлетов против правительства Второй империи; за памфлет «Речи Лабиена» был приговорен к пятилетнему тюремному заключению. Был избран членом Парижской коммуны, но отказался заседать в ней.
[Закрыть], Эмбер, Реньяр, я и еще несколько человек отправляемся к нему.
Он предстал перед нами таким, каков он есть: величественный и женственный, красноречивый и чудаковатый.
Он сразу согласился и захотел только узнать, кому будет направлено это послание, которое, не походя на просьбу, должно вместе с тем иметь целью отмену смертного приговора.
– Вождям обороны! – предложил я.
– Хорошо, очень хорошо!
Он встает и проходит в соседнюю комнату, оставляя нас на минуту одних.
Затем возвращается и снова садится за стол, вокруг которого мы столпились, безмолвные и взволнованные.
– Сударь, – произносит он, обращаясь ко мне, тоном человека, передающего слова оракула, – мадам Мишле того же мнения, что и вы.
И мы приступаем к составлению письма.
Он не любит Бланки и в первой же строчке своего черновика взваливает на него ответственность за выступление и за приговор.
– Наши товарищи, – заявляет один из нас, – не согласятся даже для спасения своей жизни отречься от своего вождя...
Он закусывает губы, кряхтит «гм! гм!» и снова исчезает, но ненадолго и, вернувшись, говорит нам:
– Решительно, господа, женщины на вашей стороне; мадам Мишле понимает вашу щепетильность и одобряет ее. Вычеркнем эту фразу.
Наконец, когда уже все кончено, он идет еще раз посоветоваться со своей Эгерией. Мы смеемся, но со слезами умиления на глазах.
Он обратился к сердцу той, кто являлась подругой его жизни и спутником его идей. И это сердце высказалось, как и наши, за жизнь и честь наших друзей.
Мишле шагает из угла в угол.
– Они не посмеют их убить, я не допускаю этого... Такие стоят чудесные дни! При таком солнце кровь оставила бы на газоне слишком отвратительное пятно... буржуа не захотят расположиться на травке, если от нее будет пахнуть трупом. Они присоединятся к нам, вы увидите. Во всяком случае, я ручаюсь вам, что они не расстреляют их в воскресенье.
Воззвание заканчивалось приблизительно такими словами:
Господь взирает на народы...
Господь... Слово это не очень-то пришлось по вкусу нашей четверке атеистов, и мы встретили его гримасами и молчанием.
Мишле смотрит на наши физиономии и, пожимая плечами, говорит:
– Ну да, я понимаю... Но это звучит хорошо.
Мы отправились с письмом по редакциям, причем все оспаривали друг у друга эту честь.
А, черт возьми! Как хорошо, что я не принадлежу ни к какой группе, ни к какой церкви, ни к какой клике.
По-видимому, есть два течения в бланкизме, и каждое из них отказывает другому в праве спасти головы осужденных.
И эти головы скатились бы, если б их судьба была предоставлена группе, которая соглашалась помешать казни лишь в том случае, если вся слава по отмене приговора выпадет на ее долю.
К счастью, кончилось тем, что дело было поручено независимым, вроде меня, и мы обошли все органы прессы.
В «Деба» человек, которого нам назвали Максимом Дюканом[134]134
Дюкан Максим (1822—1894) – французский литератор, участвовал в подавлении Июньского восстания 1848 г., за что получил орден; автор произведения «Судороги Парижа», одной из самых клеветнических книг о Коммуне.
[Закрыть], негодующе потряс головой, слушая нас. Он жесток к побежденным.
Почти всюду письмо было принято как хорошая рукопись и напечатано, но без единой строчки сочувствия или жалости.
Тогда мы бросились к депутатам Парижа, которые, кстати сказать, почти неуловимы. Они надавали нам неопределенных обещаний, а у некоторых срывались даже оскорбительные слова, так что приходилось заставлять их замолчать.
Гамбетта резко выступает против осужденных и требует с трибуны, чтобы их наказали как действующих заодно с врагами родины.
Ах, бандит! Ему-то лучше, чем кому-либо другому, известно, что это – смелые и мужественные люди. Но такие люди беспокоят его, они – угроза его будущему. Кто знает, не удастся ли ему выудить себе диктатуру в мутной крови поражения? Так почему же не отделаться от этих непокорных при помощи солдат империи?
Коллеги Гамбетты тоже колеблются, – настолько они чувствуют над собой его власть. Однако они не захлопывают перед нами дверей, потому что атмосфера достаточно накалена и они боятся, как бы во время восстания, – а оно может вспыхнуть каждую минуту, – их отказ не прицепили к их депутатской перевязи, как прицепили некогда фонарь к груди герцога Энгиенского[135]135
Герцог Энгиенский – французский принц из династии Бурбонов, по приказу Наполеона I был расстрелян в ночь на 25 марта 1804 г.
[Закрыть], – чтобы виднее было, куда стрелять.








