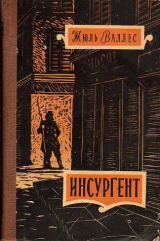
Текст книги "Инсургент"
Автор книги: Жюль Валлес
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
XXXI
V округ
Но, может быть, те, с кем я сталкивался с того момента, как вступил в битву с жизнью, – может быть, они будут рады в этот решительный момент увидеть в своих рядах меня, их старого товарища по нищете и труду, беднягу, который так долго шатался в потертом пиджаке по аллеям Люксембургского сада?
Этот Латинский квартал, где томилась моя скорбная юность, если и поставлял бойцов для социальных войн, то главным образом в лагерь угнетателей. Потомки Прюдома всегда старались увильнуть от битв, где их пальто могла задеть рабочая блуза, где мастер баррикады мог прикрикнуть на бакалавров, если бы они помешали маневрам или стрельбе.
Кто знает, не будут ли они более решительны, имея во главе одного из своих же!
Я побежал в ратушу.
– Приложи-ка сюда печать, Гамбон!
– Прекрасная идея! Там, вокруг Сорбонны, они все тебя знают. Только, если не ошибаюсь, ты не в ладах с Режером?[199]199
Режер де Монмор Теодор-Доминик (род. в 1816 г.) – врач-ветеринар. Член Парижской коммуны и ее Комиссии финансов. В майские дни руководил обороной квартала Пантеон. Был сослан на каторгу в Новую Каледонию.
[Закрыть] Впрочем, вот твоя бумага... А теперь обними меня! Кто знает, что может случиться.
Он обнял меня, подписав как член Комитета общественного спасения мое назначение председателем комиссии по обороне, заседающей в Пантеоне.
Я не очень-то силен в стратегии. Как нужно укреплять квартал? Как ставят орудия на батарее?
Разве интеллигент что-нибудь понимает в этом?
Проходя мимо коллежей Сен-Барб и Луи-ле-Гран, я пригрозил им кулаком. Школьник с седеющими усами, я проклинал эти казармы, не научившие меня ничему, что пригодилось бы мне сейчас в борьбе с войсками.
Режер принадлежал к «большинству» и был одним из наиболее горячих. Мы все-таки поздоровались. Но он хочет сохранить за собой командование... все командование.
Ну что ж, спрячь в карман свою бумажку, Жак. Напомни старым товарищам только о своем прошлом, о днях нищеты и тюрьмы, о том, как ты с ними работал в библиотеке, вместе разгуливал по Одеону.
Многих из них я встретил на улице. Одни бежали, искали, где бы спрятаться, другие храбро взялись за дело.
Мне пришлось подписать целую кучу назначений в делегаты, на основании моего полномочия, которое я вытащил, все измятое, из своего жилетного кармана.
Такие бумажонки нужны для двадцатилетних честолюбцев. Они готовы быть расстрелянными вечером, лишь бы иметь возможность похвастаться утром офицерским свидетельством.
Однако они сразу же принялись за работу; нагромождали тюфяки, доставляли провизию и амуницию и подвергали себя смертельной опасности.
Это-то как раз и нужно!
Если завтра некоторые из этих папенькиных сынков будут убиты или сосланы, – это бросит семена восстания на буржуазную почву.
Я делаюсь полноправным членом отряда, расположившегося вокруг Пантеона. Мало хорошего говорят здесь о Коммуне.
– Если б она была более энергична!
– И если б вы, Вентра, не усыпляли народ вашей умеренной газетой, – горячится один лейтенант, чуть не хватая меня за горло.
В этом отряде не любят «меньшинства».
Выстрел!
– Черт подери, придется класть заплату на пальто! Еще немного пониже, – пришлось бы зашивать и кожу.
Разрядился чей-то пистолет... нечаянно.
Мы помирились.
Злоба затихает перед лицом приближающегося врага.
Он уже на Монпарнасском вокзале.
Нападет ли он на наш квартал?
– А что, если мы нападем на него первые?
Эта мысль была высказана вечером, на совещании командиров, одним из прежних товарищей, тоже литератором, но не признающим классической стратегии и баррикадных боев.
– Двинемся вперед и выбьем их!
– Это безумие! – возражают единодушно бывшие солдаты.
Да. Но, во всяком случае, безумие смелых, оно может привести в замешательство противника и едва ли будет опаснее пассивного сопротивления.
Но мы с товарищем остаемся одни с нашим безумным проектом и клянемся идти бок о бок до конца, чего бы это ни стоило.
– Обещайте прикончить меня, если я буду тяжело ранен.
– Согласен, но с условием, что вы окажете мне ту же услугу, если почин сделаю я.
– Идет!
Я чертовски боюсь физических страданий и из чувства малодушия предпочту смерть, хотя, конечно, не особенно весело умереть где-нибудь под забором от руки своего товарища.
– А по-вашему, приятнее быть проколотым штыком?
– Проколотым!..
– Дорогой мой, эта солдатня, если б она могла, искромсала бы нас на куски уже тогда, когда мы проповедовали войну до победного конца. На этот раз они острием своих сабель выколют нам глаза: ведь это из-за нас их вытащили из родных деревень.
Ко мне подходит один из бойцов.
– Гражданин, не хотите ли взглянуть, как выглядит труп предателя?
– Кого-нибудь казнили?
– Да, булочника, он сначала отрицал, а потом сознался во всем.
Федерат заметил, как я побледнел.
– Вы, может быть, стояли бы за его оправдание! Неужели вы не понимаете, черт возьми, что, разбивая голову одному иуде, спасаешь жизнь тысяче своих? Меня приводит в ужас вид крови, а между тем мои руки залиты ею: он уцепился за меня, когда я приканчивал его. Но ведь если никто не будет убивать шпионов, что же тогда?
В спор вмешивается еще один.
– Не в этом дело! Вы хотите сохранить чистенькими ваши ручки на случай суда или для потомства. Это нам, народу, рабочим, достается всегда черная работа... чтобы нас же потом оплевывали. Не так ли?
Этот разъяренный человек сказал правду.
Да, мы хотим войти незапятнанными в историю, хотим, чтобы наше имя не было связано с кровавым удобрением боен.
Признайся в этом, Вентра. И не очень-то гордись бледностью, покрывшей твое лицо перед трупом расстрелянного булочника!
Вторник, 5 часов утра
Сражение началось со стороны Пантеона.
Какое печальное зрелище являет собой под лучами восходящего солнца вереница носилок, залитых пурпуром человеческой крови! Это несут на перевязочные пункты раненых с улицы Вавен и бульвара Араго.
Я провел эту ночь, так же как и предыдущую, в одном из закоулков мэрии, по соседству с мертвецом.
Булочник лежит там, за досками, и окровавленные клочья соломы, служащей ему подстилкой, добрались по сточной канавке до самых моих ног.
На рассвете меня разбудили, и я отправился к баррикадам.
Но по дороге меня останавливали командиры и капитаны, хватали за руки, за полы, требуя припасов, хлеба, совета... и даже речей.
Некоторые угрожали:
– И после этого Коммуна смеет еще поднимать голос!
Я окончательно теряюсь. И никого подле меня, кто надоумил бы, поддержал, разделил со мной это бремя. Из членов Коммуны, избранных нашим кварталом, я видел пока только Режера, – но его со всех сторон осаждали, и к тому же он был слишком поглощен делами муниципалитета, – да Журда, который показался всего лишь на минутку, так как у него тоже немало ответственных дел.
В его ведении находятся последние экю, чтобы питать восстание и расплачиваться за съестные припасы, которых так громко требуют наиболее решительные. В довершение всего его министерство горит от версальских ядер.
И я один.
Время от времени меня подталкивают к стене какого-нибудь дома и совещаются, не покончить ли со мной.
Эльзасец Вюрц, следователь, состоящий при Ферре, только что спас меня от этой блестящей перспективы.
– Вы не Вентра!
Собирается толпа.
– Шпион! Прикончить его!
– В мэрию! В мэрию!
– Зачем в мэрию? Вон там, у забора!
– Жак Вентра с бородой. Вы не Жак Вентра!
– К стенке его! К стенке!
Эта стена является передним фасадом одного кафе на улице Суффло.
Я попробовал было объясниться.
– Да поймите вы, черт возьми, что после того как я удрал из Шерш-Миди, я начал бриться!..
Несмотря ни на что, меня, наверно, прикончили бы, если б Вюрц не бросился в разъяренную толпу.
– Что вы собираетесь делать?
Если не узнали меня, зато хорошо знают его. Он клянется, что я имею право называться своим именем.
– Простите, гражданин, извините!
Я отряхиваюсь, как мокрая собачонка, и мы отправляемся всей компанией выпить по стаканчику.
Теперь, когда они уже не сомневаются в том, что я – Вентра, я становлюсь пленником всех этих вновь прибывающих батальонов. Их офицеры стараются насесть на меня, прижать главного редактора «Крика народа», единственного носителя алого шарфа в этом округе.
И они взваливают на меня всякие мелочи, душат меня ими. Обращаются ко мне по всякому поводу и без всякого повода.
С тех пор как началась борьба, у меня едва нашлось время пойти взглянуть, как идет защита. Несколько раз я собирался пробраться туда, где как бешеные отбивались Лисбон и Анри Боэр.
Но каждый раз меня задерживали, окликали, возвращали и чаще всего потому, что возникало подозрение в предательстве и кто-нибудь уже бился в руках этих недоверчивых и раздраженных людей, требовавших немедленного и упрощенного суда.
Однако, насколько мне известно, не было ни одного убитого, за исключением булочника. Правда, поговаривали, что на каком-то дворе расстреляли командира Павиа, не поднимая шума, из опасения, как бы я не спас его; но никто не видел его трупа.
Эстафета: «Улица Вавен просит подкрепления».
Барабан призывает «Детей отца Дюшена»[200]200
«Отец Дюшен» – революционная газета, выходившая с марта 1871 г., 11 марта была закрыта по приказу генерала Винуа и возобновлена 30 марта. Редактировали ее Э. Вермерш, М. Вильом и А. Эмбер.
[Закрыть] на помощь попавшей в беду баррикаде.
Они не заставляют просить себя дважды.
– Пусть нас ведет Вермерш! – раздается со всех сторон.
Но Вермерша нет на месте.
– Ах, уж эти писаки, журналисты!.. Прячутся по погребам, когда нужно сражаться!
– Вам угодно журналиста? Я к вашим услугам!
– В путь!
Бьет барабан. Я иду рядом с ним, и его дробь отдается в моем сердце; моя человечья кожа трепещет, как и его ослиная.
На полдороге меня тянут к себе сбежавшиеся на шум люди.
– Вы должны пойти... у версальцев есть сторонники, тайно работающие в мэрии шестого округа; они действуют заодно с инженерными войсками, занявшими Монпарнас. Моя фамилия Сальватор; вы должны знать меня по выступлениям в клубе Медицинской школы. Поверьте мне и идемте с нами... Вашу работу на перекрестке Бреа может выполнить любой человек, тогда как в Сен-Сюльпис вас, несомненно, послушают.
– Ступайте, если это необходимо, – говорит мне сам капитан «Детей отца Дюшена».
Здесь и в самом деле идет горячий спор, чуть ли не драка.
Я стараюсь разобраться в происходящем.
Но вот является Варлен – идол квартала, – и перед ним все внезапно смолкает.
Я свободен!
Нет еще, не совсем. Меня разыскивает командир батальона, расположившегося в V округе.
– Вентра, не подниметесь ли вы опять наверх? – говорит он, едва заметив меня. – Поговаривают о том, чтобы взорвать Пантеон.
– Иду.
Штук двенадцать снарядов разрываются около фонтана Сеи-Сюльпис, бросая нам под ноги зловонные осколки.
За занавеской вырисовывается профиль священника. Если идущие со мной федераты заметят его, – он погиб!
Нет! Они не видели его... Скорее, мимо!
Мрачна и пустынна эта улица, —только куски чугуна несутся впереди и позади нас, точно крысы, бегущие в сточные канавы.
Дома заколочены. Их фасады с закрытыми ставнями – словно огромные слепые лица.
На углу настоящий слепой, с собачонкой у ног, жалобно просит:
– Подайте милостыньку!
Я знаю его вот уже тридцать лет. Когда он появился здесь впервые, его волосы были черны, а теперь у него седая голова. Мне кажется, что он стоял на этом самом месте 3 декабря 1851 года, когда Ранк, Артур Арну и я пришли захватить эту самую мэрию, где сидят сейчас наши вперемешку с изменниками.
Еще одна бомба, – и новые чугунные осколки, горячие и скверно пахнущие.
– Подайте милостыньку, господа!
Ты, нищий, не выпускающий из рук своей деревянной чашки даже под ядрами, автомат, олицетворяющий беспомощность, – ты вместе с тем обладаешь бесстрашием героя! Твой гортанный крик, выделяющийся своей монотонностью среди человеческого урагана, неумолимо звучит в этой беспощадной борьбе.
Вот он там, у церковной колонны, как статуя, – статуя Немощности и Нищеты, – стоит среди народа, который мечтал излечить язвы и уничтожить нищету.
Ему подают. Люди, идущие сражаться, бросают мелкую монету, а сами выпрашивают патроны.
– Спасибо, добрые господа!
XXXII
Первое впечатление этого утра было ужасно. Когда я направлялся к Красному кресту, чтобы узнать, как обстоят дела наших бойцов, я увидел бегущих женщин. Они несли узлы с пожитками и тащили за руки ребятишек.
– Всюду поджигают! – кричали и плакали женщины.
Несколько человек, поспешно удирая, осыпали меня проклятиями.
Мне хотелось протянуть, как заградительную цепь, мой красный шарф и пресечь дорогу панике. Но нельзя остановить обезумевших, будь то на улице Бюсси или у Версальских ворот.
Хозяйка молочной, в трудные времена отпускавшая мне в кредит порцию риса за четыре су и на три су шоколаду, уцепилась за меня, испуская отчаянные вопли:
– Нет, вы не позволите поджечь квартал! Ведь вы порядочный человек! Выступите же с вашим батальоном против поджигателей!..
На одну минуту я был задержан ею и другими, стариками и детьми, кучкой человек в двадцать: они рыдали и ломали руки, спрашивая, куда им деваться, причитали, что все погибло...
Наконец мне удалось вырваться от них. Я кинулся в первый переулок и снял свой шарф.
Я знаю по дороге, на улице Казимира Делавинь, читальню, куда в течение десяти лет ходил заниматься и читать газеты. Я могу зайти туда, и у меня будет две-три минуты времени, чтобы взвесить в своем сознании этот пожар.
Я постучал.
– Войдите!
Мне хотелось бы хоть на минуту остаться наедине с самим собой... Едва ли это удастся.
Присутствующие умоляют меня отказаться от борьбы.
– Ведь это – беспощадная бойня... может быть, страшные пытки, если вы будете упорствовать.
– Я и сам отлично знаю это, черт возьми!
– Подумайте о вашей матери: ваша смерть убьет ее...
Ах, негодяи! Они знали, куда ударить... И вот, как последний трус, я забываю охваченную огнем улицу, свою роль и свой долг. Все существо мое переполняется воспоминаниями о родной стороне, и я вижу так ясно, как будто она вошла сюда, женщину во вдовьем платье и белом тюлевом чепце. Ее большие черные глаза впились в меня безумным взглядом; сухие пожелтевшие руки протянуты ко мне с невыразимой скорбью.
Залп!
Мимо окон пробегают несколько федератов и бросают ружья на мостовую.
– Смотрите!.. Они бегут!
– Да, они бегут. Но я, я не имею права бежать... Прошу вас, оставьте меня. Я должен сам обдумать все это.
………………………….
Все обдумано. Я остаюсь с теми, кто стреляет и кто будет расстрелян!
Что там болтали эти растерявшиеся женщины, будто «все погибло»? Ну, облили два-три здания керосином... Подумаешь!
Все наши школьные книги, рассказывавшие о доблестном Риме или о непобедимой Спарте, были, насколько я помню, полны пожаров. Победоносные полководцы приветствовали огонь пожаров, как восходящую зарю, а осажденные устраивали их, чтобы быть прославленными историей... Мои последние классные сочинения были посвящены героическому сопротивлению... разрушенной Нуманции, обращенного в пепел Карфагена, пылающей Сарагоссы.
А капитан Файяр, получивший орден за поход в Россию? Разве не обнажал он голову каждый раз, когда говорил о Кремле, который «эти русские» зажгли, как пунш! «Ну и молодцы!», – приговаривал он, покручивая ус.
А разграбленный и спаленный Пфальц? А сотни других уголков мира, сожженных во имя королей или республик, во имя иудейского или христианского бога?
А гроты Заача?..[201]201
Гроты Заача – оазис в Алжире, близ которого был расположен арабский городок, разрушенный французскими войсками во время национально-освободительного восстания арабов.
[Закрыть] И разве герцог Пелиссье, Пелиссье-Малаховский не унес на каблуках своих сапог клочья обгорелой человеческой кожи?
Мы же, насколько я знаю, не загоняли версальцев в погреба, чтобы сжигать их там живьем.
И если я сдался, стал поджигателем, то только после того, как окинул взглядом все прошлое и нашел там предшественников.
Мы обсуждали это сначала вдвоем, Ларошетт и я, оба окончившие школу, затем вчетвером, вдесятером... Все единогласно высказались за огонь.
Один из них так и кипел гневом.
– И эти нищенки смеют требовать пощады для своего скарба, когда идет битва за интересы всех бедняков, когда у сотен артиллеристов горят от огня вражеских пушек уже не рубашки, а их собственная грудь!.. Э, черт побери! Да я сам был богатым десять лет назад, до того как занялся политикой! Разве я не бросил всего этого в огонь?.. А сейчас, когда стратегия отчаявшихся накладывает руку на несколько щепок и кирпичей, – те, из-за кого мы разоряемся, ради кого идем на смерть, смеют бросать нам поперек дороги узлы со своим скарбом?
И он засмеялся как безумный.
– Я понимаю бешенство буржуа, – снова заговорил он, повернувшись в ту сторону, откуда доносилась непрекращающаяся канонада. – При свете нашего факела они увидели блеск непобедимого оружия – оружия, которое нельзя сломить и которое восставшие будут отныне передавать из рук в руки по пути гражданских войн... Что значит это по сравнению вот с тем? – заключил он, отбросив ружье и указывая нам на кровавый дым, покрывший весь квартал красным колпаком.
– Вы как будто говорили, лейтенант, что нужно сжечь часть улицы Вавен?
– Да, два дома; их стены продырявлены версальцами, и оттуда на нас врасплох могут свалиться линейные войска. Вы знаете эти два угловых дома? в том, что справа, есть булочная в нижнем этаже.
Странное совпадение! На первых же порах я наткнулся на труп хлебопека, а сейчас, по моему распоряжению, учинят расправу над мешками муки.
Царство хлеба будет предано огню и мечу. Сгорит молотой пшеницы гораздо больше, чем ее нужно было бы, чтобы прокормить меня за все годы моей голодовки.
– Ну-ка, черкните здесь ваше имя, Вентра!
– Извольте! И можете спалить лишнюю развалину, если понадобится.
Я расписываюсь на чистом бланке.
– Мы были уверены, что вы не станете вилять!
Один из федератов, смеясь, вытащил из кармана старый номер «Крика народа» и ткнул пальцем в строчку: «Если господин Тьер – химик, он поймет...»[202]202
Если господин Тьер – химик... – В одной из статей, помещенной в газете «Крик народа» 16 мая 1871 г., говорилось: «Приняты все меры... чтобы ни один вражеский солдат не вошел в город. Форты могут быть взяты один за другим, крепостные валы могут пасть, но ни один солдат не войдет в город. Если господин Тьер – химик, он поймет нас. Париж решится на все, но не сдастся». Статья эта не была подписана, но впоследствии Валлес утверждал, что автором ее был бланкист Казимир Буи, член редакции газеты «Крик народа». Действительно, Коммуна создала специальную комиссию («научную делегацию»), которой было поручено изыскивать новые технические средства ведения войны, накоплять взрывчатые вещества и т. п. Но комиссия эта не успела сколько-нибудь широко развернуть свою деятельность.
[Закрыть]
– Гм... вы уже тогда думали об этом!
– Нет! И не я написал эту горячую фразу. Я прочитал ее как-то утром в статье одного моего сотрудника. Я нашел ее несколько прямолинейной, но, конечно, и не подумал выдать за опечатку. А версальские газетки не преминули отметить, что сразу узнали мои когти и замашки бандита!
– Да, – заявляет Тотоль, – мы хотим взорвать Пантеон.
Тотоль – батальонный командир и пользуется безграничным авторитетом у бойцов, хотя он и балагурит, как мальчишка; во время осады он с такой дерзостью давал отпор немцам и наставлял им «нос», был так забавен и держался так геройски, что его выбрали единогласно.
Его предложение было встречено восторженным «ура».
– Уж вы-то, во всяком случае, не будете защищать этот памятник, – сказал мне Тотоль. – Памятники для Вентра... подумаешь!.. Да ему наплевать на все эти храмы славы и коробки для великих людей! Не так ли, гражданин?.. Ну-ка, пойдемте, велим народу отойти в сторонку!
Мне стоило большого труда удержать Тотоля и объяснить ему, что, не являясь поклонником памятников, я тем не менее не желаю, чтобы ими пользовались для истребления половины Парижа.
Но они дьявольски упрямы, и, что бы я им ни говорил, гибель Пантеона решена. К стенке Пантеон!
А вместе с ним у стенки могут оказаться и Сент-Этьен-дю-Мон[203]203
Сент-Этьен-дю-Мон – церковь в Париже, расположенная за Пантеоном; построена в XII в.
[Закрыть], и библиотека святой Женевьевы!..
И вот нам, – людям, пользующимся известным уважением, с мэром во главе, нескольким благоразумным командирам да группе более уравновешенных федератов, – пришлось объединиться в группы по четыре-пять человек, чтобы помешать этим горячим головам накинуться на Пантеон, как на какого-нибудь реакционера. Они уже провели вокруг него шнур, пропитанный серой и селитрой и смоченный керосином.
– Ведь, рассчитывая нагнать страху на деревенщину, вы только напугаете наших! Кумушки возведут вас в разбойников, а другие кварталы перебегут к пруссакам... а может быть, и к версальцам.
Пришлось целый час втолковывать им это, наседать на них, читать им наставления.
Необходимо было также возразить и маленькому старичку, упорно почесывавшему череп во все время дискуссии и, наконец, проговорившему кротким голосом:
– По правде говоря, граждане, мне кажется, нам было бы лучше, для чести Коммуны, не прятаться во время взрыва... Самое лучшее, если мы останемся там и взлетим на воздух вместе с солдатами. Я не оратор, граждане, но у меня есть свое суждение... Простите мою робость... я никогда не говорил публично. Но вот я осмелился, и мне кажется, что для первого раза я вношу великолепное предложение. Только поторопимся: если мы будем здесь долго болтать, мы никогда не взорвемся. Никогда! – заключил он с глубоким вздохом.
Он-то и спас осужденного! Его опасения, что мы не успеем разлететься вдребезги, вызвали смех, и на эту тему больше не говорили.
Усыпальница великих людей [204]204
Пантеон.
[Закрыть]
Я здесь с полуночи.
Нас много. Собрались почти все вожаки V и XII округов, не состоящие начальниками частей.
Разделывают окорок, болтают.
– А знаешь, Шоде-то... – говорит мой сосед слева, делая при этом весьма выразительный жест.
Пока что я еще не замешан ни в какую бойню. Мне везет!
Но несколько человек стояли в карауле у Пелажи и рассказывают о казни.
– Как он умер?
– Неплохо.
– А как держали себя жандармы?
– Неважно.
Они закусывают и говорят об этом, как о представлении, где они были зрителями, сами не играя никакой роли.
Утром, когда возобновится перестрелка, они снова пойдут на свои посты, потягиваясь и зевая.
А сейчас, раз считаешь, что поражение неизбежно, – не грех выпить прощальный стаканчик перед тем, как распрощаться с жизнью.
Среда, утро
Появляется Лисбон. Он в полном отчаянии.
– Все наши позиции захвачены. Люди падают духом... необходимо что-то предпринять, остановиться на каком-нибудь решении.
– Что же делать?
– Нужно придумать! Поищем вместе выход, Режер, Семери, ты, я, Лонге...
Лонге и в самом деле с нами; он тоже вернулся в Латинский квартал.
Мы поднялись в кабинет мэра, защелкнули задвижку, чтобы не слышны были наши взволнованные речи, наше совещание in extremis[205]205
В последнюю минуту (лат.).
[Закрыть].
………………………………
Я получил удар в самое сердце, я почувствовал ту мучительную боль, что испытывают обесчещенные...
Начальник легиона считает, как и Лисбон, что защита напрасна; доктор Семери, заведующий перевязочным пунктом, согласен с мнением начальника легиона. Тогда поднимается мэр.
– Мы подпишем приказ сложить оружие!
Мне вспомнился день, когда судили Клюзере.
«Вы не посмеете сказать, что я – предатель!» – воскликнул он, запустив руки в волосы и мотая головой из стороны в сторону, словно увертываясь от пощечин.
И, покачнувшись, он в отчаянии упал на скамью.
Меня охватило такое же отчаяние.
– Сдаться! Неужели вы это сделаете, Лонге? И все вы?
– Да, я это сделаю, – холодно промолвил начальник легиона.
А доктор так и накинулся на меня:
– Вы, что же, хотите завалить квартал трупами и затопить кровью? И вы берете это на себя?..
– Да, я беру на себя право не подписать этого приказа, которого, впрочем, федераты и не послушаются... Я не хочу, чтобы в лагере восставших имя мое было покрыто позором. Не хочу! Само мое присутствие здесь уже делает меня вашим сообщником, и, если вы капитулируете, вам придется убить меня, или я сам должен буду покончить с собой.
– Мы плохо поняли друг друга, – поспешил заметить Режер, испуганный моим волнением.
У Режера, конечно, есть заблуждения, но он не трус.
Семери тоже, по-видимому, успокоился.
Но оба они внушают мне опасение.
– Лонге, бежим разыскивать наших! Где Коммуна?
– В мэрии одиннадцатого округа. Там Делеклюз. Правда, оттуда ничего не исходит, но зато все туда стремится. Вот куда нужно идти!
– Идем!
Вдруг раздается страшный взрыв, от которого разлетаются вдребезги оконные стекла.
Это, наверно, взлетел Люксембург![206]206
Люксембургский дворец.
[Закрыть]
Но Люксембург стоит на месте. Взорвался лишь пороховой погреб... Тотолю хотелось взрыва, и он его устроил.
Я вижу, как он идет, потирая руки.
– Что вы хотите? Иначе я умер бы неудовлетворенным. Впрочем, это ни к чему не повело: там не оказалось ни одного линейца. Сорвалось!
Рядом с ним какой-то человек рвет на себе волосы.
– Ах, почему мы там не остались!
Они в конце концов получат свой Пантеон, этот шут и этот безутешный. Они обезумели от поражения и не остановятся ни перед чем.








