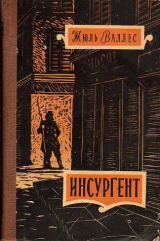
Текст книги "Инсургент"
Автор книги: Жюль Валлес
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
XIV
Брион – Христос, только косоглазый, в шляпе Вараввы. Но в нем нет покорности; он вырывает копье из своего бока и, раздирая до крови руки, ломает терновый венец, оставшийся на его челе, челе бывшего мученика той Голгофы, что зовется Центральной тюрьмой.
Он был приговорен к пяти годам за принадлежность к тайному обществу, но его выпустили на несколько месяцев раньше срока, так как он стал харкать кровью. Вернувшись в Париж без единого су в кармане, он так и не залечил своих легких, но в его изнуренном теле крепко сидит живучая душа Революции.
Проникновенный голос идет из больной груди, как из надтреснутой виолончели. Трагический жест: рука поднята точно для клятвы. Порой его с головы до ног, словно древнюю пифию, потрясает дрожь. Глаза его, похожие на дыры, проткнутые ножом, пронзают закоптелый потолок клубных зал, подобно тому как восторженный взгляд христианского проповедника пронзает своды собора, чтобы устремиться прямо к небу.
Болезни, тюремное заключение не помешали ему заняться изучением великих книг, и он выжал из них весь сок, разжевал самую их сердцевину. Это поддерживает его, как горячая бычья кровь, выпитая прямо на бойне. Он живет своей страстью, – пылкое сердце поддерживает его грудь; из своей болезни он вывел даже целую теорию, и, хотя он не подозревает этого, она является дочерью его страданий и в его устах наводит ужас. «Капитал погиб бы, если б каждое утро колеса его машин не смазывались маслом из человеческой крови и пота. Эти звери из чугуна и стали нуждаются в уходе и наблюдении рабочего».
Ему самому тоже не помешал бы уход за его истекающими кровью бронхами, как не помешали бы его расшатанному организму несколько капель масла, именуемого вином.
Но об этом нечего и мечтать! Он сидит чуть ли не на одном хлебе и воде. Он делает листья к искусственным цветам, а это ремесло сейчас не в ходу. Его орудия производства разрушают остаток его жизни – яд приходит на помощь голоду.
Но другой яд – свет газовых ламп и тяжелые испарения, идущие от массы людей, набившейся в слишком тесных помещениях, – нейтрализует первый: клин вышибается клином. В этой атмосфере Бриона охватывает лихорадка, она электризует его, поднимает над толпой и уносит ввысь.
Как бы то ни было, он живет полной жизнью. Каждый вечер, раздвигая своим красноречием границы настоящего, он за три часа переживает больше, чем иные за целые годы; в своих мечтах он захватывает будущее; больной, он бросает живительные слова легиону рабочих с плечами атлетов и железной грудью, глубоко растроганных при виде того, как этот пролетарий без легких убивает остатки своего здоровья, защищая их права.
Бриона всегда сопровождает товарищ ниже его ростом, одетый в сюртук, какие носят домовладельцы; у него медленная походка, голова всегда немного набок, под мышкой – зонтик.
Он похож – до того, что можно ошибиться, – на человека, который в 1848 году в Нанте поразил меня смелостью своих речей. За эту смелость он поплатился скромной службой, дававшей ему возможность существовать. Его хозяева, задетые и напуганные тем влиянием, какое он приобрел в клубах, дали ему расчет, и он просто, с достоинством, простился с народом.
«Я не могу дольше оставаться среди вас, – сказал он, – я несу крест всех голодающих. Я уезжаю в Париж, там мне, возможно, удастся продать свое время за кусок хлеба... там мне, бедняку, может также представиться случай отдать свою жизнь, если в день восстания потребуется заткнуть собой какую-нибудь брешь».
Несколько времени спустя стало известно, что он принес обещанный дар. Его изрешеченный пулями труп был поднят у подножья баррикады на Пти-Пон – каменной трибуны этого социалиста, загнанного в тупик голодом и нашедшего выход в смерти.
Лефрансе своим желтым задумчивым лицом и глубокими, кроткими глазами напоминает мне этого человека. На первый взгляд кажется, что это смиренный христианин. Но подергивание губ выдает в нем страстность глубоко убежденного человека, а проникновенность голоса – возвышенную душу этого обладателя старомодного зонтика. Горячая, трепетная речь звенит и переливается в порыве гнева; но жесты его просты и скромны, как и его костюм и шляпа, которые ничем не выделяют его из толпы. Его слова не пылают огнем, хотя они и жгут.
Его голова мечтателя почти неподвижна на хилом туловище, стиснутый кулак не потрясает дерево трибуны, своим жестом он не пронзает грудь врага.
Он опирается на книгу, как и в те времена, когда был преподавателем и смотрел за порядком в классе.
Иногда даже в начале его речи кажется, что он дает урок, с линейкой в руках, как настоящий учитель; но стоит ему подойти к сущности вопроса – и он забывает свой педантический тон и становится молотобойцем, выковывающим идеи, которые сверкают и искрятся под ударами его высоко взлетающего молота. Он бьет прямо и сильно. Это самый опасный из трибунов, потому что он сдержан, рассудителен и... желчен.
Желчь народа, огромной толпы с землистыми лицами, проникла в его кровь; она окрашивает его насыщенные фразы, придает его импровизациям звучность медалей из старого золота.
Этот адвокат истекающих кровью страдает революционной желтухой и обладает чувствительностью человека, с которого содрана кожа; уязвленный сам, он язвит других, даже не желая того; он честен и мужествен, и жизнь его так же громко, как и его красноречие, говорит о его убеждениях. Этот Лефрансе – крупнейший оратор социалистической партии.
Дюкас – весь какой-то растопыренный. Он таращит свои круглые глаза; раздвигает острые локти, расставляет заплетающиеся на ходу ноги; широко разевает прорезанный, как щель копилки, рот, откуда вырывается резкий, хриплый голос, звук которого царапает вам не только барабанную перепонку, но и кожу.
– Ты похож на рыжего кота, который пакостит на горячие угли, – сказал ему как-то Дакоста[103]103
Дакоста Гастон-Пьер (род. в 1849 г.) – французский революционер бланкистского направления. В 1870 г. был ближайшим сотрудником Валлеса в газете «Улица» и ее ответственным редактором, за что поплатился длительным тюремным заключением. Был заместителем прокурора Парижской коммуны, вел энергичную борьбу с контрреволюцией. Был приговорен к смертной казни, которая была заменена ему бессрочной каторгой.
[Закрыть].
Он похож также и на кота, царапающего когтями оконные стекла в комнате, где его забыли и где он просидел три дня, изнемогая от голода и бешенства.
Есть что-то двойственное в этом малом с рыжими волосами: он разыгрывает Марата с миной ошеломленного Ласуша[104]104
Ласуш – Букэн де-ла-Суш (1828—1915) – французский комический актер, пользовался большим успехом у зрителей.
[Закрыть], проповедует гильотину с жестом марионетки, подражает интонациям Грассо, говоря о «бессмертных принципах», и восклицает: «Ньюф! Ньюф!» – между двумя тирадами о Конвенте.
Сухой, как палка, руки, как спички, ноги, как веретена, весь словно на тонкой железной проволоке, – он кривляется и бренчит, как связка деревянных паяцев у входа в дешевый магазин. А до чего он был смешон в этой роли свирепого шута за столиком кафе, уставленным кружками пива, которые он прибаутками и угрозами отвоевывал у буфетчика.
– Если ты нальешь с пеной, я тебя повешу! А если не принесешь еще две полных кружки – для меня и гражданки, – тебе отрубят голову, когда наступит революция. Утоли же народную жажду, да поживей!
Несчастный хозяин кафе бежит со всех ног, инстинктивно проводя тыльной стороной руки по затылку.
Ньюф! Ньюф!
Но когда «Ньюф! Ньюф!» выступает на собрании, перед народом, – он напоминает Говорящую голову. Он торжественно подымается по ступенькам эстрады, вращая зрачками, хмуря брови; три волоска его шафранной бородки воинственно торчат вперед. На нем узкий сюртучишко, из которого выпирают его острые кости, и панталоны цвета жженого трута, штопором спадающие на женские ботинки из серого тика. Но его ноги недоноска так малы и сухи, что болтаются и в этих ботинках.
Он прижимает к себе портфель, напоминающий портфель чиновника или учителя городской школы. От долгого пользования черная кожа покрылась белыми пятнами, но тем не менее народ относится к этому портфелю с большим уважением.
Как будто в нем лежат наказы революции, постановление об ограничении богачей, смертный приговор спекулянтам и объявления для наклейки на дверях Комитета общественного спасения.
Этот портфель создал ему репутацию сурового труженика, поглощенного своей работой социалистического монаха или методичного террориста. И когда его маленькая фигурка появляется на трибуне и он медленно-медленно раскрывает свою кожаную папку, чтобы достать из нее какую-то заметку, а потом, гнусавя, читает ее, как читает священник стих из евангелия, который он собирается толковать, – среди собравшихся проносится шепот: «Тсс!..» Сморкаются потихоньку, как в церкви перед началом проповеди, и правоверные, убежденные, что «все должно быть, как в 1793 году», благоговейно слушают его, косо поглядывая на соседей, подозреваемых в модерантизме.
– Вот этот без колебаний отдаст приказ рубить головы!
Это сказано нарочно для меня... для меня, который, пожалуй, призадумался бы над этим. В зале Денуайе за мной установилась репутация человека, который не стал бы действовать так, как «наши отцы», отступил бы перед крайними мерами и после третьей жертвы предложил бы палачу пойти закусить и выпить.
Но Дюкас поступил бы, как «наши отцы», и, чтобы не пропадало даром время, собственноручно принес бы завтрак на эшафот.
– Да, граждане, только в тот день я по-настоящему исполню свой гражданский долг и сочту себя достойным высокого звания революционера, когда по моему указанию сделают «чик-чик» какому-нибудь аристократу.
И он издает это «чик-чик», сопровождая его сначала жестом забавника-полишинеля, – народу нравятся дерзкие и смешные гримасы, – а затем повторяет это движение с торжественностью исполнителя приговора над Стюартом или Капетом, который обнажает шпагу, опускает ее на королевскую шею и отсекает голову, дотоле священную и неприкосновенную.
Его слова точно лижут нож гильотины, и он оттачивает лезвие на оселке своего жестокого и бичующего красноречия. Как обезьянка, цепляющаяся хвостом за веревку колокола, он хватается, смеясь, за веревку палача.
11 часов вечера
Ну конечно, сказано все, что было нужно сказать. Я почувствовал вдруг, что существует еще одна неизвестная партия, минирующая почву под стопами буржуазной республики, и я предугадал близкую грозу. Непоправимые слова вспыхнули под низким потолком, как зарницы в готовом разверзнуться небе.
Депутаты Парижа покинули зал подавленные и униженные, смертельно бледные перед агонией своей популярности.
XV
10 января 1870 г. [105]105
10 января 1870 года. – Принц Пьер Бонапарт, двоюродный брат Наполеона III, поместил в одной газете оскорбительное для корсиканских демократов и социалистов письмо, советуя «истреблять их, как вредных животных». Один из сотрудников газеты «Марсельеза» Паскаль Груссе, будучи корсиканцем, счел себя оскорбленным и послал Пьеру Бонапарту вызов на дуэль через двух своих товарищей по редакции: В. Нуара и Фонвьеля. Принц спросил Нуара, солидарен ли он с этой «сволочью», то есть редакцией «Марсельезы». Получив ответ: «Мы солидарны с нашими товарищами», – он убил молодого журналиста выстрелом из пистолета. Известие об этом подлом убийстве вызвало в Париже всеобщее негодование. В похоронах Виктора Нуара 12 января 1870 г. приняло участие свыше двухсот тысяч человек. Ни одна из парижских организаций не имела в этот момент определенного плана действий, массы были не подготовлены к восстанию и не имели оружия. Энгельс писал 1 февраля 1870 г. Марксу: «Истинное счастье, что... на похоронах Нуара не вспыхнуло восстание». Правительство располагало 60-тысячной армией и, как замечает Энгельс, «в полчаса вся эта безоружная толпа (несколько револьверов, которые могли находиться у некоторых в карманах, считать не приходится) была бы рассеяна, изрублена или взята в плен» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXIV, стр. 285).
[Закрыть]
Мы в библиотеке Ришелье.
– Хороши шутки! Ходят слухи, будто Пьер Бонапарт убил своего портного, – говорит хриплым голосом человек в очках, с длинным носом, густой бородой и насмешливым ртом. Зовут его Риго[106]106
Риго Рауль (1846—1871) – французский революционер, бланкист, сотрудничал в ряде демократических газет и не раз судился за резкие статьи против религии и церкви и за восхваление Парижской коммуны 1793—1794 гг. Член Парижской коммуны 1871 г., был ее делегатом общественной безопасности, а затем прокурором. Стоял за решительные меры против контрреволюционеров. Захваченный версальцами, был 24 мая без суда расстрелян на улице.
[Закрыть].
– Вот это замечательно! Бонапарт – под арестом, и портные не смеют больше требовать уплаты по их «маленькому счетику»... Впрочем, шутки в сторону! Надо узнать, правда ли это, и тогда уж действовать.
– Кто сообщил тебе эту новость?
– Бывший сыщик, уволенный за что-то; он доставляет нам теперь заметки; как бишь его?.. ну, тот, кому заказана книга, разоблачающая префектуру... Ты идешь в «Марсельезу»?[107]107
«Марсельеза» – газета, выходившая с декабря 1869 г. под общей редакцией Рошфора. Хотя главный редактор был буржуазным радикалом, газета была близка к парижской федерации Интернационала. Наряду с левыми республиканцами в ней сотрудничали почти все видные французские социалисты того времени. Газета уделяла много внимания рабочему движению.
[Закрыть]
– Бегу!
По дороге к нам присоединяются товарищи.
– Убит вовсе не портной... а один из ваших...
– Кто-нибудь из сотрудников?..
– Да, убит наповал! Идемте все на улицу Абукир.
– А знаешь, Вентра, это, конечно, большое несчастье для нашего приятеля, но зато как хорошо это, черт возьми, для социальной революции.
Будет хорошо. Почин действительно сделал один из наших – Виктор Нуар.
– По-видимому, негодяй всадил ему пулю в грудь, но говорят, что он еще жив.
– Жив?.. Кто идет со мной?
– Куда?
– К Бонапарту!.. В Отейль, в Пасси, я и сам не знаю... словом, туда, куда сегодня утром отправился Нуар... Абенек, дайте нам сто франков.
– Нужны не только деньги, но и оружие! – кричат Эмбер и Марото.
Абенек, секретарь редакции, не особенно одобряет нас.
– Нате, вот пятьдесят франков. Возьмите извозчика, поезжайте туда скорее... Но зачем оружие? Достаточно одной жертвы. Вы можете все погубить, осложнить положение... Оставьте убийство на ответственности убийцы!
– Не оставить ли ему и убитого?
– Кто едет в Отейль, занимайте места!
Мы богаты: пятьдесят серебряных кругляков да десять свинцовых.
Извозчичья карета едва плетется. Спускается вечер... на набережной свежеет.
– Где вы велели остановиться? – спрашивает извозчик. Он забыл уже, куда его нанимали, и с беспокойством всматривается в печальную даль.
Мы назвали ему какой-то выдуманный адрес, указывающий только нужное направление.
– Вам скажут, когда выедете за заставу.
Приехали.
Никаких следов разыгравшейся здесь драмы. Мы опрашиваем одного за другим редких прохожих. Они ничего не знают...
– Где дом принца Пьера?
– Здесь!.. Нет!.. Дальше!..
Наконец замечаем красный фонарь: полицейский участок.
Нечего долго раздумывать, войдем!
– Милостивый государь, мы – сотрудники «Марсельезы». Говорят, что Виктор Нуар...
– Ранен... Да, сударь.
– Опасно ранен?
Он безнадежно разводит руками и исчезает.
Нуар перенесен к своему брату на тихую, мирную улицу в Нейи. Несколько деревьев простирают свои черные обнаженные ветви над новыми домами, от которых веет спокойствием и пахнет известью.
Переулок Массена; это здесь.
К нам выходит старший брат. Наши взгляды спрашивают, его молчание служит нам ответом.
Не говоря ни слова, он вводит нас в окутанную сумерками комнату, где находится покойник.
Он лежит, вытянувшись на нераскрытой постели, его лицо чуть ли не улыбается. Точно большой спящий ребенок. Руки еще в лайковых перчатках, что делает его похожим также и на шафера, прилегшего отдохнуть, пока свадебные гости веселятся в саду.
На нем кашемировые панталоны, купленные в «Белль-жардиньере» для торжественных случаев, – он любил пощеголять; манишка сорочки облегает без единой морщинки его широкую грудь, но в одном месте на ней виднеется синее пятно. Это пятно оставила пуля, проникая в сердце.
– Скажите, агония была страшная?
– Нет, но нужно устроить страшные похороны.
С наших пересохших от волнения губ срываются торопливые, пылкие слова.
– А что, если мы возьмем его с собой?.. Будет, как в феврале...[108]108
Как в феврале. – 23 февраля 1848 г. в Париже на бульваре Капуцинок правительственные войска без всякого предупреждения расстреляли мирную народную демонстрацию. Было убито свыше пятидесяти человек. Когда по улицам Парижа на повозках провозили трупы убитых и сопровождавшие их группы рабочих призывали к мести, толпа отвечала единодушным криком: «К оружию!» Это событие послужило толчком к усилению революционной борьбы, которая в ночь на 24 февраля приняла огромный размах.
[Закрыть] Посадим его на телегу, как тех, расстрелянных на бульваре Капуцинов, и будем ездить по улицам, призывая к оружию...
– Вот это так!
Наши голоса сдавлены рыданием, но тон решителен.
– Захочет ли извозчик везти покойника?
– Он ни о чем не догадается. Мы натянем на него пальто, вынесем его, как больного; спустившись с лестницы, надвинем ему пониже шляпу и внесем в экипаж...
Даже Луи не колеблется и отдает в наше распоряжение своего младшего брата.
Но вдруг нас охватывает страх.
– Не можем же мы вчетвером поднять народ!
И на горе революции мы оказались слишком скромными, – а может быть, просто трусами!
Мы выпустили козырь из рук, не рискнули на эту кровавую ставку.
Мы отправились обратно в город
Смеркалось... И когда мы высунулись из дверцы кареты, чтобы взглянуть еще раз на дом, где лежал наш друг, нам показалось, что он сидит, облокотившись на окно, и смотрит на нас широко раскрытыми глазами.
Это брат его подставлял вечернему ветру свой влажный лоб и покрасневшие веки.
Нам сдавило горло. Они были похожи друг на друга как две капли крови.
В редакции «Марсельезы»
Париж уже знает о преступлении.
Сотрудники безотлучно дежурят в редакции, куда со всех сторон стекаются республиканцы.
Приходит Фонвьель в продырявленном пальто, – пуля пробила ему новую петлицу. Он рассказывает, что видел, как был вытащен из кармана пистолет и наведен на Нуара, как попала в него пуля и он побежал, смертельно раненный, судорожно сжимая руками шляпу.
– А вы? – спрашивают нас.
Мы рассказываем о нашей поездке, о возникшей у нас идее.
– Но где бы вы его положили?
– Здесь!.. – В предместье!.. – У Рошфора! Его жилище неприкосновенно.
Это положение страстно защищается.
– Как депутат он имеет право прогнать ударом шпаги или выстрелом из ружья всякого, кто осмелится перешагнуть его порог. И кто знает? Улица Прованс не так уж далеко от Тюильри!..
А я, я хотел бы даже, чтобы Виктор Нуар лежал сегодня ночью на нашем рабочем столе, как на плитах морга, и чтобы любимцы народа, – будь они в сюртуке или рабочей блузе, – стояли в карауле возле убитого.
– Но для этого надо, чтобы он был здесь.
– Так едем за ним!
Но произнесены уже роковые для революции слова: «Слишком поздно».
За тем домом, конечно, следят, он окружен теперь.
Мы действовали, как настоящие журналисты...
А между тем представлялся такой прекрасный случай!..
Разве можно во время гражданской войны давать остывать мужеству и смелости! И тот, кто готов бесстрашно поставить на карту свою жизнь, – разве не имеет он права воздвигнуть баррикаду так, как находит это нужным, и отдать ее под команду мертвеца, – если убитый внушает больше страха, чем живой.
Он был гигантского роста и с такой огромной головой, что потребовалось бы по крайней мере двадцать пуль, чтобы раскрошить ее на его геркулесовских плечах.
А пока что – Париж волнуется. В Бельвилле собрание. Большой зал Фоли-Бержер полон негодующего народа.
Над эстрадой траурное полотнище, и под сенью этого лоскута раздаются взрывы ярости против убийцы, назначается боевая встреча у гроба убитого.
«Пора положить этому конец!»
Еще одна фраза, брошенная некогда, в трагические часы, – слова, подобранные в глубинах истории, выкопанные на кладбище инсургентов прошлого, чтобы стать девизом инсургентов завтрашнего дня.
И всюду женщины. – Это знаменательно.
Когда вмешиваются женщины, когда жена сама подталкивает мужа, когда хозяйка срывает черное знамя, развевающееся над ее котелком, чтобы водрузить его на баррикаде, – это значит, что солнце взойдет над охваченным восстанием городом.
12 января
Мы все должны встретиться на похоронах.
Только надо, чтобы похоронная процессия двинулась из редакции «Марсельезы»; чтобы сбор состоялся на той улице, где помещается газета; чтобы взбудораженный квартал наводнили возмущенные демонстранты и чтобы они не двигались в путь, пока не соберутся тысячи.
Кто знает, быть может, этот людской поток увлек бы за собой полки и артиллерию, затопил бы пороховые погреба империи и унес бы Наполеонов, точно какую-то падаль?
Все может быть!
У Одеона
Шествием руководит Риго; как сержант, распекающий рекрутов, как овчарка, собирающая стадо, он выравнивает одних, лает на других.
– По четверо, сомкнутыми рядами! Держитесь строя, черт возьми!..
Раздаются суровые слова:
– Кто с пистолетами – вперед!
И тут же шутливые:
– Трусы в середину!
В хвосте идут те, кто вооружен только циркулями, ланцетами, ножами с металлическими ручками, – последние, впрочем, могут нанести ужасные раны, – полосами стали или железа, спрятанными под рабочими блузами... Ведь в этой колонне Латинского квартала полно рабочих.
Они были соседями студентов и стали их товарищами по тайному обществу «Ренессанс»[109]109
«Ренессанс». – В кафе «Ренессанс» в Париже происходили встречи революционных студентов с рабочими. В 1866 г. здесь состоялось собрание, на котором делегаты Женевского конгресса I Интернационала должны были представить отчет. Под конец собрания нагрянула полиция и арестовала присутствующих. В январе 1867 г. все они были осуждены за «участие в тайном сообществе»: в руках судей список подписчиков бланкистского органа «Кандид» превратился в список членов подпольного общества.
[Закрыть] или по какому-нибудь другому, раскрытому и преследуемому. Они входили в состав социалистических комитетов наряду со сторонниками кандидатур Рошфора и Кантагреля; пили вместе с ними кофе с коньяком в дни выборов, питались хлебом из отрубей в Мазасе.
Риго более уверен в этих ребятах из мастерских, чем в учащейся молодежи. Вот почему он поместил их в арьергарде. Они пинками будут подталкивать центр; пырнут тех, кто попытается бежать.
Рассказывая мне это, он не перестает нюхать табак. Его подбородок испачкан, жилет весь замусолен, ноздри обожжены. Но лицо и взгляд его сияют гордостью.
Он поскрипывает своей табакеркой, точно Робер-Макер[110]110
Робер-Макер – герой мелодрамы Антье, Сен-Амана и Полианта «Постоялый двор Адре», тип дерзкого плута и бандита. Стал собирательным образом для обозначения преступности правящих кругов французской буржуазной монархии 1830—1848 гг. «Робер-Макером на троне» называли в оппозиционных памфлетах Луи-Филиппа.
[Закрыть], но он заставляет меня также – этакий мошенник! – вспомнить и Наполеона, который достает щепотку табаку из жилетного кармана, не переставая диктовать план битвы.
Что и говорить, в нем что-то есть!
Когда он поглаживает револьвер и с таким видом, словно треплет щечку ребенка, приговаривает: «Спи, мое дитятко, спи»,б– а вслед за тем, задорно грозя ему пальцем, прибавляет: «Придется-таки тебе проснуться, постреленок, и поплевать на сипаев»[111]111
Сипаи – туземные войска в Индии, находившиеся на английской службе. В данном случае имеются в виду французские правительственные войска.
[Закрыть], – это успокаивает центр, не допускающий, чтобы можно было так шутить перед лицом настоящей опасности.
Нельзя сказать, чтобы это не нравилось и решительным людям. Они чувствуют, что этот бородатый весельчак в очках одинаково хорошо будет осыпать солдат как пулями, так и бранью и подставит грудь или покажет им свой зад, проявит себя героем или насмешником в зависимости от того, примет ли дело трагический оборот, или выльется в фарс.
По дороге
– Вперед!
В первом ряду выступают пять или шесть молодых людей в пенсне, рассудительных с виду.
Из всей толпы только у одного Риго легкомысленный вид. Да и он, может быть, казался бы серьезнее, если б нарочно не взъерошил волос, не говорил хриплым голосом и если бы для выражения своей точки зрения на духовенство, аристократию, магистратуру, армию и Сорбонну он не усвоил жеста собачонки, которая, подняв заднюю лапку, бесчестит какой-нибудь памятник.
Брейле, Гранже, Дакоста похожи на ученых, испортивших себе глаза над книгами.
Постоянные участники демонстраций недоумевают, почему эти «очкастые» разыгрывают из себя начальников.
Они не напоминают ни Сен-Жюста, ни Демулена, ни монтаньяров, ни жирондистов. Притом некоторые слышат, как они называют дураками и предателями «депутатишек» левой.
Кто эти люди? – Это сторонники Бланки.
Отовсюду маленькими группами или целыми батальонами, как мы, Париж направляется в Нейи. Идут стройными рядами, если собираются человек сто, или взявшись за руки, если сходятся всего четверо.
Это – куски армии, стремящиеся соединиться, лоскутья республики, которые снова склеиваются кровью убитого Нуара. Это зверь, которого Прюдом называет гидрой анархии; он поднимает свои тысячи голов, спаянных с туловищем одной и той же идеей, и в глубине его тысяч орбит сверкают раскаленные угли гнева.
Языки не издают свиста; красный лоскут не шевелится. Нечего говорить друг другу, – все знают, чего они хотят.
Сердца переполнены жаждой борьбы, – переполнены также и карманы.
Если обыскать эту громадную толпу, у нее нашли бы всевозможные наборы инструментов и всякие кухонные принадлежности: ножи, сверла, резаки, клинки, воткнутые в пробки, но готовые каждую минуту освободиться от них, чтобы проткнуть шкуру какого-нибудь шпика. Только бы он попался... с ним уж расправятся!
И пусть берегутся полицейские крючки. Если они обнажат сабли, мы зазубрим орудия труда об их орудия убийства.
Для белоручек тоже нашлось дело, и дорогие, изящные пистолеты становятся влажными в разгоряченных, затянутых в перчатки руках.
Порой заостренная, как кинжал, мордочка какого-нибудь из этих инструментов или пасть одного из револьверов выглядывают из-под пальто или из-под плохо застегнутого сюртука. Но никто не обращает на это внимания. Напротив, даже дают понять с гордой улыбкой, что они тоже могут и хотят ответить как следует не только полиции, но и войскам.
Но безмолвствует полиция... Невидимы войска...
Это заставляет меня призадуматься. А вдруг в нас начнут сейчас стрелять откуда-нибудь сбоку, из дома с запертыми дверями и закрытыми ставнями, при первом же крике против империи, вырвавшемся у какого-нибудь пламенного республиканца или брошенном провокатором?
– Тем лучше! – говорит мой сосед, похожий на карбонария. – Буржуазия выползла из своих лавок и примкнула к народу. Теперь она – наша пленница, и мы будем держать ее перед жерлами пушек до тех пор, пока ее не распотрошат, как нас. Тогда она взвоет от боли и первая подаст сигнал к восстанию. Нам останется только ловко овладеть движением и перестрелять всю банду: буржуа и бонапартистов!
Серьезное лицо обращено в нашу сторону, сморщенная рука опускается на мое плечо. Это – Мабилль. Он пришел как раз вовремя, чтобы услышать теорию избиения этого алгебраиста, – теорию, которую он вполне одобряет, кивая своей седой головой.
Я спрашиваю его, вооружен ли он.
– Нет. Лучше будет, если меня убьют безоружного. Сентиментальные люди наговорят много громких и красивых слов о беззащитном старике, убитом пьяными солдатами. Это будет очень хорошо, поверьте мне!.. Ах, если б только пролилась кровь, – закончил он, и его голубые глаза светились кротостью.
– Нам стоит только выстрелить первыми.
– Нет! Нет! Пусть начнут шаспо![112]112
Шаспо – система ружья, введенная в 1866 г. во французской армии.
[Закрыть]
Пассаж Массена
Риго, я и еще несколько человек прошли сквозь расступившуюся перед нами толпу.
Она не горда и не обижается, когда ее обгоняют. В часы великих решений она любит, чтобы ее возглавляли живые лозунги, известные ей личности, с именем которых связана определенная программа.
Что происходит?
Какой-то колосс, взобравшись на соломенный стул, словами и кулаками защищает входную решетку от авангарда кортежа.
Это – старший Нуар, тот, что накануне соглашался выдать еще теплое тело своего брата, чтобы зажечь восстание.
Он остыл вместе с покойником.
И сегодня он отказывается выдать гроб Флурансу;[113]113
Флуранс Гюстав (1838—1871) – французский политический деятель, публицист и ученый, близкий к бланкизму; за свои республиканские убеждения и материалистические взгляды был лишен профессорской кафедры; принимал участие в восстании греков против турецкого гнета на острове Крит. В 1868 г. вернулся в Париж. В 1870 г., после неудачной попытки поднять восстание в Бельвилле, уехал в Лондон, где познакомился с Марксом и вступил в Интернационал. Участвовал в восстании 31 октября 1870 г. против «Правительства национальной обороны». Был избран членом Парижской коммуны и вошел в состав ее Военной комиссии. Во время похода отрядов национальной гвардии на Версаль (3—4 апреля) был захвачен версальцами и зверски убит.
[Закрыть] бледный, с горящими глазами, тот требует его для нужд революции, с тем чтобы погребальная процессия прошла через весь Париж, – потому что дышлом похоронных дрог можно будет, как тараном, украшенным мертвой головой, пробить брешь в стенах Тюильри.
Эти стены могут рухнуть еще до наступления ночи, если не упустить случай и повернуть в сторону Пер-Лашеза[114]114
Пер-Лашез – кладбище, находящееся почти на окраине Парижа, в противоположной от Нейи стороне.
[Закрыть] лошадей процессии, стоящих головой по направлению к кладбищу Нейи.
– Как вы думаете, господин Вентра, будут сражаться?
Я не знаю того, кто ко мне обращается.
Он называет себя.
– Я Шарль Гюго... Вы не в ладах с моим отцом (литературные разногласия!), но зато, мне кажется, вы хороши с наиболее энергичными из этих людей. Не могли бы вы оказать мне услугу собрата и устроить меня в первых рядах? Вам это будет совсем не трудно, – ведь вы немножко командуете всей этой толпой...
– Вы ошибаетесь, здесь никто не командует. Даже Рошфора и Делеклюза[115]115
Делеклюз Луи-Шарль (1809—1871) – французский публицист, мелкобуржуазный демократ, участник революции 1848 г. Много лет провел в тюрьме и в ссылке. Был членом Коммуны, ее Исполнительной комиссии, а в последний период ее военным делегатом. 25 мая был убит на баррикаде.
[Закрыть], может быть, сметет сейчас эта людская волна, если вдруг в словах какого-нибудь уличного оратора блеснет ослепляющая молния или просто в этом пасмурном небе неожиданно вспыхнет сноп солнечных лучей... Впрочем, посмотрю...
Что посмотрю? Кого посмотрю?
– Вы за Париж или за Нейи? – спрашивает Брион, хватая меня за рукав; глаза его горят, голос срывается.
– Я за то, чего захочет народ.
Авеню Нейи
Народ не захотел битвы, несмотря на отчаянные мольбы Флуранса и настойчивость нескольких героических натур, которые, пытаясь зажечь этот народ, схватили за узду траурных кляч.
– Редакция «Улицы», вперед! – призывали революционные отряды.
– Не водите этих людей на убой, Вентра!
Неужели вы думаете, что можно кого-нибудь повести на убой, предписать массам быть храбрыми или малодушными?
Они несут в самих себе свою скрытую волю, и красноречие всего мира бессильно здесь!
Говорят, что восстание вспыхивает тогда, когда к нему призывают вожди.
Неправда!
Двести тысяч человек, жаждущих битвы, не послушают командиров, если те крикнут им: «Не ходите в бой!» Они перешагнут через трупы офицеров, если те встанут им поперек дороги, и по их изувеченным телам бросятся в атаку.
Один только Мабилль был прав. Если б какое-то чудо двинуло войска без провокации, если б по чьему-то безрассудному приказу явился полк солдат и затеял перестрелку вокруг этого дома, – о, тогда народным трибунам достаточно было б сказать одно слово, подать сигнал, и знамя Республики взвилось бы над баррикадами, пусть даже ему суждено было быть изодранным картечью и покрыть своими клочьями тысячи трупов.
Но ни у народа, ни у правительства империи нет особого желания встретиться и дойти до рукопашной у могилы какого-то убитого журналиста, – место не подходящее для победы солдат и слишком тесное, чтобы развернуть на нем знамя социальных идей.
Кто-то подошел и отозвал меня от моей группы.
– Рошфор близок к обмороку. Пойдите взгляните, что с ним... вырвите у него последнее распоряжение.
Я нашел его, бледного как смерть, за перегородкой какой-то бакалейной лавчонки.
– Только не в Париж, – проговорил он содрогаясь.
На улице ждали его ответа. Я взобрался на табурет и передал то, что мне было сказано.
– Но вы-то, – крикнул мне Флуранс, – вы-то, Вентра, разве вы не с нами?
Возбужденный, с пылающим взором, почти прекрасный в своем отчаянии, он подбегает и чуть ли не набрасывается на меня.
– С вами ли я? Да, если с вами народ.
– Народ решился!.. Смотрите, похоронные дроги двигаются в нашу сторону.
– Ну что ж, идем им навстречу.
– В добрый час! Спасибо и вперед!
Флуранс пожимает мне руку и обгоняет нас. В нем живет вера и сила святого. Он раздвигает толпу своими костлявыми плечами, как рассекает волны океана пловец, спеша на помощь к утопающему.
Вдруг позади начинается волнение, раздаются крики...
Это Рошфор догоняет нас в экипаже. – Что случилось?
В воздухе прозвучал новый призыв:
– В Законодательный корпус!
Я хватаюсь за эту мысль, также и Рошфор.
– В Законодательный корпус! Решено.
Фиакр, направлявшийся к кладбищу, круто поворачивает и едет в сторону Парижа.
Я сел рядом с Рошфором; также и Груссе. И вот, молчаливые и задумчивые, мы катимся неизвестно куда.
Потихоньку, про себя, я думаю, что если нам удастся добраться до Палаты, она будет захлестнута толпой и нам придется присутствовать при новом 15 мая[116]116
15 мая – В этот день (15 мая 1848 г.) в Париже состоялась демонстрация ста пятидесяти тысяч человек, в большинстве своем рабочих, поводом к которой послужило восстание поляков в Познани. Демонстранты ворвались в зал заседаний Учредительного собрания с возгласами: «Организация труда! Налог на богатых! Да здравствует Польша!» Бланки потребовал следствия и суда над виновниками резни рабочих в Руане (27—28 апреля), решительных мер по борьбе с нищетой масс, предоставления работы и хлеба безработным, оказания военной помощи восставшим полякам. Учредительное собрание, депутаты которого разбежались, было объявлено распущенным, и народ приступил к созданию нового правительства, составленного из революционных демократов и социалистов. Но это новое правительство еще не успело сформироваться, как безоружная демонстрация была рассеяна буржуазными батальонами национальной гвардии. Бланки, Барбес и другие революционные деятели были арестованы и приговорены к многолетнему тюремному заключению; революционные клубы были закрыты; 16 мая прекратила свое существование Люксембургская комиссия по рабочему вопросу.
[Закрыть], совершенном двумястами тысяч людей, четвертую часть которых составляют буржуа.
Да, их действительно тысяч двести!
Высовывая голову из экипажа, мы видим, что шоссе запружено народом и волнуется, точно русло бурлящего потока.
Еще спрятаны пистолеты и ножи, но извлечено уже из тысячи грудей оружие «Марсельезы».
Земля дрожит под ногами толпы, которая точно отбивает такт; а припев гимна взлетает высоко к небу.
– Стоп!
Дорогу нам преграждают солдаты.
Рошфор выходит из экипажа.
– Я – депутат и имею право пройти.
– Нет, вы не пройдете.
Я бросаю взгляд назад. Во всю длину улицы вытянулась процессия, сбившаяся, нестройная. Было уже поздно, все много пели, устали...
День окончен.
Подле меня семенит мелкими шажками маленький старичок; он один, совсем один, но, я вижу, его провожает глазами целая группа, среди которой я узнаю друзей Бланки.
Этот человек, пробирающийся сейчас вдоль стены, пробродил весь день по краям вулкана, всматриваясь, не взовьется ли над толпой пламя восстания – первая вспышка красного знамени.
Этот одинокий маленький старичок – Бланки.
– Что вы здесь делаете?
Я так и прирос к месту, пораженный внезапной тишиной и безлюдьем.
– Вы хотите, чтобы вас схватили, – проговорил художник Лансон, уводя меня прочь.
На площади мы столкнулись с товарищами; измученные, забрызганные грязью, они шлепали по лужам, оставшимся после дождя.
Мы пообедали вместе в какой-то жалкой харчевне.
Некоторым из нас был дан совет не ночевать дома.
Художник увел меня к себе.
Но они не осмелились арестовать ни одного человека, довольные тем, что накануне не произошло никакой стычки.
Дурной симптом для империи! За недостатком солдат она не послала шпиков. Она колеблется, выжидает, ее дни сочтены. У нее тоже пуля в сердце, как и у Виктора Нуара.








