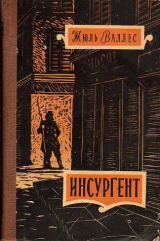
Текст книги "Инсургент"
Автор книги: Жюль Валлес
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
X
Тюрьма Сент-Пелажи
Вчера вечером, перед моим отправлением в Сент-Пелажи, мы с товарищами немножко кутнули.
После того как прихлопнули «Улицу», я написал еще две статьи в других газетах. Эти две «проповеди» стоили мне тюрьмы.
Я вошел в нее слегка навеселе!
Там решили, что я болен, и направили ко мне фельдшера.
Я обозлился. Бунтарю – прибегать к помощи медикаментов!..
– Но, сударь, – заметил этот Диафуарус[57]57
Диафуарус – отец и сын, персонажи комедии Мольера «Мнимый больной», в которой высмеиваются невежество и шарлатанство тогдашних врачей.
[Закрыть], – тут все пичкаются лекарствами. В настоящее время «павильон принцев»[58]58
«Павильон принцев» – восточная камера в парижской тюрьме Сент-Пелажи, служившая местом заключения для лиц, осужденных за «проступки политического характера» на срок не больше года.
[Закрыть] находится в моем распоряжении.
Фельдшер – большой шутник. Он сообщил мне много интересных подробностей.
– Политические заключенные делятся на два лагеря: на тех, что ходят, и тех, что не ходят... вы меня понимаете? Восемьдесят девятый год – еще кое-как, девяносто третий никуда не годится, тысяча восемьсот тридцатый[59]59
Тысяча восемьсот тридцатый... – Перечисляя эти даты, Валлес тем самым называет и участников различных революций во Франции. Восемьдесят девятый – приверженцы принципов первого периода французской буржуазной революции XVIII в. Девяносто третий – сторонники Конвента и якобинской диктатуры 1793 г. Тысяча восемьсот тридцатый – либералы и демократы, сторонники и участники революции 1830 г.
[Закрыть] – ни то ни се. Есть здесь бывший ученик Пьера Леру...[60]60
Леру Пьер (1798—1871) – французский писатель и публицист, республиканец и демократ; был близок к сен-симонизму, затем отошел от него и создал собственную утопическую систему с мистическим уклоном.
[Закрыть] впрочем, нет, больше я вам ничего не скажу...
А он правильно подметил, этот фельдшер попал в самую точку.
Действительно, 93-й никуда не годится.
Каждое утро мимо меня проходит человек, держа, точно священную чашу, белую, чем-то прикрытую урну. Можно подумать, что он идет служить обедню; но он приотворяет потайную дверь, которая тут же плотно за ним закрывается.
Выходит он оттуда так стремительно, что я совершенно теряюсь и едва успеваю кинуть под салфетку беглый взгляд, чтобы рассмотреть сосуд. Но я не обнаруживаю патриархального брюшка – обычной округлости...
В конце концов мне все-таки удалось приподнять завесу.
Таинственная урна есть не что иное, как сосуд интимного назначения, загримированный, чтобы вводить всех в заблуждение, – горшок, принявший вид амфоры. Но он выдает себя... зеленой гуттаперчевой кишкой, убивающей мои последние сомнения. К тому же человек раскрылся передо мной, все показал мне, все рассказал.
– Я ставлю себе одну раз в день вот уже тридцать лет и чувствую себя, как видите, прекрасно.
– Все это так. Но почему вы не поручаете служителю выносить сосуд?
Он выпрямился и гневно уставился на меня.
– Гражданин, в той Республике, которую я хочу, каждый убирает за собой сам. Существуют неприятные работы, как существуют неприятные обязанности.
– Но ведь это же чаша недисциплинированного, кропильница дворянина, – вы поступаете предательски!
– Нет! Я – централизатор по существу и индивидуалист по форме. Пусть у каждого будет патронташ, а уж круглый или овальный – это по выбору.
– А процедура с этой трубкой будет обязательна?
– Не смейтесь, молодой человек, я – ветеран! Вы – новичок и недостаточно еще зрелы, чтобы иметь право взвешивать мои действия.
– Да я и не собираюсь их взвешивать!
Новичок? Недостаточно зрел?.. Недостаточно зрел для такого кальяна, – это верно; и не помешался еще на клистирных трубках, старичок!
Не хочет ли он, чтобы я тоже обзавелся подобным прибором и пользовался им каждое утро по команде, согласно приказу Комитета общественного спасения: «Канониры, к орудиям!»
– Я чист... – повторяет он постоянно.
Еще бы он не был чист после стольких промываний...
– Я твердо стою на своих принципах.
Раз-то в день ему, во всяком случае, приходится присаживаться.
– Наши отцы, эти гиганты...
Что касается моего отца, то он был среднего, скорее даже маленького роста, а деда моего прозвали в деревне Коротышкой. Мои предки не были гигантами.
– Бессмертный Конвент...
– Кучка католиков навыворот!
– Не кощунствуйте!
– А почему бы и нет? Разве я не имею права бросить свой шар, когда ваши боги играют в кегли? Я думал, что вы отстаиваете свободу мыслить, говорить и даже кощунствовать, если бы мне это вздумалось. Быть может, вы прожжете мне язык каленым железом или подвергнете пытке водою, вливая ее в рот вашим орудием... если я не попрошу пощады? Ну нет, этого вы не дождетесь!
Пейра[61]61
Пейра Альфонс (1812—1890) – французский политический деятель и публицист буржуазно-республиканского направления, принимал участие в организации подписки на памятник Бодену, за что был приговорен к тюремному заключению.
[Закрыть] отвечает горькой улыбкой и нахлобучивает на уши шерстяной шлем, вроде тех, что надевают при восхождении на Монблан, – это он-то, уроженец Авентинского холма![62]62
Авентинский холм – один из семи холмов Рима. В конце V в. до н. э. плебеи восстали против господства патрициев и, вооружившись, удалились на этот холм. Примирение состоялось только после того, как патрицианская олигархия согласилась на введение института народных трибунов.
[Закрыть] Ибо он действительно оттуда. Он – настоящий Гракх, этот человек с сосудом, клистирной трубкой и в шапочке с завязками.
Ученику Пьера Леру приходится расплачиваться за своего учителя.
О нем ходит целая легенда.
В каком-то уголке Франции Кантагрель[63]63
Кантагрель Франсуа-Жан (1810—1887) – французский политический деятель и публицист, последователь Фурье. В 1849 г. был приговорен к ссылке. Вернулся в Париж только через десять лет. Во время Коммуны издавал газету «Демократическое единство», в которой выражал сочувствие программе Коммуны.
[Закрыть] состоял в обществе «Circulus»[64]64
Circulus (круг – лат.) – член общества Сиркюлютен.
[Закрыть]. Каждому члену вменялось в обязанность во что бы то ни стало поставлять для общего блага свою долю удобрения. Человеколюбие погубило его: он хотел проявить свое усердие, принял какое-то снадобье, и его так пронесло, что ему пришлось возвращаться в Париж, чтобы постараться приостановить действие лекарства.
– Если б хоть кто-нибудь воспользовался этим! – меланхолически замечает он иногда.
Говорят, он написал Гюго по поводу главы о Камбронне[65]65
Глава о Камбронне.– Несколько глав второй части романа Гюго «Отверженные» посвящены описанию битвы при Ватерлоо (18 июня 1815 г.), где старая наполеоновская гвардия была почти совершенно уничтожена. Последнее каре, которое англичане расстреливали из пушек, продолжало сражаться под командой генерала Камбронна. На предложение английского офицера сдаться, Камбронн, согласно исторической легенде, ответил крепким ругательством.
[Закрыть] в «Отверженных». Гюго ответил ему:
«Брат, есть два идеала: идеал духовный и идеал материальный; стремление души ввысь, падение экскрементов в бездну; нежное щебетанье – вверху, урчание кишок – внизу; и там и здесь – величие. Ваша плодовитость подобна моей. Довольно... поднимитесь, брат!»
– Это я подписался за Гюго и подстроил эту шутку, – признался мне один товарищ по заключению.
Чудаки они все-таки!
Этот сиркюлютен осужден за издание крамольной газетки, как я и предполагал.
Другой – главный редактор республиканской газеты, единственной, которая могла появиться на свет, получить право на жизнь и снискать милость императора. И не то, чтобы издатель ее был льстивым придворным или допустил какую-нибудь подлость, – напротив, он тверд и непреклонен. Но на манер якобинцев; а Наполеон III отлично понимает, что Робеспьер – старший брат Бонапарта и что тот, кто защищает республику во имя власти, является Грибуйлем[66]66
Грибуйль – народное имя, прозвище человека бестолкового, не очень умного.
[Закрыть] империи.
К счастью, я могу уединиться.
Я нахожусь в «Пти-Томбо».
Это – узкая мрачная камера в верхнем этаже тюрьмы. Зато, взобравшись на стол, я могу дотянуться до окна, откуда видны верхушки деревьев и широкая полоса голубого неба.
Целыми часами стою я, прижавшись головой к решетке, вдыхаю свежесть ветра и подставляю лоб под солнечные лучи, приходящиеся на мою долю.
Одиночество не пугает меня. Часто я даже гоню от себя и восемьдесят девятый и девяносто третий, чтобы просто остаться наедине с самим собою и прислушаться к своим мыслям, то забившимся где-нибудь здесь, в уголке камеры, то свободно реющим за железной решеткой.
Заключение совсем не рабство для меня, а свобода.
В этой атмосфере уединения и покоя я всецело принадлежу себе.
Клуб
Но этот покой был внезапно нарушен: в тюрьме освободились места, и меня перевели в новую, лучшую камеру; она была переполнена народом, и я ничего не имел против этого. Мое помещение стало салоном, столовой, фехтовальной залой и клубом тюрьмы.
Чего только не вытворяли там!
Первым по части шума и гама был бесподобный папаша Ланглуа[67]67
Ланглуа Амедей-Жером (1819—1890) – французский политический деятель и публицист, прудонист. За участие в выступлении 13 июня 1849 г. против реакционной политики правительства Луи Бонапарта был приговорен к ссылке. На Базельском конгрессе I Интернационала (в 1869 г.) выступал в защиту института частной собственности. После свержения Второй империи был командиром 106-го батальона национальной гвардии. В феврале 1871 г. был избран депутатом Национального собрания. Поддерживал врагов Коммуны.
[Закрыть], бывший соратник Прудона.
– Черт побери!
– Ах, это вы?.. Какая сегодня погода?
– Погода?
Он стучит по столу, по стульям, свирепо вращает глазами и раздраженно отбрасывает ногой утренние туфли, валяющиеся у кровати.
– Какая погода?.. Отличная!
Это сказано яростным, угрожающим тоном. Его рука словно ищет саблю; он сморкается с таким шумом, как будто разрывается снаряд, а когда он уходит, судорожно сжимая в руках старые газеты, – у него такой вид, точно он спешит с донесением к генералу; иногда он тут же врывается обратно с искаженным лицом.
– В чем дело?
– Там кто-то есть!
Достаточно ему пробыть десять минут, чтобы кавардак стал невообразимым.
Все влезают на стулья, сам он взбирается на ночной столик.
Какие-то невероятные жесты, истерические крики.
Все мы – черт знает что...
Как?.. Я, Вентра, колеблюсь повесить управляющего государственным банком?
– Разве речь идет о том, чтобы его повесить?
– Ну да! А вы только кривляетесь, черт возьми!
Он хочет сегодня же воздвигнуть виселицу для держателя звонкой монеты, который живет только своим бумажником, каналья!
Он изображает казнь. Берет носовой платок, подвешивается на нем на несколько мгновений, в самый напряженный момент издает какой-то звук, рискуя проглотить язык, затем спрыгивает со стола и... снова набрасывается на туфли с бешенством щенка, у которого режутся зубы.
– Да этот человек рехнулся, – говорит Курбе, покуривающий в углу. – Он рассуждает о Прудоне? Я один хорошо знал его. Только мы двое и были готовы в сорок восьмом году. Эй, чего вы там кричите так, черт бы вас побрал!
– Я не кричу, я спокойнее вас, тысяча чертей!
Смешны и несносны эти горластые визитеры, эти заключенные, из которых одни ходят, а другие не ходят, – все эти люди, как-никак получившие образование, все эти воспитанные буржуа.
Иногда рабочий, по имени Толен[68]68
Толен Анри-Луи (1828—1897) – французский социалист, рабочий (гравер и резчик), прудонист. В 1871 г., будучи депутатом Национального собрания, выступал против Коммуны. Был исключен за это из I Интернационала. Валлес сильно преувеличивает его роль и значение в описываемый им период (конец 60-х гг.).
[Закрыть], стыдит их за глупость и дает отпор их мелочным вспышкам. Он серьезнее и осведомленнее их, этот представитель физического труда.
Толен уже завоевал себе имя на публичных собраниях. Он является как бы духовным вождем рабочего класса.
У него узкое лицо, – оно кажется еще длиннее и тоньше благодаря длинной бороде и гладко выбритым щекам, – живой взгляд, выразительный рот, красивый лоб.
Он немножко шепелявит, как и Верморель. Я заметил, что люди, отличающиеся косноязычием Демосфена, невероятно честолюбивы. Но за их детским сюсюканьем скрывается железная энергия людей дела.
Благородная внешность под простым рабочим костюмом.
Я уже видел такую же осанку у одного известного проповедника июньской Варфоломеевской ночи, – у белокурого де Фаллу, который с благодушным жестом и медом на устах спровоцировал страшную бойню.
Может быть, носы их и не одной формы, но в своем представлении я сближаю силуэты этих людей, ибо они кажутся мне очень сходными. В них одно и то же тонкое изящество; та же мягкость речи, тот же ясный взгляд... у этого дворянина и у этого простолюдина.
У него слегка раскачивающаяся походка плебея, но, может быть, это даже умышленно. Если б он захотел, она стала бы плавной, как у дворянина. Сдержанный смех, проницательный взгляд, заостренный профиль и бородка, которую он постоянно покручивает... Мне кажется, что он только о том и думает, как бы выбраться из простой среды и мрака неизвестности. Этот бывший чеканщик, давно забросивший свои орудия производства, терпеливо чеканит орудие своего честолюбия.
– Собираются даже открыть подписку, чтобы дать наточить его инструменты, – так они заржавели! – заметил один шутник из мастерской.
Но если он боится работы, от которой грубеют руки, то не боится одиноких занятий, долгих вечеров наедине с отцами экономической церкви и с отцами социальной революции. Он купил на набережной труды Адама Смита[69]69
Смит Адам (1723—1790) – английский буржуазный экономист.
[Закрыть] и Жана-Батиста Сэя[70]70
Сэй Жан-Батист (1767—1832) – французский буржуазный экономист, проповедник гармонии классовых интересов.
[Закрыть], проданные букинисту каким-нибудь разорившимся буржуа или опустившимся неудачником. Теперь эти книги вместе с четырьмя-пятью томами Прудона лежат на столе идущего в гору ремесленника.
У него есть пробный камень для всяких ценностей – денежных и идейных, он станет ученым, да он уже и теперь ученый. Он – старший мастер в цехе, где фабрикуется рабочая революция.
Он зарабатывает себе на жизнь, служа приказчиком у торговца скобяными товарами; тот очень гордится, что у него работает такой ученый малый.
У этого эмансипированного плебея есть уже приверженцы.
В этом мирке отвлеченных идей есть один представитель физического труда – Перрашон[71]71
Перрашон – французский социалист, рабочий (бронзовщик), член I Интернационала, участник Парижской коммуны.
[Закрыть], неутомимый труженик, не расставшийся со своим верстаком. Он чтит, как бога, того, кто стал обладателем книг и пожирает всю эту премудрость. И он подражает ему, копирует его: так же подстригает бороду и волосы, так же застегивает пальто, так же носит шляпу, заламывая ее на ухо или нахлобучивая на лоб.
Как мне кажется, этот Созий[72]72
Созий – персонаж из комедии Мольера «Амфитрион». Это имя стало нарицательным для обозначения человека, перенимающего лицо, голос и манеры другого.
[Закрыть] является продуктом хитрости моего Фаллу из предместья. Тесемками своего рабочего фартука Перрашон связывает властителя своих дум с народом; иначе тот, пожалуй, с недоверием посматривал бы на его куртку, готовую того и гляди обратиться в сюртук.
Только бы он не перерезал в одно прекрасное утро эту тесьму и не бросил бы блузников, как бросил блузу.
XI
Я задумал написать историю побежденных в Июньские дни. Я разыскал многих из них. Все они очень бедны, но почти все, несмотря на нищету, сохранили свое достоинство. И только некоторые из них, привыкнув к безделью в тюрьмах, взвалили на жен всю тяжесть труда и заботу о прокормлении семьи.
Многие из этих женщин оказались настоящими героинями. Пока отцы были в Дуллане или на каторге, они растили детвору, отказывая себе во всем, лишь бы маленькие граждане не чувствовали ни в чем недостатка; проявляли необычайную изобретательность и мужество в изыскании ремесла, промысла, способа заработать кусок хлеба. И малютки – будущие инсургенты – росли.
Правда, несколько молодых девушек исчезло в том возрасте, когда голубой бант кружит голову, а нищета заставляет дурнеть. Какая скорбь поселяется в мансарде, когда, возвратившись, изгнанник находит там только затасканный и грязный образ ребенка, которого в одно далекое воскресенье он сфотографировал за десять су на ярмарке в окрестностях Парижа. Было чертовски трудно заставить девочку сидеть спокойно; папа должен был по крайней мере раз десять поцеловать ее и просить быть умницей.
И она была ею.
Но вот уже давно она больше не умница, и никто даже не знает, где она находится. Она не решается навестить мать из боязни, что отец набросится на нее.
– Нет, ни за что! – сказала мне одна из них, заливаясь слезами. – Я боюсь, что он расплачется!
Я живу в этом мире блузников и чувствую себя более взволнованным, чем когда-то среди толкователей Conciones[73]73
Conciones – народные собрания в древнем Риме, а также речи, произносившиеся на них. Сборник этих речей служил во французской школе материалом для упражнения в переводе.
[Закрыть] в мире античных героев. Их каски, туники и котурны быстро надоели мне.
Но, общаясь с моими новыми товарищами, посещая простых людей, я вдруг почувствовал презрение и к якобинскому хламу.
Весь этот вздор о девяносто третьем годе производит на меня впечатление кучи изодранных, выцветших лохмотьев, какие приносят тряпичнику дядюшке Гро в его открытую всем ветрам лавчонку на улице Муфтар.
Время от времени дядюшка Гро оказывает мне честь, приглашая к себе обедать, и я счастлив от сознания, что меня, деклассированного, любит и уважает этот человек регулярного труда с корзиной за спиной. Он велит прибавить для гражданина Вентра кусок сала в кипящий котелок, от которого так вкусно пахнет среди отбросов реки Бьевры, и говорит хозяйке:
– Нечего экономить, старуха, была бы только похлебка каждый день.
Затем, обращаясь ко мне:
– Жизнь тяжела, это верно, но нас, рабочих, утешает, что образованные люди, вроде вас, переходят на сторону пролетариев. Кстати, обещайте, что, если когда-нибудь мне придется взяться за ружье, которое вечером двадцать четвертого июня я закопал у Гобеленов, вы придете поесть супу на баррикаду, как пришли сюда. Хорошо?
И жена его отвечает с серьезной улыбкой:
– Да, я уверена, отец, что господин будет заодно с несчастными.
Я указал на кусочек красной фланели, показывающей язык из пасти мешка.
– Мы привяжем его к штыку.
– Ах, молодой человек, ведь вся суть не в Марианне[74]74
Марианна – так называли во Франции демократическую республику.
[Закрыть], а в Социальной[75]75
Социальная – так называли социалистическую республику.
[Закрыть]. Когда мы дождемся ее, из трехцветных знамен можно будет корпию щипать.
Социальная и Марианна – два врага.
Старики Июньских дней 48-го года рассказывали мне, что, когда к ним в тюрьмы бросили участников 13 июня 49-го года[76]76
13 июня 49 года – в этот день (13 июня 1849 г.) партия мелкобуржуазных демократов (они называли себя «новой Горой» – то есть новыми якобинцами) организовала в Париже демонстрацию протеста против отправки французских войск для подавления Римской республики. Демонстрация была разогнана правительственными войсками.
[Закрыть], вновь прибывших встретили неприязненными взглядами и грозными жестами, и с первого же дня их разделила стена. Между головами в одинаковых тюремных колпаках происходили жестокие столкновения, хотя на общих церемониях, на похоронах и в дни разных годовщин у всех в петлицах красовалась неизменная пунцовая иммортель.
Непримиримая ненависть существовала между отдельными партиями, и достаточно было любого предлога, чтобы она вырвалась наружу. Из-за плохо огороженного садика, из-за веточки клубники, выступающей за линию камней, образующих границу, из-за настурции, вытянувшейся по стенке между камер двух противников, – по малейшему поводу бросали друг другу в лицо обвинения в неудачах и ошибках революции.
Я многое узнал в кабачке, принадлежащем бывшему заключенному дулланской тюрьмы; там уцелевшие участники восстания собирались в вечера получки или в дни безработицы. Каждый приходил туда, чтобы высказаться, поделиться впечатлениями о трагических днях, сделать вывод из воспоминаний о зловещей битве.
Лучший говорун этой компании – парень с серыми блестящими и острыми, как сталь, глазами; щеки его точно накрашены, лоб непомерно широк, – как у некоторых актеров, выбривающих его, чтоб придать больше благородства своей наружности, – длинные волосы падают локонами, как у скоморохов и поэтов.
Ему недостает только медного обруча, придерживающего парик акробатов, или венка из бумажных цветов, увенчивающего поэтов на литературных состязаниях.
Никто не сказал бы, что это – бывший столяр, осужденный на вечную каторгу за то, что в своем грубом, повязанном на животе фартуке он искусно возвел на углу Черного рынка баррикаду из камней разобранной мостовой.
Сейчас, когда его ремесло не в ходу, он стал маклером и, если верить ему, понемногу зарабатывает себе на жизнь. Он носит синий сюртук – очень опрятный, но вместе с тем не расстается с картузом.
– Это сохраняет мою шляпу для посещения клиентов, – говорит он. – Да и, кроме того, товарищи, я по-прежнему остаюсь рабочим, странствующим рабочим, вместо того чтобы быть прикрепленным к месту, – вот и вся разница.
– А как Рюо?[77]77
Рюо – был замешан в заговоре 1853 г. на жизнь Наполеона III и приговорен к ссылке. Из полицейских документов, найденных во время Коммуны 1871 г., выяснилось, что он много лет состоял на жалованье у полиции. По распоряжению члена Коммуны и ее делегата общественной безопасности Рауля Риго Рюо был арестован и в последние дни Коммуны расстрелян.
[Закрыть] Давно ты его не видал?
– Нет. Почему ты спрашиваешь?
– Да ты и в самом деле ничего не знаешь: говорят, он был шпиком.
– Поговорим о чем-нибудь другом, друзья, – прервал старый Мабилль. – Все мы оказались бы шпиками, если слушать все, что говорится. Но вот тем, о которых это будет доказано, не мешало бы пустить кровь... чтоб другим было неповадно.
Папаша Мабилль[78]78
Мабилль – французский революционер, участник революции 1830 г.; руководил вооруженной борьбой на одной из баррикад во время Июньского восстания 1848 г.; участник Коммуны 1871 г.
[Закрыть] – бывший чеканщик. Среди притупляющего безделья тюрьмы он утратил сноровку своего ремесла и сделался уличным торговцем.
Но в долгие годы заключения он учился по книгам, которые брал у товарищей из соседних камер. Он много размышлял, спорил, делал выводы. Его высокий, изборожденный морщинами лоб свидетельствует о работе мысли. У этого продавца вееров и абажуров – в зависимости от сезона – лицо философа-бойца. Если б на нем был черный сюртук, люди останавливались бы перед этим высоким стариком, почтительно склоняясь перед его величественной внешностью.
«Что он преподает?» – спрашивали бы субъекты из Сорбонны и Нормальной школы.
Что он преподает?.. Его кафедра передвигается вместе с ним. То это столик в маленьком кабачке, облокотившись на который, он призывает молодежь к восстанию; то это взятая на баррикаде бочка, с высоты которой он обращается с речью к инсургентам.
Многие из этих оборванных, чуть ли не умирающих с голоду людей читали Прудона, изучали Луи Блана[79]79
Блан Луи (1811—1882) – французский историк, публицист и политический деятель, один из теоретиков мелкобуржуазного социализма. Будучи членом Временного правительства 1848 г. и занимая пост председателя комиссии по рабочему вопросу, заседавшей в Люксембургском дворце, он выступал за примирение классов в то самое время, когда буржуазия подготовляла разгром пролетариата. После подавления Июньского восстания эмигрировал в Англию. В 1871 г., будучи депутатом Национального собрания, резко выступал против Коммуны.
[Закрыть].
И страшная вещь: в итоге всех их расчетов, в конце всех их теорий – неизменно как часовой стоит восстание.
– Нужна еще кровь, видите ли!
А зачем?
Почему эти люди, неизвестно чем существующие, с такими ничтожными потребностями, почему они, похожие на старых святых с длинной бородой и кроткими глазами, любящие маленьких детей и великие идеи, – почему подражают они пророкам Израиля и верят в необходимость жертвы и неизбежность гекатомбы?
Как-то на днях, когда восьмилетняя девчурка обрезала себе палец, здоровенный дядя с волосатой грудью упал в обморок. Нужно было видеть, как вся эта «дичь» государственных тюрем бросилась утешать и целовать ребенка. Один смастерил ей куклу из тряпок, другой купил игрушку за су... Это су было отложено на табак, и он не курил весь вечер. Палец завязали тряпкой, волнуясь при этом больше, чем если бы перевязывали рану искалеченного бойца где-нибудь на перекрестке во время уличного боя.
Парень с острыми глазами задумал книгу. Он пишет; я это подозревал.
– Да, я заносил в тетрадь все, что видел в Тулоне. У меня две тетради, вот таких толстых! Я покажу их вам, если вы зайдете ко мне.
Мы условились о дне встречи.
– Вы увидите мою жену, она дочь Порнена, Деревянной Ноги.
Хрупкое, тоненькое, полное благородства создание, грациозное, смертельно печальное... Безграничная грусть выдает неизлечимое, глубоко спрятанное страдание. Преждевременно поседевшие волосы свидетельствуют о пережитом потрясении; какое-то страшное неожиданное открытие посыпало пеплом эту юную голову, заставило поблекнуть нежное лицо, исполосовало его тонкими, как шелковые нити, морщинками.
Она едва ответила на банальное приветствие мужа, а меня встретила почти с неприязнью.
Я заговорил с ней об ее отце, знаменитой Деревянной Ноге, сыгравшем известную роль в истории февральских событий.
– Да, я дочь Порнена. Отец мой был честный человек.
Она повторила это несколько раз: «Честный человек!» И, опустив глаза и прижимая к груди маленькие ручки, отодвинула свой стул из боязни, как показалось мне, чтобы муж не задел ее, разыскивая свою рукопись по всей комнате.
Наконец, хлопнув себя по лбу, он воскликнул:
– Вспомнил: она внизу!
И он пошел крадущимися шагами, сгорбившись, волоча ногу, неуклюже, но глаза его все время сверкали и пронизывали мрак окутанной сумерками комнаты.
Ставни оставались закрытыми; женщина не распахнула их даже тогда, когда мы вошли, как будто не хотела пролить свет на свои слова.
Пока мы оставались наедине, она произнесла только одну фразу:
– Вы участвуете в заговоре вместе с моим мужем?
– Я не заговорщик.
Она ничего не ответила, и мы молча сидели в темноте.
Он вернулся со своими тетрадями.
– Конечно, это изложено не так, как у профессионального писателя, но здесь много всяких воспоминаний. Используйте их для вашей работы. Но упомяните и мое имя: пусть узнают, что приговоренные к каторге за Июньские дни не были ни такими ужасными невеждами, ни такими страшными злодеями, как их считают.
Она подняла веки и так посмотрела на мужа, что даже я весь похолодел, задетый по пути этим ледяным взглядом. А он, провожая меня, старался заглушить шаги и голос, как это делают в доме, где лежит умирающий или покойник и где нельзя говорить громко.
Я спустился в центр Парижа по безмолвным мрачным улицам, мучимый тревожными мыслями, спрашивая себя, какая драма разыгрывалась между этими двумя существами?
– А, так вы ходили туда, – сказал мне старик, бежавший из дулланской тюрьмы. – Его жена была дома? Молодец женщина! Я видел ее в деле, когда она была еще совсем молоденькой девушкой... крохотная, как мушка, и веселая, как жаворонок. Он даже не заслуживает такого счастья.
– Ну, ясно! Разве ты не знаешь, ведь о нем говорят то же, что и о Рюо, – будто он из шпиков?
– Едва ли! Будь это так, не смотрите, что она такая малютка, – она взяла бы его за усы и, отхлестав по щекам, притащила бы к нам. И передала бы его Мабиллю, чтобы тот пустил ему кровь. Не так ли, Мабилль?
– Да. Если б только ей не было слишком стыдно; а может быть, она его любит... Бывает и так.
В это время кто-то вошел.
– О ком вы говорите?
– О Ларжильере[80]80
Ларжильер – за участие в Июньском восстании 1848 г. был приговорен к каторжным работам; в 1867 г. фигурировал в числе обвиняемых по делу о кафе «Ренессанс». Во время Коммуны был разоблачен как многолетний агент императорской полиции и расстрелян в последние дни Коммуны.
[Закрыть].








