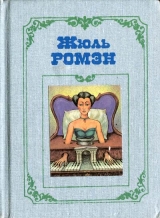
Текст книги "Бог плоти"
Автор книги: Жюль Ромэн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Но несколько дней тому назад, когда мы говорили о каких-то посторонних вещах, Люсьена вскользь заметила, что ей по опыту известно, как трудно бывает изложить письменно факты, которые знаешь самым лучшим образом.
Я стал ее расспрашивать. Она призналась, что у нее есть довольно объемистая тетрадь, в которой рассказаны, «правда, с большими пропусками и без соблюдения должных пропорций», наша встреча, помолвка, свадьба и последующие события. Несоблюдение пропорций означало, вероятно, что она подробнее останавливалась на событиях, особенно ее интересовавших, и пренебрегала остальными.
Мне, разумеется, захотелось познакомиться с этой тетрадью, хотя я сознавал, что погрешу, таким образом, против принятого мной метода. Смогу ли я прекратить чтение вовремя? Ведь если я продолжу его далее того места, на котором остановилась моя собственная работа, то как предотвратить его влияние на мое дальнейшее изложение?
Сама о том не подозревая, Люсьена пришла мне на помощь. Как только она заметила мое любопытство, так тотчас же поспешила сообщить мне, что большая часть ее заметок беспорядочна, неудобочитаема и что лишь начало было ею отделано.
Я стал просить ее дать мне хотя бы это начало. После долгих колебаний и как бы с некоторым сожалением она согласилась.
Я только что прочел это начало. Оно посвящено описанию жизни Люсьены в последние месяцы перед нашей встречей и первого периода нашей любви, до обеда у Барбленэ [10]10
Эта рукопись появилась в печати под заглавием «Люсьена».
[Закрыть]. Чтение в высшей степени заинтересовало меня и произвело на меня сильное впечатление. Я долго говорил и даже спорил на эту тему с Люсьеной.
Прежде всего, я самым искренним образом похвалил ее за ее произведение, которое действительно и по композиции и по стилю было гораздо выше моего скромного отчета.
– Лучшие романисты не могли бы сделать тебе упрека!
Но похвала в моих устах прозвучала для нее, как критика.
– Хочешь ли ты этим сказать, что я выдумала и исказила факты? Если это так, то это произошло помимо моей воли.
– Нет. Все, что я мог припомнить, показалось мне вполне точным. За исключением, впрочем, одного обстоятельства. (Мне захотелось немного ее подразнить.)
– Какого же именно?
– Когда ты описываешь, как пройти к дому Барбленэ, ты ошиблась в нумерации железнодорожных путей.
– Только-то! А ты разве знаешь их расположение наизусть?
– Нет. Но мне известен устав, а указанное тобою расположение не допускается уставом.
– Ну, мне это безразлично. У тебя действительно только одно это возражение?
Потом мы перешли к более серьезным вопросам. При чтении ее тетради я, пожалуй, больше всего был удивлен тем, насколько все окрашено там иначе, чем у меня. Вещественно оба показания совпадают. Излагаемые события одни и те же. Но в то время, как у меня они остаются плоскими, обыденными, достойными только того беглого упоминания, которое я о них делаю, у Люсьены они приобретают богатство, глубину и даже таинственность, которые вначале смутили меня. Эту разницу можно объяснить разным складом нашего ума и особенно различием нашего прошлого. Когда я встретился с Люсьеной, я не был таким новичком, чтобы с самого начала приписать нашим отношениям характер чего-то необычайного. Я был готов наслаждаться их очарованием, но не уделял им того огромного головокружительного внимания, не впадал в тот вещий транс, на которые способны некоторые души, когда они открывают любовь. (Да и случалось ли это со мной вообще когда-нибудь?) Таким образом, было вполне естественно, что Люсьена заметила целое множество новых перспектив, необычных и волнующих подробностей там, где я находил только освежение моего опыта.
Такое объяснение может быть приемлемо, но оно не вполне удовлетворяет меня. Когда я перечел некоторые страницы тетради во второй или третий раз, я не мог больше видеть в них простую фантасмагорию любви, создавшуюся в голове молодой девушки. Невольно они привлекают и беспокоят меня. Я прихожу к убеждению, что начало этой буржуазной идиллии уже заключало в себе нечто гораздо более значительное, чем то, что я видел в нем; что оно являлось подготовкой, предызображением и зародышем грядущих событий; что большую, чем у меня, чувствительность Люсьены нельзя было ставить ей в заслугу, так как все происходило почти исключительно в ней самой, в тайниках ее внутренней жизни; но что все-таки мне следовало бы почувствовать хотя бы смутное волнение, следов которого нет в написанных мною страницах.
Помимо некоторого укола самолюбию, все это причиняет немалое смущение моему уму. Я остаюсь в нерешительности относительно, например, следующего.
Когда два существа дают столь различное толкование событиям, которые они оба пережили, какую долю этого различия следует отнести на счет чисто субъективной оценки (следовательно, не имеющей отношения к истине; отсюда можно выйти, отыскав средний путь) и какую долю на счет особого, ничем незаменимого ясновидения, которое могло быть у того или другого участника в тот или иной момент? (И тогда нужно иметь смелость произвести выбор.)
Если в этот первый период мне недоставало ясновидения, что может служить мне ручательством, что оно появилось у меня или появится в будущем? И не лучше ли будет пользоваться впредь показаниями Люсьены?
И все-таки я настаиваю на том, что эта работа будет иметь для меня смысл, принесет мне пользу и окажется убедительной лишь в том случае, если я буду продолжать ее самостоятельно, не подчиняясь постороннему влиянию. (Может быть, мне не следовало бы читать даже эту первую тетрадь Люсьены.)
Я не мог обсуждать с нею откровенно эти вопросы, так как иначе мне пришлось бы признаться ей в существовании моей работы. Поэтому я старался косвенным образом вызвать ее на размышления, заставить высказать свое мнение с тем, чтобы воспользоваться всем этим для себя.
Был еще другой, более деликатный вопрос, который нам надлежало выяснить. Когда Люсьена дала мне свою тетрадь, я заканчивал предшествующую главу. Я только что пытался измерить границы «царства плоти», и мне нелегко было об этом забыть.
По разным причинам я не ожидал найти в тетради Люсьены живых откровений на эту тему. Но я все-таки надеялся, что при известной проницательности я встречу не одно указание, которое поможет мне понять внезапное превращение Люсьены в великую, необыкновенную жрицу любви. Мне показалось, что таких указаний там почти вовсе нет. И самое странное заключалось не в их отсутствии, а в том, что я назвал бы их утайкой.
Ибо вот что я вижу на одной из страниц, передающих размышления Люсьены, когда она была молодой девушкой: [11]11
См. роман «Люсьена».
[Закрыть]«О любви… я знаю все заранее. Любовь пережитая будет только мучительным осуществлением любви, известной мне из внутреннего опыта». И немного выше: «Мой инстинкт говорил мне о ней тоном весьма уверенным». Затем дальше: «Единственная вещь, которую я себе представляю слабо, это физическое обладание женщины мужчиной и смятение души по поводу этого ни с чем несравнимого события». Или еще: «Нужно бы испытать это хотя бы один раз, вдали отсюда, с каким-нибудь незнакомцем, который не знал бы также меня, скажем, во время путешествия, с завуалированным лицом…»
Подобные фразы не звучат как беглые впечатления, записываемые в тот момент и в том виде, как они появляются. Наоборот, они свидетельствуют о целом мире мыслей и мечтаний. И они прячут его.
Я стараюсь побудить Люсьену высказаться по этому поводу. Прежде всего, я обращаю ее внимание на то, что она написала свой рассказ или, по крайней мере, придала ему окончательную форму значительно позже нашей свадьбы, следовательно, обладая уже опытом замужней женщины. Когда она писала его, она уже знала, какое важное значение примет в ее глазах «царство плоти». Она не скрывает, что оно играло известную роль в ее мечтаниях молодой девушки, но если это так, то почему же она находит, что о нем не стоит говорить?
Люсьена, по-видимому, очень смущена вопросом, который, впрочем, я поставил ей не в такой грубой форме, как он выражен здесь. Я догадываюсь, что честность ее ума борется с другими, не совсем для меня ясными чувствами. Прежде чем ответить, она нащупывает почву:
– Да, это верно, что я была уже замужем, когда кончила писать это. Но я твердо решила не проецировать настоящее на прошедшее. Я не могла приписывать тогдашней Люсьене тот взгляд на вещи и на их относительное значение, которого у нее не было.
– Прости. В твоем рассказе часто попадаются намеки на будущие события и переживания. И мне кажется даже, что я знаю, на какие именно. В своих девических впечатлениях ты тщательно отмечаешь то, что можно считать предчувствием этих событий или подготовкой к ним, а также и то, что проливает известный свет на эту часть будущего.
– Что ж поделаешь! Очень трудно освободиться от всякой тенденциозности, особенно мне: ведь я не ученая.
– Да, но твое отношение к различным переживаниям не одинаковое. Меня ничуть не удивляет та иерархия их, которую, как мне кажется, ты в конце концов устанавливаешь. Но, может быть, ты отрекаешься от некоторых из них?
Прежде, чем ответить, она открыто посмотрела на меня:
– Ни в малейшей степени.
– В таком случае?
Она долго думает. Легкая дрожь пробегает по ее лицу. Я чувствую, что она хочет глубоко заглянуть в себя, что требует, подобно сильному электрическому разряду, большой затраты энергии.
Но все происходит в невидимых областях спектра, и те несколько слов, которые я слышу, являются только периферическими вспышками.
– Когда ты познакомился со мной, все внутри меня было до крайности напряжено.
Или же:
– Я ощущала мою душу так же отчетливо, как ощущают биение сердца при крутом подъеме.
…Я была не в своем уме; опьянена душою; и от этого вся сосредоточена. Ведь есть же девушки, которые поступают в монастырь.
Или же:
Ведь ты же знаешь, что бывает духовная жизнь, которая ничего собой не маскирует и не является ложным названием чего-то другого.
Или же, наконец:
– Но разве тут не чувствуется постоянное присутствие духа? Ведь это происходит с ним.
И, касаясь своей тетради, заключает:
– Здесь та самая Люсьена, что стала потом твоей женой. Та самая. Другая не стала бы такой, как эта Люсьена. Разве ты об этом не подумал?
В разгаре нашего спора и среди взаимных признаний я пренебрег строгостью своего «метода» и рассказал о существовании моих записок. Люсьену это не очень удивило. Тон моих замечаний уже должен был навести ее на эту мысль. Я добавил, что мне не хочется показывать ей сейчас то, что я написал; что первая часть, соответствующая ее тетради, вдобавок очень неинтересна, а вторая не закончена, и с ней у меня предстоит еще много хлопот.
– Как ты называешь вторую часть?
– «Царством плоти».
Люсьена не стала настаивать. Я почувствовал от этого большое облегчение, так как сообразил, что мне было бы крайне неприятно, если бы она прочитала только что законченные мною главы без их продолжения. К тому же, если бы прочитав их, она показалась бы мне недовольной или оскорбленной, это отбило бы у меня вкус к моей работе, и, быть может, я не нашел бы мужества продолжать ее.
Теперь мне нужно позабыть весь этот обмен мнений и даже тетрадь Люсьены и, если можно, снова двинуться вперед моим обыкновенным шагом.
VII
После нашего пребывания в Сенте мы вскоре приехали в Бордо, где предполагали остаться несколько дней, не столько из интереса к городу, сколько по практическим соображениям (мелкие покупки, стирка белья и проч.). Я хотел еще воспользоваться этим случаем, чтобы навестить своего приятеля, служившего в конторе пароходства, в Пойяке.
Мы съездили поэтому в Пойяк, но сейчас же вернулись, так как мой приятель куда-то отлучился на целый день. Видя, что я этим немного раздосадован, Люсьена сказала мне: «Ты бы мог снова съездить туда завтра. А я отдохну, приведу в порядок паши вещи».
Путь от Бордо до Пойяка занимает очень мало времени. Нам предстояла разлука всего на четыре или пять часов. Поэтому я согласился. В первый раз после нашей свадьбы мы расставались больше, чем на несколько минут. К тому же я вовсе не испытывал потребности в одиночестве, и если бы почувствовал, что Люсьена отпускает меня с неохотой, то легко отказался бы от посещения приятеля и вызвал бы его в Бордо.
Сидя в трамвае по дороге на вокзал, я не мог не обратить внимания на впечатление, столь непроизвольное, что оно становилось прямо физическим. «Я один. Вот я один. Как это странно быть одному». И шум трамвая, и свет, и голоса людей казались мне какими-то особенными.
Входя в купе, где уже сидели трое пассажиров, я сказал себе: «Где ты теперь, моя дорогая Люсьена? Моя милая, дорогая Люсьена!» И, думая это, взглянул на свободный угол. Мне показалось странным, что Люсьена не займет этого угла, не сядет там, не улыбнется мне и не укажет, немного потеснившись, места рядом с собой.
У меня были газеты, но я не хотел сразу же приступить к чтению. Я берег их как средство против скуки и вместо чтения стал глядеть в окно. Пробегавшая мимо меня местность была мне уже знакома, так как вчера мы проезжали здесь, но многих подробностей я не заметил и потому смотрел внимательно. Но мой ум и то, что я видел, находились в состоянии какой-то взаимной неподвижности. Было похоже на то, когда соединяют два вещества, ожидая реакции. Но реакция не наступает. Снова я произнес: «Люсьена!» Но не так, как это делают когда просто думают о ком-нибудь. Я не ограничивался тем, что давал имя образу известного лица. Я призывал; и в моем призыве было уже начало веры в силу этого призыва.
«Люсьена». Когда я произнес еще раз это имя, я глядел на пробегавший пейзаж, и мне показалось, что его вдруг озарил луч света, пронизал какой-то трепет и все в нем ожило. И фабрика, окрашенная охрой, и вилла на холме, и виноградник – все приобрело для меня необыкновенный интерес.
Когда этот эффект исчез, у меня сжалось сердце. Не только все мне стало безразличным, но я почувствовал какую-то неизъяснимую тоску.
Тогда я принялся за газеты. Мне посчастливилось напасть на содержательную и интересную статью. По мере того, как выраженные в ней мысли окружали меня и замыкались вокруг меня кольцом, а я сам углублялся в чтение, умышленно стараясь укрыться в нем, как в густой аллее, ко мне понемногу подходило впечатление моего прежнего одиночества, но не овладевало мной. Оно оставалось на некотором расстоянии. Самое большое, я мог сказать: «Вот каким было прежде состояние твоего ума, которое теперь ускользает от тебя». Что же касается содержания статьи, то между ним и мною было какое-то условное отношение: «Я бы очень этим заинтересовался, если бы…»
После этого я принялся раздумывать. Я сделал усилие, чтобы удивиться и даже встревожиться. Я представлял себе свое положение насколько возможно беспристрастно. Я призывал свои критические способности, свою иронию: «Как? Ты уже дошел до этого менее чем через три недели? Но ведь это унизительно. И опасно. Предавайся супружеским радостям, сколько тебе угодно. Окунись в супружество по горло, если это тебе доставляет удовольствие. Но при условии, что ты будешь способен вновь стать одиноким, мгновенно вернуться по желанию к полному одиночеству. Это была бы даже довольно недурная гимнастика. Но брак схватил тебя, как ревматизм, и ты уже неспособен к одиночеству». И я старался встряхнуться: «Ты далеко не дурак. Ты пожил на свете, знал женщин и увлекался многими из них, что не мешало тебе оставаться одиноким. Разве это купе не напоминает тебе ничего? Припомни, как ты по вечерам возвращался от Барбленэ. Ведь и теперь ты так же одинок, как и тогда. Ты должен снова найти тогдашнее умонастроение, тогдашнюю уютность одиночества. Разве это невозможно? Неужели ты так постарел?»
Я прекрасно понимал, какое это умонастроение, но не мог обрести его. Я кончил тем, что сказал себе, взвешивая слова: «Это ужасно, но это правда. Я не могу больше обходиться без моей жены». При словах «моей жены» точно рожденная ими волна пробежала по моей пояснице и животу и, распространяя по телу зыбь, вроде той, что мы видим на шее голубя, когда он воркует, достигла сердца в форме радости, бодрости, смелости, в форме уверенности – уверенности, прогонявшей от меня всякие сомнения.
Это глубокое движение, всколыхнувшее все мое существо, не было простым желанием моей жены. Не было оно также вызванным моим телом живым ощущением другого тела и его сладости. Это была скорее исходившая из моего нутра уверенность в том, что наша разлука не имеет никакого значения, что мое тело отказывается считаться с нею. Оно знало, что через несколько часов найдет другое тело, соединится с ним и что, может быть, в этот самый момент такое же исполненное уверенности предвидение разливает и по Люсьене такую же волну, когда она, нагнувшись над чемоданами, приводит в порядок наши вещи.
И тотчас же у меня пропало всякое беспокойство, всякое чувство унижения. Быть вот так прикованным к Люсьене – в этом и заключалось мое новое счастье. Я был благодарен своему телу за то, что оно напомнило мне об этом своим любовным порывом. Теперь я гораздо лучше переносил свое одиночество, так как оно было не настоящим. У меня снова появилась охота глядеть на своих спутников. Если по временам я бросал в окно рассеянный взгляд, то лишь потому, что пробегавшая мимо поезда местность не стоила внимания. С увлечением погрузился я в газетную статью. Одна грустная мысль все время пыталась выбиться наружу: «Через несколько недель возникнет вопрос уже не о нескольких часах разлуки. Что ж тогда?» Но я держал ее на расстоянии. Чтобы отогнать ее, я обращался за помощью к своему всегдашнему отвращению беспокоиться о будущем. Это естественное отвращение было укреплено и узаконено изучением теории вероятностей. Даже вероятность смерти для живого существа не бесконечно велика.
В Пойяке я провел с приятелем полтора часа. Я сообщил ему, что я женат и с каких именно пор. Он улыбнулся. Я постарался дать ему понять, что я очень влюблен в свою жену и что после женитьбы во многом изменился. В то время как я ему это говорил, мне казалось, что лицо Люсьены находилось совсем близко от меня, что я ощущал ее дыхание и касался губами ее глаз и губ.
Я жалел, что не взял ее с собой. Приехав один, я выказал по отношению к ней независимость, которой в действительности не было. Разумеется, я не собирался объяснять моему приятелю, до какой степени обожания моей жены я дошел. Но если бы она была здесь, это обожание выразилось бы наглядно, и мне доставило бы удовольствие проявлять его в присутствии свидетеля. Я говорил себе также, что нашим разговорам и месту, где мы находились, недостает улыбки, смеха, голоса и благородства Люсьены, что это был развенчанный момент существования, так как ей следовало бы царить над ним. Я представил себе, как был бы удивлен мой приятель красотой Люсьены, какие оттенки почтительного восхищения внес бы он в свою вежливость. И мне вдруг показалось необычайным мое бесцеремонное обращение с ней. «Возможно ли, что я говорю ей ты, отвечаю ей, как попало, и иногда обращаюсь с ней почти как с этим приятелем?»
Мой друг предложил отвезти меня в Бордо на катере, который находился в его распоряжении. Ехать на катере было гораздо интереснее, чем в поезде. Для Люсьены такое путешествие заключало бы в себе прелесть новизны, которой для меня в нем не было. Во время путешествия по реке она могла бы увидеть и корабли, и доки, и всю внутреннюю жизнь порта гораздо лучше, чем мы могли это сделать во время наших прогулок. Кроме того, приняв участие в этой водной прогулке, она как бы приобщалась непосредственно к существенной части моей жизни.
Все это так подействовало на меня, что отсутствие Люсьены стало для меня еще более мучительным. Я едва глядел на открывавшиеся перед нами виды. Я упрекал бы себя, если бы стал любоваться ими. А тут еще мой приятель сказал: «Тебе следовало бы привезти твою жену. Ее это развлекло бы». Он сказал это без всякого предвзятого намерения, но сознание, что даже посторонний сожалел об отсутствии Люсьены, окончательно расстроило меня.
* * *
Эта короткая разлука оставила следы. Она породила у меня, а также у Люсьены рой смутных чувств, которые с этих пор стали сопровождать нашу любовь.
Нельзя сказать, чтобы любовь наша приняла от этого менее плотский характер. Но даже в неистовстве плоти стала проскальзывать нежность, которой до сих пор пыл страсти давал очень мало места. Единение тел не являлось больше одним лишь заключительным актом ритуала взаимного обожания. Оно стало также как бы вознаграждением за разлуку, борьбой против нее, чем-то вроде трагического утверждения. Предшествовавшие обладанию ласки обращались теперь не только к тому скрытому божеству, которое влюбленный смутно чует в теле другого; они хотели также успокоить сердце, сжимавшееся во время разлуки, утешить все существо целиком, отстранить от сплетенной в горячих объятиях четы даже тень какой-либо угрозы. В перерывах между объятиями Люсьена глядела на мой лоб, на мои глаза и целовала их задумчиво и с беспокойством… Да и я сам перед моментом обладания бывал взволнован, видя, как на ее лице по изящно очерченным векам и губам блуждает отблеск грустной мечтательности, который рассеивался и улетучивался только от огромной радости, неизменно ожидавшей меня во время единения с ней.
Другим следствием моей поездки было более внимательное отношение к тому, как протекала наша жизнь, когда мы бывали вместе, так как и для меня и, вероятно, для нее она переставала протекать нормально во время разлуки. Я слишком остро почувствовал отсутствие моей жены, и мне хотелось лучше, чем прежде, чувствовать ее присутствие. Мной руководило не холодное любопытство. Наоборот, почти со страстным увлечением я стал следить за игрой влияний, которые привязывали меня к Люсьене. Для меня было так же приятно чувствовать себя охваченным ими, как и ощущать ее обнаженные руки, обнимающие мое тело. Я так же любовно отличал их друг от друга, как отличал поцелуй ее губ от ласки ее рук. Сейчас я яснее вижу, какая доля правды заключалась в этих радостях.
Так, когда мы бывали в ресторане, мне иногда вспоминались мои обеды в отеле во время пребывания на курорте Ф***. Какая разница! И как было бы недостаточно сказать, что общество моей жены спасало меня теперь от скуки!
Сидя за столом против Люсьены, я относился с большим вниманием к еде, как к важному делу, за которое должен нести серьезную ответственность. Я тщательно изучал меню, наблюдал, как подают, накладывал кушанья Люсьене, старался выведать, какой у нее аппетит и что ей нравится. Мне было приятно смотреть, как это красивое живое существо, которое было мне так дорого, делает различные движения, чтобы насытиться. В самом деле, я окружил тело Люсьены такой любовью, что даже соприкосновение с ним и проход через него различных веществ смутно интересовали мое тело. Но я так же ухаживал за ней, как ухаживают за ребенком, когда хотят, чтобы он рос, был весел и имел розовые щечки. Да и по отношению к самому себе я гораздо больше заботился о качестве пищи, чем во время пребывания в Ф***, где я хоть и не был по-настоящему рассеянным, но чаще всего со всем мирился. (Это было нехорошо. Но ведь не так важно поступать всегда хорошо.) Со своей стороны Люсьена кушала только тогда охотно, когда видела, что я доволен меню и тем, как поданы блюда. Короче говоря, обед превращался в соответствующих пропорциях в одно из совместных, почти что взаимных действий мужа и жены, отличающееся от тех, что совершаются в кровати, лишь меньшей изысканностью и меньшим пылом.
В других местах, на прогулке, в вагоне, я подмечал новый характер, который приобрело течение моих мыслей. Никогда еще состояние моего ума не бывало так благоприятно для моего самочувствия. Мысли не спешили, не обгоняли одна другую, как во время одиночества, что бывает так утомительно. Мне также не нужно было, как при общении с другом, которого видишь изредка, искусственно поддерживать разговор.
С другой стороны, совершенно незаметно происходило, в сущности очень благотворное, порабощение мысли чем-то посторонним ей. Она уже не функционировала в силу собственного порыва или единственно ради удовольствия испытать свой механизм. Она служила главным образом для поддержания между мной и Люсьеной духовных отношений, в своем роде столь же интимных и возбуждающих, как и наши физические отношения. В меру своих сил она служила нашему единению. Представления, которые мы выбирали или которым давали доступ в наши разговоры, приводили нас либо к неожиданному согласию, либо к милой размолвке, которую – мы были в том уверены – нам удастся разрешить. Мысли мои шли в направлении моей жены, навстречу ей. Когда завязывался разговор, я перестраивал свои мысли, стараясь не столько развить их, сколько прислушаться к ее мыслям и, следуя за их изгибами, проникнуть до самого их скрытого истока. Я особенно заботился, чтобы мои вопросы доставляли Люсьене удовольствие, и даже возражения были ласкающими. От этого возникало во мне также весьма своеобразное, но чрезвычайно приятное впечатление. Мне казалось, что когда я думаю, мой ум постоянно находит опору в другом уме, никогда не забегает вперед и не блуждает в пустоте.
Приблизительно таким же способом пользовались мы и картинами внешнего мира. В известном смысле присутствие Люсьены помогало лучше видеть их, воспринимать с большим увлечением и большей остротой. Когда какой-нибудь памятник, старинная площадь, рынок или четырехугольник пейзажа из окна вагона нравились мне, я испытывал гораздо более живое удовольствие, глядя на них в ее присутствии, чем если бы был один. Но главное, это давало обильную пищу для нашего общения. Так, какая-нибудь церковь, более красивая или более интересная, чем мы предполагали, вызывала вдруг блеск в глазах Люсьены, наводила на ускользавшую мысль, прогоняла усталость, давала силу идти дальше, озаряла ее радостью и благодарностью, которые она изливала на меня, претворялась даже в поцелуй, который она влепляла мне в щеку, смеясь и извиняясь за неприличие своего поведения.
В иные минуты мы не нуждались ни в картинах внешнего мира, ни в каких-нибудь особенных мыслях. С виду мы ни о чем не думали. Сознание, что мы вместе, было само по себе достаточно содержательно, чтобы занять нас. Ум мой отдыхал, удобно расправляясь, как расправляются члены нашего тела во сне. Однако, это не было инертностью, ни даже дремотой. Общение между нами не прерывалось. Но оно не нуждалось ни в каких предлогах и обременено было только собственным весом. Оно сводилось к чистому ощущению обмена. Это не мешало ему, однако, изведывать своего рода восторженность. В поезде, например, вдоволь наговорившись и наглядевшись на соседей, на их ухватки, налюбовавшись видами из окна, мы иногда долго сидели молча один против другого. Тогда на обращенном ко мне лице Люсьены начинала намечаться едва заметная улыбка. Затем она улыбалась откровенно. Через мгновение у нее вырывался легкий смех, звонкий и ясный, в одной только ноте, за который она наказывала себя, прикусывая губу. Ничего не произошло. Она ни над кем не смеялась. Не почувствовала, что мне в голову пришла смешная мысль. Но ее глаза кричали мне: «Пьер, прости твою Люсьену. Ничего не случилось. Но я опьянела от твоего присутствия».




