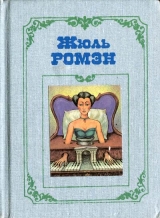
Текст книги "Бог плоти"
Автор книги: Жюль Ромэн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
IX
Рассказывая о себе, я уже сообщал, что не подвержен продолжительным приступам угнетенности. Мой живой нрав очень скоро пускает в ход защитительные реакции. Поэтому я не буду утверждать, что провел дни, остававшиеся до моего отплытия, в состоянии непрерывной грусти и тоски.
Во-первых, необходимость в скором времени снова приняться за службу и связанные с этим различные дела в достаточной степени отвлекли меня. Мы принялись отыскивать постоянную прислугу. До сих пор в виду несложности нашего хозяйства, легкости, с которой мы могли обедать вне дома, и, главное, вследствие желания оставаться наедине, мы довольствовались прислугой приходящей. Но теперь Люсьена должна была остаться одна. Постоянное присутствие человеческого существа помогло бы ей бороться с наиболее грубыми видами скуки. Не могло быть и речи о том, чтобы откопать среди наших родственников какую-нибудь ворчливую старуху, которая немедленно стала бы обращаться с Люсьеной, как с девчонкой, отравила бы всю нашу семейную жизнь и своими зловонными излучениями прогнала бы из нашего дома сначала молодость, а потом любовь. Служанка же, напротив, оказалась бы вполне для нас пригодной, разумеется, при условии не брать первой попавшейся. Мы не требовали от нее ни свидетельства об элементарном образовании, ни воспитания в женском пансионе.
Но так как она должна была составить компанию Люсьене, то от нее требовалось такое уменье держать себя, которое делает выносимым и даже приятным присутствие другого человека – его малейшие замечания, хождение по комнатам, его молчание – в стенах, которые уже заключают нас. Все это, конечно, трудно изложить в двух словах, когда приходишь в контору для найма прислуги. Поэтому, хотя в те времена недостатка в прислуге не было, наши поиски немного затянулись. По правде сказать, я не особенно стремился ускорить их, надеясь таким путем отвлечь Люсьену от мыслей о моем отъезде и получить в эти последние дни тему для разговоров, дававших много комического материала; мне хотелось также, чтобы наша новая жизнь не приняла вида несчастья, которому безропотно подчиняешься, но явилась бы разумно организуемым начинанием.
Эти хлопоты не мешали мне, однако, непрестанно думать о нашей разлуке. Но эта задняя мысль тоже не была инертной. Она побуждала меня делать для предстоящего мне одиночества известного рода запасы, подобно тому, как делают их в ожидании осады или на зиму.
Чем более приближалась минута разлуки с Люсьеной, тем более я боялся покинуть ее, не узнав ее как следует. В течение двух месяцев супружества не был ли я виновен в небрежности, рассеянности и недостаточном внимании? Да, ее тело, вариации этого тела, оттенки, которые оно принимало для каждого из моих чувств и в каждом своем участке, – вот то, что я знал хорошо о любимом существе. Чтобы восстановить все это в памяти, когда мы будем разлучены, мне нужно будет только дать моему телу и моим чувствам полную свободу мечтать. Я знал, что самая тонкая подробность, замеченная во время ласки, была где-нибудь зафиксирована в моих нервах.
Я начал также понимать после поездки в Пойяк, чем может быть для меня присутствие Люсьены и наше совместное существование. Столкновения наших мыслей во время разговора, легкие тревоги и маленькие радости, которые оно вызывало, – все это я также мог восстановить без всякого труда. Но все это тоже относилось к любви, почти к сладострастию. Что же касается самой личности Люсьены в обыденной жизни, ее манеры держать себя, когда она не думает о любви, ее повадок, жестов, всей совокупности реактивных движений, не имевших отношения ни ко мне, ни к нам обоим, составлявших собственный стиль живой Люсьены, то обо всем этом я имел самое смутное представление. Внезапно разлученный с нею, я буду в состоянии представить себе все это лишь с значительными пробелами, самым отрывочным образом.
«Скорее, скорее, – говорил я себе. – Скоро ты будешь один».
Работа, правда, пошла очень быстро. В конце концов, мне нужно было только зафиксировать мои многочисленные беглые впечатления. Теперь, когда я стал внимателен, достаточно было одного мгновения, чтобы каждый жест Люсьены отпечатлелся в моем сознании, закрепился в нем и сделался неизгладимым, подобно татуировке, – например, ее манера вешать шляпу на крючок по возвращении домой, движение рук, чтобы поправить прическу, вытягивание немного раздвинутых пальцев, манера слегка морщить губы или хмурить брови, манера косить глаза, предварительно подняв их кверху, когда она старалась что-нибудь припомнить, и еще десяток черточек в таком же роде.
Затем я прислушивался к ее голосу, чтобы уловить и сохранить его тайны. Не раз уже я спрашивал себя, от чего зависит то очень живое и совершенно своеобразное удовольствие, которое я испытывал с самого начала нашего знакомства, слушая, как она говорит, – от интонаций ли ее голоса, от содержания ли ее речей, или же, наконец, от духа, каким все они были проникнуты: отсутствие аффектации, нисколько не вызывающая искренность, любовь к истине без примеси инстинкта собственности, приглашение разделить умственное удовольствие (пожалуй, столь же неотразимое, как и приглашение разделить удовольствие физическое), постоянное легкое удивление, столь же приятное в мыслях, как свежесть в воде, всегда присущая ее уму веселость.
Прислушиваясь внимательнее, я пришел к убеждению, что все это очарование, каково бы ни было его происхождение, заключено почти целиком в трех или четырех главных интонациях ее голоса; что эти интонации сами по себе, без помощи смысла слов, могли бы создать впечатление названных внутренних качеств; что эта способность была, если угодно, тесно связана с музыкальными модуляциями, но что гораздо проще было объяснить ее, не ссылаясь совершенно на музыку, тем, что ваш ум как бы непосредственно познавал в этих изгибах голоса некоторые движения, позы и намерения скрытого за ними другого ума.
И когда вы убеждались в этом, то вдруг чувствовали себя вовлеченным в целую систему толкований, от которой немного кружилась голова. Например, я смотрел на ноздри Люсьены. Я говорил себе в который уже раз, что они замечательно красивы и вместе с тем выражают властность, что довольно им немного задрожать, и красота их станет страшно действенной, внезапно исполнит вас желанием повиноваться, нравиться и всячески услужить этой женщине; я говорил, что обаяние это можно, конечно, свести к геометрическим или графическим понятиям, объяснить его соотношением линий и чисто формальной гармонией, но что теперь мне хочется видеть в нем чисто психологический эффект, а в рисунке тела – графику внутренних сил.
Подобная идея принадлежала к числу тех, что получали у меня очень быстрое развитие. Испробовав ее на одной черте любимого лица, я переносил ее на другие: на глаза, рот, щеки. «Не заключена ли красота всех этих прелестных вещей, прежде всего, в их духовном значении?» Под этим я не подразумевал неопределенного понятия о выразительности черт лица, присоединяющейся к их строению, использующей его по мере сил. Я думал: «Не лежит ли подлинное различие (или, вернее, подлинный источник различия) между прелестным ртом, как этот, и ртом уродливым в области невидимого? То, что мне нравится, что покоряет меня в рисунке этого рта, не есть ли управляющее им и оживляющее малейший его изгиб сочетание мыслей и чувств? Стоит мне только представить себе вот эту губу немного более толстой, эту линию немного более округлой или короткой, этот уголок рта не столь подвижным, как уже я непременно должен буду приписать Люсьене другие мысли, другие душевные движения, другие способности и привычки невидимого ума. В конце концов, на этом лице я не столько вижу формы, сколько читаю знаки. Знаки эти даны в виде очень тщательного и очень тонкого рисунка тела. Я говорю, что рисунок красив, потому что мысль, которую он выражает, прекрасна – благороднее, богаче и тоньше других, – и я понимаю ее».
Я был похож на человека, который после долгих занятий чистой геометрией с увлечением открывает алгебру. Ему все больше нравится подставлять уравнения, как пружины или эластичную арматуру, под зрительно представляемые кривые. Он не может больше обходиться без них. Он лишает пространственные формы их самостоятельности и всегда ищет уравнения, как поддержки и глубокой причины. Достаточно ему посмотреть некоторое время на фигуру, что бы уже иметь смутное представление формулы. Нет такого запутанного сплетения линий, нет такой арабески, привлекательность которой он отказался бы представлять в форме замаскированного уравнения. В глазах этого человека дух алгебры поглощает все.
Вот каким образом моя идея увлекала меня с собой далеко за пределы здравого смысла. Она заставляла меня признать, что красота Люсьены не ограничивается ее лицом, но простирается на все ее тело сплошь. Я представлял одну за другой части этого тела. Я размышлял о чувстве, которое их вид вызывал во мне и которое являлось последовательно оцепенением, восхищением, живой радостью, желанием пожертвовать собой, различными оттенками энтузиазма. «Почему не предположить, что все это относится также и к другой, не физической области? Почему все то, что верно насчет ее рта или ноздрей, не может быть верным также и относительно остального? Если, например, вид ее грудей или живота бросает меня в жар, который кажется мне, по крайней мере, столь же близким (чтобы не сказать более) к религиозному экстазу, как и к животному пылу, то не происходит ли это оттого, что множество мыслей Люсьены, даже без ее ведома, устремляется туда, моделирует, округляет, вздувает тело? И если верно, что красота этих частей тела почти безлична, а их выражение не столь живое, как выражение глаз или рта, то не потому ли это, что речь идет о мыслях, которые сами допускают известное постоянство и универсальность?»
А чувство, испытанное Люсьеной в присутствии мужского желания, это идолопоклонническое отношение, вселявшее в нее душу «античной женщины», разве можно было объяснить иначе? «Грозная красота», о которой она говорила, показалась бы смешной, если относить ее только к формам. Я не хотел также видеть в ее чувстве животный крик женской похоти. Я считал слишком банальным сводить все к понятию функциональной красоты (красоты, которую мы усматриваем в мосте, корпусе корабля, укреплении), если только не играть словом функция и не вводить таким образом аналогии, на которую я указывал выше (т. е., как бы говоря, что красота кривой целиком обусловлена алгебраической функцией, которая в ней выражается). Я усматривал, правда, и более сдержанное объяснение: вполне естественно, что настоящая пылкая женщина испытывает некоторое волнение при виде мужского желания, и это волнение сопровождается или, если хотите, питается множеством идей, хотя и смутных: идеями мощи, плодородия, сладострастия, подчинения природе, желанной грубости, смешанного с восхищением страха, права более старинного, чем какой бы то ни было закон, и т. д. Но эти идеи уже содержатся в уме женщины. Вызывающий их объект не породил бы их одним своим видом, в форме его нет ничего, что бы их выражало. Каменный идол, даже лишенный сходства, даже сведенный к магическому знаку, мог бы возбудить их с таким же успехом, как этот идол из плоти.
Но охваченный своими мечтаниями, я предпочитал приписать это женское чувство прямому прозрению. Можно ли отрицать, говорил я себе, что у мужчины, который находится во власти желания, все силы ума направлены на половое чувство? Его преображение, его видимое возбуждение зависят не столько от физиологических причин, сколько от природы и движения мыслей. (Импотенты хорошо это знают.) Отчего же не допустить, что эта природа и это движение мыслей, со всем, что в них может быть универсального и индивидуального, постоянного и переходящего, сексуального и просто человеческого, всегда каким-то образом выражается в рисунке плоти? Отчего, в особенности при крайнем возбуждении желания, в этих внешних очертаниях не могли бы быть обнаружены низость или благородство желания, оттенки, которые оно приобретает от великодушия, жестокости, грубого вожделения, энтузиазма, если мы так кичимся, что умеем их схватывать в меняющемся выражении губ, глаз? И почему взгляд желанной женщины не мог бы прочесть этих чувств? Правда, часто стыд заставляет его отвернуться. Или же, если он и набирается мужества устремиться прямо на этот вид, то его застилают чувства, вытекающие из стыда, но его отрицающие: циничное любопытство, наслаждение стыдом, страх скандала, выливающийся в смех. Но если женщина обладает достаточной силой ума, чтобы победить эти принужденные позы, и достаточным природным благородством, чтобы найти наличие мысли там, где оно есть, то такая женщина вправе говорить о грозной красоте.
И если бы пришлось признать, что и здесь индивидуум играет меньшую роль по сравнению с родом, что эта «грозная красота» явление довольно обыкновенное, и женщина, если бы отважилась, увидала бы ее не только на теле избранного мужчины, то это доказало бы лишь то, что желание и любовь шевелят и приводят в движение, помимо маленького мирка «индивидуальных» представлений, большие и жгучие мысли, таящиеся в глубине каждого человека.
* * *
Если я привел подробности этих мечтаний, то это не значит, что я преувеличиваю их ценность. С этого момента я поддавался их обману лишь отчасти. У меня есть некоторый вкус, и природный, и приобретенный, к теориям, к продолжительным рассуждениям, которые они вам нашептывают на ухо, особенно когда вы бываете одни. Но, с другой стороны, я менее, чем кто-либо, склонен поддаваться галлюцинациям. Я обладаю крайне развитой способностью отличать реальность от рассудочных построений. У многих людей, постоянно имеющих дело с отвлеченными мыслями, рано или поздно притупляются ощущения внешних чувств. Если они имели несчастье построить гипотезу относительно какой-нибудь вещи внешнего мира, то с этого момента эта вещь для них навсегда пропитана их гипотезой. Это уже не вещь, которую они ощущают, как бы настойчиво она ни давала знать о себе; это маленькая кухня идей, которую они поставили на ее место. Я мало подвержен этой болезни. Удовольствие, которое мне доставляет какая-нибудь теория, не лишает меня свободы суждения о ней. А главное, я способен отдать ей должное, если считаю, что на то есть веские основания, не заставляя моих ощущений говорить то же, что говорю я.
Таким образом, мысли, о которых я только что говорил, не искажали моего зрения. Когда впоследствии я любовался грудью Люсьены, ее нежной кожей и формой и чувствовал, как она трепещет под моей рукой, я, конечно, старался понять, каким образом скрытый разум мог влиять на эти формы тела, проявляться посредством них. Но я не поддавался самогипнозу. Я сознавал, в какой мере придаю им смысл, которого не в состоянии прочесть в них. Я отчетливо различал, где кончается зрительное восприятие вещи и где начинается вера.
Во всей этой внутренней работе меня, по правде сказать, интересует сейчас лишь то, что я подмечаю в ней одну защитную реакцию, извилины которой довольно любопытны. С некоторых пор Люсьена давала мне понять, что «единение тел», каким бы полным и совершенным оно ни было, оставляло ее безоружной перед угрозой нашей разлуки. Обаяние первого «таинства» культа плоти оказывалось, таким образом, поколебленным. Мне давали почувствовать границы власти физической любви. И та самая женщина, которая на своем теле научила меня обретенной ею мистике плоти, теперь сама же поселяла во мне на этот счет сомнения.
А между тем, я дорожил, даже более, чем сам думал, этим культом плоти, в атмосфере которого жил вот уже два месяца. Я ясно чувствовал, что обязан ему, помимо некоторого очищения сладострастия, еще и подлинной удовлетворенностью ума, радостной ясностью духа. Впервые после долгого промежутка времени я имел дело с крепко слаженной вселенной, полной, однако, тайн и теплоты. Если бы я лишился этого культа, я, быть может, никогда бы не обрел вновь той жизнерадостности, которую он во мне поддерживал. Таким образом, мой ум должен был посвятить себя хитрой работе его оправдания. Подобно тому, как люди, вера которых колеблется, ищут доказательств существования бога даже в произведениях ученых, отрицающих его, так и мой ум искал новых оправданий сексуального идолопоклонства с той именно стороны, откуда ему грозила наибольшая опасность.
В общем я согласился, что необходимо одухотворить нашу любовь или, если угодно, унести в мое будущее одиночество напутствия такой любви, в которой сознанию было бы отведено более значительное место. Отсюда мое усилие добраться до личности Люсьены сквозь ее жесты и повадки, взять от голоса, глаз и выражения лица насколько возможно больше души любимой женщины. Я понял, что в каюте парохода, среди океана, много в моих взглядах на любовь изменится. В печальном свете разлуки моральное существо Люсьены обретет новую ценность. Воспоминание о какой-нибудь ее мысли, выражении глаз принесет мне тогда гораздо больше помощи, чем самый горячий плотский порыв. Когда я вызову ее в памяти, чтобы мысленно прижать к своей груди, какую Люсьену я буду пытаться схватить, узнать? Обнаженную любовницу, разрумянившуюся от страсти? Или товарища, подругу, которая гуляла со мной по длинным улицам? Или просто Люсьену, существо, которое называется этим именем, единственное, незаменимое? Что тогда покажется более важным: воспоминание об обладании ею или уверенность, что в памяти точно удержался какой-нибудь знак, нечто вроде неподдающейся подделке подписи, отпечаток любимой на разделяющем нас пространстве (жестоком пространстве, субстанции того же порядка, как разлука и смерть)? Да в точности увидеть жест руки, приглаживающей волосы или поправляющей смявшееся платье. (При одной мысли об этом чувствуешь, что готов заплакать, зарыдать.)
Когда я начинал таким образом слишком много думать о нашей разлуке, я бросался к Люсьене, чтоб заключить ее в свои объятия, удостовериться, что она еще здесь, со мною. Или же, держа ее за руки, жадно оглядывал ее с головы до ног.
Но тогда мне казалось, что никогда я по-настоящему не обнимал ее, не прижимал к себе, не помешал ей быть разлученной со мной. И в силу некой непреодолимой логики обладание ее телом представлялось мне тогда самым сильным протестом против разлуки, самым высшим доказательством ее присутствия.
Таким образом, уже в этих движениях сердца физическая любовь находила повод взять совершенно неподготовленный реванш. Но она искала иного, более тонкого оправдания, которое произвело бы более сильное впечатление на ум.
В промежутках между этими припадками, когда я бывал охвачен и съедаем тоской разлуки, выпадали и более спокойные часы.
Разлука существовала еще только в мыслях. Люсьена по-прежнему была со мной. По-прежнему она была столь близкой и горячо любимой женой. Каковы бы ни были дальнейшие перспективы моей любви, какое бы освещение ни приняла разлука, мог ли я, покуда Люсьена была здесь, в живом свете ее присутствия, не ощущать всего ее существа, ее тела и не чувствовать тех вибраций, которые оно вызывало во мне? Во имя чего стал бы я отрицать это? Невольно мой взор скользил по ней. Моя жажда обожания и ласки тихонько спускалась с лица к более сокровенным частям тела, находила под одеждами свои привычные кумиры, все более нетерпеливо ожидая кровати, где их нагота снова бы восторжествовала.
И вот в то время, когда я мог бы упрекнуть себя в этих возвратах к плоти, как в слабости, как в маниакальном возобновлении дурной привычки, мечты, о которых я говорил, трудились над моим оправданием. Моя любовь была избавлена от необходимости подниматься в область разума. Сам разум шел ей навстречу, разливался по телу, притекал к нему, ко всем тем частям его, от которых я не мог оторваться. Куда только ни направлялись мои глаза, мои губы, всюду я встречал мысли Люсьены, ее умственные привычки, всю полноту ее существа. Ни один из моих поцелуев не мог заблудиться, разойтись с присутствующим всюду разумом. Рассыпаемые по нежным контурам, задерживающиеся в складках тела, поцелуи служили мне контактом со скрытой красотой, выражали мое пылкое желание обнаружить ее. Я тоже льстил себя надеждой дать в обмен этому женскому телу именно мысли, внедрить их в него со всем пылом моей страсти. И если я по-прежнему недоумевал, откуда единение тел добудет средства волшебно засыпать пропасть разлуки, то мне все же казалось, что внедряя в него мысли и разум, я позволяю ему пользоваться свойственными им преимуществами, и что во всяком случае пределы его власти перестают быть от этого столь беспощадно явными.




