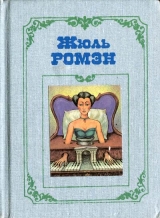
Текст книги "Бог плоти"
Автор книги: Жюль Ромэн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
По всей вероятности, я не позабыл о моем плане сделать Люсьену своей любовницей. Но он не оказывал влияния на мои слова. То, что в это мгновение складывалось во мне по отношению к ней, нельзя было назвать ни желанием, ни даже в полном смысле любовью – это было неподдельное и широкое товарищеское чувство. Ни одна из женщин, которых я до сих пор знал, не вызывала еще во мне такого чувства полного равенства и обильного духовного обмена. Радость, которую это мне доставляло, захватывала все мое существо. Семейство Барбленэ совсем стушевалось в моих глазах. Когда Люсьена встала, чтобы уходить, мне показалось, что у меня нет никакого основания расставаться со своим товарищем. Я тоже встал. Только гораздо позже я сообразил, что Барбленэ, наверное, рассчитывали на меня к обеду.
Мне кажется, что мое поведение по выходе из вокзала не отличалось особой скромностью, по крайней мере по отношению к Люсьене. Но тема, которой мы сразу же коснулись, была очень острой, так что мы не могли оборвать наш разговор на полуслове и разойтись в разные стороны. Люсьена прекрасно это поняла. Она повела меня кружным путем, плохо освещенным и грязноватым, но пустынным, где мы были гарантированы от разных встреч, досадных для нее в этом маленьком городке.
Речь шла как раз о моем приключении в семье Барбленэ, о слабости ко мне обеих девиц, о дошедших до Люсьены слухах и о мнении, какое она на основании всего этого составила обо мне. Так как она, по-видимому, также верила в возможность помолвки, то мне пришлось протестовать, оправдывать свое поведение, объяснять во всех мелочах создавшееся положение и вообще говорить о себе не переставая. Люсьена все время внимательно слушала меня. По временам она задавала мне в дружественной форме вопросы. Мне было приятно откровенничать с ней. Я лишь жалел, что у меня так мало тайн.
Я был слишком увлечен моими признаниями, чтобы думать о чем-либо другом. Но пока я говорил, чувства мои развивались с невероятной быстротой. Если бы я не давал им течь свободно, а принужден был выражать их, то весьма возможно, что сопротивление, оказываемое словами, замедлило бы их темп.
Люсьена нравилась мне все больше и больше. Все виды нежности рождались во мне один за другим, подобно флоре кристаллов. Моя приятельница понемногу превращалась в возлюбленную. По временам она говорила мне несколько слов, и я, не успев принять мер предосторожности, вдруг поддавался очарованию ее голоса. Или же световое пятно, неизвестно откуда взявшееся, точно листок, принесенный ветром, касалось ее лица, на мгновение освещало его. Я мог уловить тогда вынырнувшие из тени движение губ и глаз, откровенный взгляд, полную доверчивость и бесшабашность, соединенные с тонким выражением. Тогда и я становился олицетворением доверия и бесшабашности. Мне приходилось удерживаться, чтобы, пользуясь глухой улицей, не поцеловать Люсьену, но поцеловать в порыве нежности, где не было бы места ни желанию, ни эгоизму. О моих планах обольщения я вспоминал лишь с тем, чтобы укорять себя в них. И я был счастлив, что забыл о них и мог отдаться порыву великодушия. Привычный механизм предвидения и осторожности как бы перестал действовать во мне; мысль о будущем, и без того не слишком деятельная у меня, была чудесным образом парализована.
Несмотря на кружной путь, мы в конце концов все-таки очутились в центре города. И вот, когда мы увидели, что нам давно уже пора расстаться, кто-то прошел мимо нас и поклонился нам; то была старшая из барышень Барбленэ (самая страшная).
Для меня это было предупреждающим сигналом. В двух словах я дал понять Люсьене, что прекрасно сознаю щекотливость положения, в которое ее поставил, и смело беру на себя всю ответственность. Если бы она хоть слегка вызвала меня на объяснение или, вернее, выразила бы мне недоверие, я готов был тут же просить у нее руки и назначить день свадьбы. Но она, напротив, была настолько деликатна, что приняла мои слова как вспышку и рассталась со мной с таким видом, как будто ничего не произошло.
* * *
Я стараюсь быть кратким, но хотел бы еще больше сократить свой рассказ. Ведь не из-за удовольствия оживить эту скромную идиллию – как бы реальна она ни была – я отнимаю время от своих обычных занятий.
Пожалуй, было бы достаточно напомнить в двух словах об этих предварительных событиях, не беря на себя труд подробно о них рассказывать. Но тогда у меня осталась бы вот какая задняя мысль: «На первый взгляд обстоятельства, при которых я встретился с Люсьеной и связал мою судьбу с ее судьбой, равно как факты и даже чувства, которыми было отмечено начало наших отношений, не представляют ничего особенного. С виду все было как полагается. Но невозможно допустить, чтобы на самом деле ничего не произошло. Я не мог подойти к Люсьене впервые, начать знакомство с нею, видеть, как она живет, проводить свои первые часы с нею, не будучи восприимчивым к чему-то немного исключительному, не получив тем или иным способом предупреждения. Начало этой любви не могло походить на начало всякой вообще любви. Но следовало бы приглядеться ко всему этому поближе».
Для устранения задней мысли такого рода существует только один способ: произвести требуемую ею проверку и доказать, что она ошибочна [9]9
Когда я писал это, я еще не знал того, что написала Люсьена по поводу этих самых событий. Иначе я высказывался бы не с такой уверенностью. И вся эта часть моего труда показалась бы мне бесцветной. Я сохранил ее лишь в качестве документа.
[Закрыть].
* * *
На следующий день после этой прогулки я так мало чувствовал себя «предупрежденным», что еще немного и наступило бы полное отрезвление. Я думал о серьезности красивого жеста, который я сделал вчера, о цене моей свободы, которую только что скомпрометировал чуть не с полуслова, может быть, безвозвратно. Упрекал я себя также и в более отвлеченной форме: за то, что своими поступками до такой степени обнаружил свои намерения. Наивный школьник, казалось мне, лучше умеет владеть собой и более ловок, чем я.
Должен, впрочем, сказать, что эти сожаления не отличались большой убедительностью и длились недолго. Правда, я продолжал немного подсмеиваться над собой. Я преждевременно прощался с годами свободы и молодости, и сердце у меня порядком ныло. Точно я прощался с родными берегами, отправляясь в заманчивое плавание, от которого более проницательные товарищи отказались. Пусть. Я затевал глупость. Но в конце концов она не была лишена приятности и не заключала в себе ничего низкого.
Впрочем, я поступил бы совершенно иначе, если бы мне показалось, что Люсьена приняла ближе к сердцу, чем я сам, то, что произошло, или так или иначе воспользовалась своего рода обязательством, которое я готов был взять на себя. Другая бы на ее месте не преминула, например, написать мне на следующий же день письмо в двенадцать страниц, где, делая вид, что не может простить себе нашего неосторожного поступка, притворяясь, будто она только и думает об ужасно щекотливом положении, в которое я ее поставил, и несказанно жалеет о спокойной жизни девушки, зарабатывающей свой хлеб, достаточно ясно вывела бы заключение, что зло не непоправимо, ибо я обещал загладить его. И кто знает, быть может, пришлось бы еще прочесть postscriptum в таком роде: «Простите, мне не следовало бы говорить вам этого, но я положительно схожу с ума. Иногда мне вдруг хочется положить голову на вашу (могучую) грудь. И я дрожу от счастья, думая о (прелестном) гнездышке, которое мы себе устроим».
Призыв к порядку в таком стиле или какой-нибудь аналогичный шаг развязали бы мне руки. Все приключение я свел бы к его настоящим размерам, которые были очень скромные. Я сказал бы себе, что дом Барбленэ был положительно полон ловушек; что если и была совершена неосторожность, то доля ответственности за нее падает и на Люсьену; и что в общем ничего серьезного не произошло. Так как слепое уважение к легкомысленно данному слову всегда казалось мне бременем, навязываемым честным людям (мне не раз пришлось пострадать из-за этого), то я думаю, что у меня хватило бы силы уехать с марсельским поездом.
Но я не получил никакого письма. Люсьена не оказалась, якобы случайно, на главной улице Ф***, когда я гулял там после завтрака. Более того: я почувствовал, что ничего подобного не произойдет и что если я не подам признаков жизни, то меня и не подумают разыскивать; что, встретившись со мной впоследствии у Барбленэ или в другом месте, Люсьена выказала бы по отношению ко мне лишь едва уловимое презрение.
Кончилось тем, что все мои размышления привели к восторженному панегирику Люсьене, к еще большей уверенности в любви к ней и желанию отбросить прочь всякую осторожность.
На следующий день, немного позже двенадцати, я двинулся в путь к дому Барбленэ. Направлялся я туда с заранее выработанным планом. Я постараюсь застать г-жу Барбленэ одну или под каким-нибудь предлогом отведу ее в сторону. Я расскажу ей все совершенно откровенно. Я спрошу ее мнение о Люсьене и что она знает о ней из того, о чем мне еще не рассказывала. Если все пойдет хорошо, я попрошу ее оказать мне услугу, переговорив с Люсьеной и устроив мне с нею новое свидание. Я готов был даже дать понять г-же Барбленэ, что эта встреча могла состояться только у нее и что маленький вчерашний инцидент, о котором, может быть, с усмешечкой рассказала ее дочь, имел чисто случайный характер.
Все сложилось так, как я этого желал. Г-жа Барбленэ оказалась одна. Ее муж был в мастерской, а дочери пошли в гости. Мы могли спокойно разговаривать. Но г-жа Барбленэ обладала удивительной способностью. Она оказывала парализующее действие на конкретные представления, точность мысли и речи. Во время разговора не только не было возможности вызвать у нее ясно формулированные фразы, но и ее собеседник начинал лепетать нечто бессвязное. Ее отвращение к точному и прямому смыслу слов было положительно заразительным. Попадая в окружавшую ее зону, вы невольно проникались убеждением, что мысли человека по существу своему непристойны. Вся задача заключалась в том, чтобы найти для них достаточно просторные, хотя и откровенные, может быть, даже возбуждающие одежды. (Впоследствии я много думал об этом глубоком инстинкте г-жи Барбленэ, о мировоззрении, которое он предполагает, о его возможных положительных сторонах. Я сближал г-жу Барбленэ с французскими классиками, с дипломатами, с примитивными народами, которые тоже принимают иногда изумительные предосторожности по отношению к обнаженной мысли.)
Все это, впрочем, не помешало г-же Барбленэ как нельзя лучше уловить смысл предпринятого мной шага и не остановило течения разговора. Для этой дамы общие фразы и скользкие намеки не являлись уловками, такой манерой говорить, чтобы ничего не сказать, – нет, это был у нее особый технический прием. Под покровом искусственного тумана ей удавалось довольно легко менять свои позиции.
Таким образом, я уехал с запасом успокоительных сведений. О Люсьене я узнал немного, но то, что я узнал, было благоприятно и получено из хорошего источника (упомянутой мной преподавательницы лицея, подруги детства Люсьены). Все наблюдения над молодой девушкой говорили в ее пользу. В отношении состояния было благоразумно ни на что не рассчитывать в настоящее время. Но семья ее, по-видимому, была зажиточной. И не было никаких оснований считать, что, выйдя замуж, Люсьена не воспользуется своими правами в отношениях с матерью. К моему большому удивлению, г-жа Барбленэ как будто позабыла, что у ней самой были две дочери-невесты и что одну из них предполагалось пристроить мне. По-видимому, никакая задняя мысль не влияла на беспристрастие ее мнений. Не выказывая особенного энтузиазма по отношению к моему плану, она в то же время вовсе не находила его нелепым. Привычка Люсьены к труду, ее уменье быть экономной и большая выдержка стоили в ее глазах приданого, особенно в такое время, когда капитал не является величиной надежной. У меня получилось впечатление, что видя неизбежность события, г-жа Барбленэ считала неблагоразумным противиться ему и даже охотно брала его под свое покровительство.
Впрочем, если бы впоследствии мне пришлось рассказывать об этом в качестве свидетеля, я даже для спасения жизни не мог бы привести в подтверждение своих слов ни одной фразы г-жи Барбленэ. Я понял. Но не знаю, как я понял. Во всем разговоре был один только достаточно определенный пункт. Я должен был пригласить на следующее воскресенье г-жу Барбленэ и ее дочерей прокатиться в экипаже. Мы поедем в Ф***, сделав остановку у Нотр-Дам-Д’Эшофур, где приглашенные мною дамы прослушают обедню. Мне не возбранялось предположить, что и Люсьена примет участие в этой прогулке. Но эта подробность будет улажена без меня.
* * *
Управляемые такими опытными руками события не подвергались опасности сбиться с пути. Предполагаемая прогулка действительно состоялась. Люсьена принимала в ней участие. Во время этой прогулки обе стороны имели возможность объясниться в своих чувствах и высказать свои виды на будущее. В тот же вечер я и Люсьена обедали у Барбленэ в качестве жениха и невесты, любви которых оказывается покровительство. А семь недель спустя состоялась наша свадьба.
За этот промежуток не произошло ничего подлинно замечательного. Еще раз повторяю: если бы я рассказывал только для удовольствия, вызываемого рассказыванием или воспоминаниями, у меня не хватило бы духу пожертвовать событиями, показавшимися мне, когда я их переживал, редкими и восхитительными. Но они не содержат ничего более замечательного, чем предшествующие, и ничего не прибавили бы к предпринятому мной изложению. До нашей свадьбы Люсьена была для меня существом наиболее успокоительным и менее всего таинственным. Накануне свадьбы, как и за два месяца перед тем, у меня было такое чувство, что я совершаю очаровательное, но умеренное безрассудство. Мне нравилось открывать у Люсьены в разнообразном освещении повседневной жизни мельчайшие подробности всевозможных обаятельных качеств. Моя любовь к ней, разумеется, не переставала развиваться и становилась все более глубокой. Я понимал, что она была на вершок от настоящей страсти и могла бы внезапно приобрести ее силу, если бы Люсьена была моей любовницей или будущей любовницей, а не невестой и притом невестой официально признанной (скажем даже: найденной) семьей Барбленэ. Но предстоящая женитьба, сдержанность, которую я решил проявить за все время жениховства (я не хотел нарушать условностей), хотя и не расхолаживали меня, но не позволяли мне обнаруживать нетерпение.
Кроме того, я уже не был юношей и не обладал девственным сердцем. Я был способен смаковать чувство, даже отдаться ему и действовать под его влиянием, не теряя при этом ясности мышления. Я не мог забыть, что все это приключение было очень далеко от прогнозов, которые я делал относительно самого себя. Мой живой характер и влечение к риску не давали мне слишком задумываться над ожидавшими меня материальными затруднениями. Я бросал на них самый беглый взгляд. Но я гораздо болезненнее относился к способу, каким обрывалась моя молодость. Дурацкое выражение «остепениться» преследовало меня, как назойливая муха. Я невольно сопоставлял упадок энергии, заставивший меня отказаться от честолюбивых мечтаний о научной работе и заняться скромным ремеслом, с тем легкомыслием, которое я проявил в не менее важном случае. Я находил тут материал для общего суждения о моем характере и о стиле моей судьбы. Гордиться этим суждением не было оснований.
Правда, подобные мысли преследовали меня в отсутствие Люсьены. Как только она появлялась, мне внезапно начинало казаться, что во время моих размышлений в одиночестве я допустил какую-то огромную, хотя и неуловимую ошибку. В ее присутствии все отношения между ценностями менялись! И даже если бы мне вернули свободу решения, я только повторил бы: «Пусть она будет моей женой!»
Если хотите, это было своего рода предупреждением. Но не помню, чтобы я получал и другие в то время.
V
Наша свадьба была назначена на 21 июня. Так как я был в отпуске с последних чисел февраля, то мне оставалось еще два месяца свободы, которыми мы с Люсьеной могли воспользоваться. Уже одно это соображение заставило бы меня ускорить ход событий. Что же касается самой даты, то нам показалось забавным избрать день летнего солнцестояния.
Первый месяц мы должны были провести в путешествии, а затем заняться устройством квартиры в Марселе. Я очень плохо знал Францию. Люсьена тоже. Денег у нас было мало, и мы хотели сберечь их, чтобы обзавестись хозяйством.
Поэтому мы решили совершить путешествие по Франции, переезжая по железной дороге из города в город и останавливаясь в некоторых местах на короткое время с тем, чтобы к концу июля вернуться в Марсель.
Не могу сказать, чтобы вопрос о материальной стороне этой поездки не беспокоил меня. В обыденной жизни я плохо устраиваюсь. Начать с того, что я не умею быть расчетливым. Не то, чтобы я был расточителен, но я не разбираюсь как следует в системе цен, которая навязывается публике. Она поражает или, вернее, пугает меня. Я подчиняюсь ей, не пытаясь ее постигнуть, и, как в присутствии мало изученного явления, не решаюсь рассчитывать наперед. Я трачу деньги вслепую. Моя служба, освободив меня от забот о личном бюджете, еще более развила во мне эту беспомощность.
Но уже за неделю до свадьбы я совершенно успокоился. Я увидел, что Люсьена с озабоченным видом разглядывает железнодорожные расписания и различные указатели, делает приблизительные подсчеты, в которых, к моему восхищению, ничего не было забыто, даже отельные омнибусы и открытые письма (особенно семье Барбленэ), и заказывает круговые билеты по самому остроумному маршруту, дававшему нам возможность избежать разных хлопот и, главное, гарантировавшему возвращение в Марсель, даже если бы пришлось под конец ночевать в поезде и питаться апельсинами.
Глядя на нее, я радовался. Я говорил себе: «Эта прелестная девушка, способная поддержать самый тонкий разговор, обладающая редкой восприимчивостью и исключительным пониманием красоты и величия, таит в себе решительную и практическую женщину. Некоторыми своими качествами она напоминает тип француженки, встречающейся в самой разнообразной обстановке, начиная с мелкой буржуазки, оживляющей своей непрестанной деятельностью и неистощимой находчивостью маленькую лавочку, и кончая „женщиной-политиком“, в старину дававшей советы королям и министрам».
Раньше я никогда не думал о женитьбе, а следовательно и о подходящем для меня типе жены. Если бы все-таки меня стали уверять с непререкаемой убедительностью, что я когда-нибудь женюсь, я довольно ясно представил бы себе какое-нибудь взбалмошное создание, дочь легкомысленных родителей, с ничтожным приданым, привыкшую к безделью и к дешевой роскоши, никогда не знавшую, как застегнуть наволочку и сколько стоит яйцо: два су или два франка. Я не хочу сказать, что это был мой идеал. Вероятно, это была бы моя гибель.
Случай, отвративший «вероятную гибель», чтобы поставить на моем пути такую женщину, как Люсьена, казался мне, конечно, весьма благожелательным, но слишком парадоксальным. Мне случалось иногда про себя смеяться над ним. Глядя на Люсьену, я добавлял: «Она будет управлять мной, но незаметно, потому что она очень умна. И без всякого чувства превосходства, потому что в ней много нежности, а также потому, что она очень женственна и таит в себе глубокое и традиционное чувство подчиненности женщины мужчине. Если бы даже опыт открыл ей, что она выше меня во многих отношениях, в ней сохранилось бы убеждение, что ее преимущества несущественны и тонут в блеске какого-нибудь одного моего воображаемого дарования. Так, например, я уверен, что ее талант пианистки, несомненный и многообещающий, показался бы ей второстепенным по сравнению с моими научными способностями, которые она приписывает мне без всяких оснований и которые, во всяком случае, являются не более, как воспоминанием молодости».
Другой вопрос, который я не запрещал себе ставить, занимал меня еще больше: «Будет ли Люсьена чувственной женой? И должен ли я вообще желать, чтобы моя жена была чувственной?» Относительно второго вопроса я колебался недолго. Жена с холодным темпераментом может подходить человеку, женившемуся без любви, ради денег, или чтобы иметь полдюжины детей, которых он решил народить, при условии пользования радостями любви где-нибудь на стороне; или же человеку пожившему, который ищет удовлетворения больше в разговорах. Я же собирался жениться молодым, не рассчитывая на деньги и не для выполнения обязанности, а исключительно с намерением вести честную и открытую игру. Не имея призвания к семейной жизни, я тем более был расположен извлечь из брака ту скромную долю счастья, которая в нем заключалась. И когда, забывая о Люсьене, я старался определить достоинства хорошей жены вообще, то всегда останавливался в заключение на следующих трех: «Веселая, верная, чувственная». (Конечно, и умная. Но это уже роскошь.) Иногда даже последнее из этих трех главных достоинств казалось мне самым существенным.
Была ли Люсьена чувственной? Или без труда станет такой? Я не принадлежу к числу тех хитроумных людей, которые якобы с первого же взгляда определяют это относительно любой женщины. Бывали минуты, когда у Люсьены загорался взгляд, дрожали губы и ноздри, красиво поднималась грудь, как будто выдавая предрасположение к сладострастию и, признаюсь, вызывая во мне желание поскорее убедиться в этом на опыте. Но в другие минуты я не знал, что думать. Я не доходил до того, чтобы подозревать ее в полной холодности, болезненном явлении, с которым так же трудно иметь дело, как и с исступлением. Но эта красивая вдумчивая девушка, наверное, размышляла о многом, выработала себе собственную сдержанную и основательную философию. И, не требуя умерщвления плоти, эта философия могла относиться с некоторым неодобрением к физической любви. Разве не случается нам, мужчинам, даже самым пылким, проникнуться отвращением к плоти, внезапно заметить не то, чтобы грязный, но протоплазматический характер наслаждения и почувствовать влечение к доктринам, которые обосновывали бы теорию нашего отвращения (отняв у него все, что в нем есть случайного и слегка комического)? У женщины среднего темперамента, не так открыто возбуждаемой телом, как это бывает у мужчины, и не столь привыкшей уступать ему, такое настроение может стать гораздо более устойчивым. Ничего не запрещая, ум не даст должного согласия на то, чтобы сладострастие вошло в привычку. Я вспоминал женские лица на средневековых статуях или картинах, про которые никто не сказал бы, что они холодные или сухие, ни даже что они свидетельствуют о противодействии инстинкту. Но они безмолвно говорят о раз навсегда признанной иерархии земных благ и радостей, и трудно допустить, чтобы ласки мужчины способны были опрокинуть ее. А если бы в конце концов и были способны, им не дали бы для этого времени. Вспоминал я также, как, гуляя по Парижу, я заходил иногда около четырех часов вечера в какую-нибудь церковь вроде св. Сульпиция или св. Клотильды в старом аристократическом квартале. Среди старых дев, подвергнувшихся явно выраженной профессиональной деформации, почтенных седовласых трясущихся старух и нескольких прыщеватых дурнушек, случается увидеть иногда коленопреклоненную молодую женщину, красивую и полную жизни, благочестие которой не показное и не скрывает в себе ничего подозрительного, но которая просто пользуется этим местом для удовлетворения своей духовной потребности. Вот таких именно женщин я иногда представлял себе на брачном ложе. Я охотно допускаю, что некоторые из них, без всякого перехода, как бы машинально проявляют основательный аппетит к плотским наслаждениям и с увлечением пользуются представляющимся случаем и законно-дозволенным мужчиной, совершенно позабывая о полумраке церкви, где они несколько часов тому назад предавались размышлениям: допускаю, что другие, наоборот, думают и об этом полумраке и о молитвах, возбуждаются ими, хотят вознаградить себя за нравственную чистоту и церковные свечи и, чтобы устранить всякие сомнения в том, что акт супружеской любви есть грех, усложняют его всевозможными изощрениями похотливой фантазии; допускаю, что третьи, плохо поддержанные в этой изобретательности своими мужьями (хилыми, приведенными в замешательство или более простодушно благочестивыми) или уверенные, что грех между супругами всегда отпускается и служит плохим материалом для исповеди, идут искать у любовника сладострастия более высокой пробы; допускаю, что четвертые, наоборот, всходят на ложе вздыхая, как на операционный стол, отвращают свою мысль от грустных обязанностей, подчинение которым превращает их тело в орудие унижения, и так явно обнаруживают свою покорность неисповедимой воле божией, что муж тотчас же спешит завести знакомства с модистками и машинистками, а сами они подготовляют себе к пятидесяти годам печальную жизнь в одиночестве. Но лучше всего я представляю себе тех из них – самых красивых и самых утонченных, – которые, если любят своего мужа, приносят на супружеское ложе только милое обхождение и услужливость, но бывают невольно удивлены, что эти движения имеют такую ценность для мужчины, смотрят на восторги, вызываемые у мужчины удовлетворением его желания, со снисхождением и даже с некоторой жалостью и прилагают все старания, чтобы не показать человеку, которым они восхищаются в других отношениях, каким он становится в их глазах ребенком и животным. И всем дальнейшим своим поведением они всячески стремятся дать понять мужу, что уважение к нему от этого не убавилось и что они даже тронуты проявлением его чувственности, но в то же время очень признательны ему за то, что он любит их по другим причинам.
Вот что по временам я боялся найти в Люсьене: не холодность, но отсутствие убежденности; физическую сдержанность, как вполне естественное, ничуть не насильственное следствие известного благородства ума.
* * *
Некоторое время мы колебались относительно места, где должна была состояться свадьба. Г-жа Барбленэ советовала Париж, так как там жила мать Люсьены, чтобы не подчеркивать полуразрыва моей жены с ее семьей. Люсьене это было, по-видимому, не по вкусу. Но еще менее ей хотелось выставлять себя напоказ в маленьком городке перед своими учениками и ученицами. В конце концов она согласилась на мое предложение. Ф***, в некоторых отношениях заключавший в себе, как и все курорты, что-то комическое, казался мне вполне подходящим местом для свадьбы. Сопряженные с бракосочетанием церемонии должны были принять там оттенок некоторого юмора, в котором они так нуждались.
В то же время мы получали возможность пригласить лишь нескольких необходимых лиц. И старшая из барышень Барбленэ могла с большим правдоподобием выдумать в этот день сильную мигрень, которая лишала ее возможности выехать из дому. Другое преимущество заключалось в том, что все приглашенные уехали в пять часов. В этот же час уехали и мы, собираясь сделать в Руане первую остановку на нашем пути.
В дороге, затем за обедом в отеле, не переставая заниматься Люсьеной, я все время думал о новых условиях нашей жизни, о моей роли и об упомянутых выше опасениях. Даже в собственных мыслях трудно назвать брачную ночь иначе, как ее собственным именем. Когда слово это произнесено, то перестаешь так свободно, как хотелось бы, распоряжаться сопровождающими его представлениями, из коих ни одно, конечно, нельзя назвать мрачным, но вместе с тем и ни одно нельзя считать застрахованным от вульгарности. Как говаривал один мой приятель, у ангелов брачной ночи всегда лица шаферов.
Я прекрасно знал, что, отдаваясь нарастающему чувству страстной нежности, очень скоро забываешь смешную сторону подобных положений и чувствуешь одно только своеобразное опьянение. Но я никогда еще не придавал нашим отношениям подобного характера, и мне не хотелось, чтобы Люсьена подумала, что я поступаю применительно к обстоятельствам.
Кроме того, самое главное, может быть, не в том, чтобы усыпить собственную иронию. Если ослепление, в которое впадаешь таким способом, не сообщается другому, оно становится опасным. Можно делать большие глупости с большим лиризмом. Не принимая трагически рассказов писателей про недоразумения, рождаемые иногда этой пресловутой брачной ночью, я тем не менее не относился к ним пренебрежительно.
Нам отвели довольно красивую комнату на мансарде. Два небольших и чистых окошка вдавались глубоко в стену. Глядя на обои с разводами, на драпировку и мебель, можно было подумать, что находишься где-нибудь у друзей, на вышке старинного буржуазного дома. Несколько преувеличенная традиционность нашего свадебного путешествия получала от самой обстановки как бы поддержку и сочувственное оправдание.
Я сказал Люсьене:
– Тебе не противна комната?
(После помолвки, из чувства товарищества, мы иногда говорили друг другу «ты». Раз даже я обратился к Люсьене на «ты» при г-же Барбленэ. Мы решили, что окончательно перейдем на «ты» после отъезда из Ф***, сейчас же после кондукторского свистка.)
– Напротив, она мне очень нравится. Это как раз то, что составило бы мое счастье, когда я жила одна. Не вижу только, где бы поместился рояль.
– Послушай, милочка. В течение двух месяцев мы усердно отдавали дань условностям. Если гений общества недоволен нами – он неправ. Но мы с ним расквитались. Он не может навязать нам ровно никакой программы. Решено: мы начинаем так называемое свадебное путешествие, и в частности нам предстоит пресловутая брачная ночь. Так вот, я не предлагаю тебе провести ее в занятиях математикой, потому что мы любим простоту и никого, даже нас самих, не стремимся удивить. Но вполне возможно, что ты устала. Возможно также, что тебе было бы неприятно, если бы любовь сразу переменила свой характер только потому, что начальство дало свою визу. Что ты скажешь на это?
Я глядел на нее. Люсьена выслушала меня без заметного удивления и без смущения. Она слегка улыбалась с внимательным, но непроницаемым видом.
– Я спрашиваю себя, – продолжал я, стараясь подойти ближе к цели, – не следовало ли бы нам стать любовниками немного раньше, например, в ту неделю, когда ты комбинировала наше круговое путешествие? – сказав это, я сделал паузу и затем весело добавил: – Это моя вина.
Губы и веки Люсьены чуть заметно дрогнули.
– Я скажу тебе еще другое. Спать в одной кровати с чужим человеком, особенно с мужчиной – не говоря уже обо всем другом – не так-то легко, и чтобы к этому привыкнуть, нужен какой-нибудь переход. Ведь даже просто жить с кем-нибудь далеко не легкое дело. Возникает множество новых рефлексов. И если начать жить вместе в пять часов пополудни, то, быть может, будет слишком поспешно к десяти часам вечера дойти до физической близости, которую обусловливает кровать в один метр тридцать сантиметров, ибо я думаю, что в этой кровати не больше, чем метр тридцать сантиметров.




