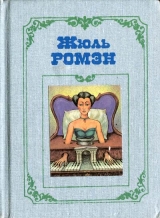
Текст книги "Бог плоти"
Автор книги: Жюль Ромэн
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Она взглянула на кровать и усмехнулась. Так как я не знал, не становлюсь ли я немного смешным, желая быть ироничным, то я и преувеличил немного свое хладнокровие и интеллектуальное «превосходство».
– Я прекрасно знаю, что в конце концов все это сводится к вопросу моды и что в век квантследовало бы уметь сразу же привыкнуть спать с другим.
Легкая усмешка исчезла с лица Люсьены. «Она находит меня слишком легкомысленным, – сказал я себе, – отпускающим шутки невпопад, может быть, претенциозным». Я продолжал самым безыскусственным, самым искренним тоном:
– Видишь ли, милая, тебе нечего заботиться об удовольствии, на которое рассчитывал, которое пообещал себе сегодня же стоящий перед тобой человек, еще порядочный юнец. Единственный вопрос, который тебе следует задать себе, такой: «Не хочется ли мне, Люсьене, спокойно поспать еще и эту ночь? Милый товарищ, путешествующий со мной, отлично сумеет устроиться на диване. Для моряка это очень комфортабельная постель. И так как он человек воспитанный, то пока я буду раздеваться, он спустится вниз выкурить папиросу. А потом… Ну, что ж, потом будет видно. Быть может, наступит день, когда я найду очень приятным, чтобы он вертелся вокруг меня, пока я раздеваюсь, или даже сам занялся этим делом».
Люсьена глядела на меня. Я взял ее за руки. Она снова улыбнулась, даже рассмеялась. Потом губы ее слегка задрожали. Она протянула их мне.
– Ты ужасно забавный, Пьер.
Но звук ее голоса выражал скорее волнение и замешательство.
– Должно ли это означать, милочка, что я нелеп и смешон в твоих глазах?
– Ничуть. Наоборот, ты страшно милый.
– Пойти мне выкурить папироску?
Так как она не знала, что ответить, а ее взгляд и лицо выражали волнение, то я быстро поцеловал ее и вышел из комнаты.
Спустившись вниз, я уселся в углу гостиной отеля, не чувствуя большого раздражения и в общем не очень недовольный собой. Другая на месте Люсьены могла бы ошибиться насчет моих истинных чувств, увидеть в моих словах и поступках оскорбительный недостаток желания или слишком развязный способ прогнать поэзию брачной ночи. Но два месяца близкого знакомства научили нас очень тонко угадывать малейшие оттенки намерений друг друга. У нас уже были ключи для взаимного понимания. С другой же стороны, каковы бы ни были ее сведения и мысли о физической любви, она была слишком проницательна для того, чтобы не отнестись скептически к якобы неукротимому пылу мужа в брачную ночь и не считать его явлением того же порядка, что обручальные кольца или букеты, обусловленным скорее общепринятыми взглядами, чем восторгами перед избранной женщиной. Во всяком случае, она, очевидно, не придавала значения этой условности. И я был уверен, что она не будет на меня в претензии за то, что я дал ей возможность не стесняться.
Я оставался в отсутствии добрую четверть часа. Поднявшись наверх, я постучался в дверь. Послышалось «да», щелкнула задвижка, и я вошел. Люсьена потихоньку отступила от двери к комоду, стоявшему напротив, и, повернувшись лицом ко мне, прислонилась к нему. Она надела домашнее платье, которое чуть открывало ее плечи и грудь, придавая всему ее телу гибкость и непринужденность, слегка напудрилась и подрумянилась. Вся комната была наполнена запахом ее духов. Она глядела на меня или, вернее, на то место, где я находился.
Я подошел и поцеловал ей руки.
– Как ты красива, Люсьена! Какая красавица моя жена!
Я произнес эти слова медленно, с явной, с наивной искренностью. Люсьена покраснела от удовольствия и опустила глаза. И в то время как я снова наклонился, чтобы поцеловать ей руки, она сказала мне почти шепотом:
– Послушай, оставайся так. Не гляди на меня… это слишком бы огорчило меня. Знаешь ли ты, что уже давно я много думала о сегодняшнем дне…
– Как будто я не думал еще больше тебя и с большим нетерпением!
– Нет, не гляди на меня. Нужно, чтобы у меня хватило смелости высказать тебе мою мысль. Я уверена, что не могла бы сказать этого никому, кроме тебя, даже будь я женой другого. Но ты сам приучил меня быть правдивой. И ты был таким милым и говорил со мной так хорошо…
– Говори же, дорогая! – (я был очень встревожен).
– Видишь ли… мне бы хотелось думать об этом не больше, чем думают другие, хотелось бы, чтобы все сделалось само собой… Я немного стыжусь себя…
– Стыдишься! Отчего же!
– Потому что мне кажется, если бы я высказала мою мысль знакомым женщинам в том виде, как она мне сейчас представляется, они бы с удивлением посмотрели на меня. Да. Может быть, даже они были бы шокированы.
– Это невероятно. Когда другие женщины будут разговаривать с тобой не как с девушкой, а как с женщиной, ты увидишь, что их довольно трудно шокировать.
– Ты не так меня понял. Речь идет не об их добродетели и не об их поступках, но о том значении, которое они придают… Видишь ли, я устрашена важностью, которую я придаю этому теперь, да, именно теперь, когда момент приближается. Я боюсь, что, может быть, это ненормально… Ах, зачем ты заставил меня говорить!..
Я сам хорошо не знал, по какому пути направить ее признание, ни даже как его понимать. Ее грудь вздымалась почти тревожно. Я начинал опасаться, уж не совершалась ли в ней какая-то напряженная работа ума, вызвавшая обострение чувствительности. Я осторожно притянул ее за руки, усадил на диван и сам сел рядом, оставаясь по-прежнему почтительно нежным. Набравшись мужества, я сказал:
– Старая мудрость действительно учит, что об этих вещах не нужно слишком много думать, а лучше просто им отдаваться. Это один из тех случаев, когда природа только и ждет, чтобы позаботиться о нас. Если есть любовь, все становится удивительно простым. Не беспокойся ни о чем. Ты сама увидишь.
И я улыбнулся, лаская ей руки.
– Пьер, нужно, чтобы ты понял. Прежде, когда мне случалось думать о замужестве, я прекрасно знала, что в нем есть и физическая сторона. Однако, она мне казалась лишь добавлением к остальному, разумеется, не мелкой подробностью, но все же не больше, чем одной из сторон новых условий жизни. И я по-прежнему убеждаю себя, что таким именно и должно быть разумное мнение. Но этого-то я больше не чувствую. Теперь, когда я думаю об этих вещах, когда повторяю себе слова: «замужество», «замужем», «мой муж» (произнося их, она опустила голову, и в голосе ее было столько теплоты, что эти старые избитые слова точно пронизали меня насквозь), то, уверяю тебя, мне становится немного страшно.
– Страшно? Чего? Моя дорогая Люсьена!
– Страшно того, как я чувствую эти слова. Точно в них есть только один смысл… (при этих словах вся кровь прихлынула ей к лицу, и грудь ее восхитительно заколыхалась), точно замуж выходят только для этого, а все остальное лишь пустой предлог. (Она отвернула голову, как будто желая спрятаться.)
– Но знаешь ли ты, что слышать от тебя такие мысли, ведь это прелестно, упоительно! А что они доказывают? Что раньше ты была спокойной молодой девушкой, трезво обсуждавшей различные вопросы, а теперь стала милой влюбленной женой, у которой молодость так и брызжет из всех пор. Но будь уверена, моя дорогая, моя славная женушка, такая красивая, такая трепещущая, что твое признание может только привести в восторг молодого и влюбленного мужа и что я радуюсь, вызвав у тебя это признание… хотя… конечно, я и сам заметил бы это. Но время не потеряно напрасно; важно не столько торопиться, сколько ничего не испортить. И для мужчины, который всегда немного боится не понравиться, страшно ценно почувствовать себя успокоенным… Но ты и не подозреваешь, моя Люсьена, что две таких фразы в твоих устах, больше опьяняют, чем шесть бокалов шампанского.
Я стал покрывать поцелуями ее плечи. Она улыбалась, немного успокоенная, но все еще не смея взглянуть на меня. Краска не покидала ее лица и охватившее ее глубокое волнение не прошло, не улеглось после моих слов и владело еще ее умом. Она немного высвободилась и сказала:
– Пьер. Я счастлива, что не слишком… не слишком удивила тебя… Но раз уже начала говорить (как это у меня хватило смелости?), нельзя останавливаться на полпути… иначе лучше было бы и не начинать. Слушай. Раз уж не слишком чудовищно придавать этому столько значения и искренно допускать, что в данный момент ничего не может быть важнее, то у меня такое впечатление, что в моей жизни я самым старательным образом подготавливал к различным вещам, не имевшим и десятой доли такого значения, и всегда считала необходимым тем серьезнее подготавливаться, чем серьезнее дело… Ну, так вот, говорю себе, что я не подготовлена.
– Зачем тебе мучиться, милочка, и что ты знаешь об этом? Тут нет никакого сравнения, никакого прецедента, которые чего-нибудь стоили бы. Это чудесная уника, нечто ни с чем не сравнимое. И красивая молодая женщина, как ты, приступает к этому, сама того не зная, вполне подготовленной, тоже чудесным образом.
– Мне бы так не хотелось… не зная этого, испортить себе все…
– Как будто ты можешь это! И как будто ты, в сущности, не подготовлена! Впрочем, вся эта процедура с помолвкой, которую мы свято выполнили, весь этот ритуал постепенно растущей интимности, все это, в сущности, и есть подготовка. Человечество не всегда так глупо, как кажется.
Она взглянула на меня и отвернулась:
– Как я счастлива, что тебе не стыдно за меня, когда мы говорим об этом! Мне сильно сдается, что это такие вещи, о которых люди избегают говорить. Они их делают, вот и все. Выходит, как будто бы их ум заявляет: «Не заставляйте меня замечать это. Я закрываю глаза».
Она сделала резкое движение.
– Послушай, Пьер. Мне кажется, что я хорошо прочувствовала то, о чем я думаю. Мне кажется, что я не могла бы перенести плотскую любовь даже с тобой, если бы у меня было впечатление, что я только позволяю ее себе, терплю ее. Мне необходимо принять ее полностью. Понимаешь ли ты меня? Единение с тобой… (добавила она глухим голосом) единение наших тел… или это так прекрасно, что только об этом я могу думать, или это безделица, и тогда я бы не могла этого вынести. Я не принадлежу к числу женщин, для которых это является развлечением. Я ни капельки не легкомысленна. Если бы в то время, когда я говорила тебе о важности этого для меня, я почувствовала, что ты смеешься надо мною, говоришь про себя: «Бедняжка! До чего она раздула самую обыкновенную вещь!» может быть, я со слезами убежала бы от тебя.
Я стал на колени перед ней. Она увидела, что мой взгляд с жадностью и восхищением остановился на ее груди: так были прекрасны ее изгиб, движения, ее поднимавшие. Она поднесла к груди правую руку. Сначала рука оставалась неподвижной, между тем как грудь порывисто поднималась. Потом я увидел, как рука эта, имевшая необъяснимое сходство с ее лицом, прижалась к верхней части груди, сделала слабое движение, заколебалась, ободрилась и, наконец, внезапно решившись, с ловкостью руки пианистки раскрыла верх платья, откинула его и высвободила плечи. Затем, не останавливаясь, прогнав всякие колебания, развязала ленточку, которая поддерживала рубашку, и движением туловища заставила соскользнуть ее вниз вместе с платьем. Две груди показались из складок материи, как из пены. Я еще так боялся оскорбить ее грубым обращением, что нашел в себе силу сдержать мой порыв к этому великолепному телу.
И когда замирало движение ее стана, она сказала полным внутреннего огня голосом, который внезапно у нее появился.
– Мой муж! Твоя Люсьена верит тебе. Ты успокоил ее. Она думает, что ты не солгал, что она может положиться на тебя, может войти с тобой в царство плоти, не думая ни о чем другом, погрузиться в него с тобой. Мой муж…
И когда она склонилась ко мне, коснулась руками моей шеи, ее дивные груди приблизились своими концами к моему лицу, лицо мое ринулось к ним в порыве энтузиазма, столь мало эгоистичного, почти безличного, что его можно было бы назвать религиозным. Я принялся следить за их округлостью, ощущать и запечатлевать их форму, я отыскивал начало и малейший изгиб их линий частыми поцелуями.
Я перевел дух. Я оторвал свое лицо. И в то время, как мои руки гладили тело, покинутое моими губами, чтобы не дать ему почувствовать холода прерванных ласк, я смотрел. Иногда, чтобы лучше разглядеть, я отнимал руки. Вдруг мне показалось, что мое нетерпение пропало, что не было больше и желания, с которым надо бороться, и что я мог часами оставаться на коленях в ненасытном созерцании. Точно древняя сексуальная магия вызывала мой экстаз. Думаю, что настоящий мужчина не может видеть прекрасные обнаженные груди молодой женщины, не впадая в своего рода оцепенение, в одно и то же время и мучительное и сладостное, которое останавливает движение ума, уничтожает все другие мысли и необычайно упрощает мир, водружая посредине его в ослепительной зоне двух этих милых идолов-близнецов.
Но у меня, стоявшего на коленях перед обнаженным станом Люсьены, к этим древним чарам присоединялись еще и другие силы, еще и другие основания. Я любовался этими совершенными грудями подобно прохожему в Венеции, который, выйдя на площадь, любуется внезапно открывшимся перед ним куполом, я восхищался ими подобно математику, которому неожиданно удалось выразить графически какую-нибудь формулу. Но я взглянул на лицо Люсьены. Ее несравненная красота была как будто озарена отблеском розового огня. Глаза лучились. Губы мягко приоткрывались дыханием. Но черты лица не были искажены ни малейшим движением, на нем не было и следа той внутренней боли, которую мы сами причиняем себе, того обезображивающего злого выражения, которым дурман страсти так часто отмечает лицо женщины, внезапно покинутое разумом. Никогда лицо Люсьены не было более благородным. Никогда ум не отпечатлевался на нем более явственно. Ее опьянение похоже было на восторженное внимание. Для меня было совершенно очевидно, что женщина, открывшая мне свою грудь, не была ни похотливой самкой, ни порочной девкой с издерганными нервами, таившейся до сего времени в Люсьене. Это была сама Люсьена, вся она, гордая, умная, утонченная, моя Люсьена, легко воспринимающая самые возвышенные мысли, мой товарищ во время прогулок, моя собеседница в долгих разговорах, моя музыкантша. И при мысли об этом, перед выступающими грудями, концы которых ощупью искали моих губ, я был точно охвачен исступленной благодарностью. Я чувствовал в себе такое изобилие поводов обожать Люсьену за ее тело, запечатлеть на ее теле мое обожание к ней, что при выходе наружу они толкали и давили друг друга. Я неистовствовал от светлой благодарности. Мне положительно хотелось кричать. Но я удовольствовался тем, что, задыхаясь, снова прижал свои губы к ее телу, и мой лепет: «Милая, милая, милая», был как мед, примешанный к моим поцелуям, усыпавшим всю поверхность ее грудей.
Но вдруг она встрепенулась, со вздохом откинула голову и сказала:
– На сегодня довольно, Пьер. Я больше не могу. Только не надо на меня сердиться. Мне хочется теперь уснуть. Засыпая, я буду думать только о тебе, только о тебе.
Она закрыла глаза и глубоко вздохнула.
Мое исступление не ослепляло меня. Я понял, что не должен добиваться большего от Люсьены. Я отвел ее к кровати, поцеловал в глаза и в губы и еще раз, но без прежнего увлечения, поцеловал ее груди. Потом, удалившись в другой конец комнаты, сделал вид, что роюсь в чемодане. Она могла спокойно раздеться и лечь.
Когда Люсьена увидела, что я устраиваю себе постель на диване, она сказала:
– Ты не сможешь уснуть.
– Я привык спать, где попало. Да, впрочем, я буду в восторге, если мне не удастся уснуть.
Она только улыбнулась мне, закрыла глаза и снова глубоко вздохнула.
* * *
Утро следующего дня мы посвятили прогулке. Люсьена казалась счастливой. Но она говорила мало и смотрела на все рассеянно.
По нашим первоначальным планам мы должны были покинуть Руан в тот же день, если только успеем составить себе достаточное представление об этом городе. Так как о нашем отъезде нужно было предупредить в гостинице, то около полудня я спросил Люсьену, как она думает поступить.
Глаза ее остановились на моих глазах. Отблеск вчерашнего розового огня появился на ее лице. Она, по-видимому, раздумывала, немного волнуясь.
– В котором часу мы должны уехать?
– Кажется, в пять часов.
– Значит, за это время нам нужно закончить осмотр города?
– Конечно. И мы успеем осмотреть его очень поверхностно. Не отложить ли отъезд до завтра?
Я почувствовал, что ее обрадовала отмена отъезда. За завтраком, не спрашивая ее прямо, я постарался выяснить ее настоящее желание.
– Так как теперь нам некуда спешить, то мы могли бы немного отдохнуть, прежде чем снова приняться за осмотр города?
И в то время, как она выражала согласие, ее взгляд, казалось, говорил мне: «Отчего не хватает у нас смелости признаться, что и город, и памятники, и дальнейшее путешествие – все это очень мало интересует нас, и что единственно важная для нас вещь – как можно скорее опять очутиться в нашем царстве плоти? Разве с утра мы думали о чем-нибудь другом? Разве мы могли еще откладывать?»
* * *
Под предлогом этого отдыха я не вошел вслед за Люсьеной в нашу комнату. Подчиняясь с некоторым суеверием установленному вчера ритуалу, я терпеливо подождал с четверть часа.
Я нашел ее одетой и причесанной, как и вчера. Она непринужденно села на диван, я же стал перед ней на колени.
Она расстегнула верх своего платья. Ее удивительные груди снова появились среди складок платья и придвинулись ко мне. В две минуты, со скоростью морской волны, мое возбуждение поднялось до вчерашнего уровня. Я возобновил все свои идолопоклоннические действия по отношению к телу Люсьены. Я чувствовал потребность проявить еще больше рвения, сделать их еще больше выразительными. И я, бывавший так часто нетерпеливым и горячим самцом, склонный больше сам наслаждаться женщиной, следуя собственному порыву, чем заботиться об удовлетворении ее капризного желания, не проявлял теперь никакой поспешности. Я поклонялся не только телу Люсьены, но и ее воле, ее вдохновениям. Пусть она руководит мною и медленно поведет меня какими ей будет угодно окольными путями к единению наших тел, которое и для меня приобретало такую важность и предвещало такое наслаждение, что мне казалось неблагоразумным сокращать подготовку к нему, которая уже сама по себе была восхитительной.
Мог ли я, с моим опытом, днем раньше назвавший бы себя пресыщенным, предположить, что плотские отношения могут принять такой характер и притом без участия каких-либо изощрений, а только потому, что молодая девушка, которой пришли на помощь ее чистота и своего рода гениальность, взглянула на них без предубеждения и внимательно измерила их глубину? Самое большее, у меня было лишь смутное предчувствие этих вещей, полученное в общении с той любовницей, о которой я говорил выше. Ее бедра и груди, великолепно заполняя кровать или исступленно прижимаясь ко мне, увлекали меня уже за пределы сладострастия, на границы некоего культа плоти.
И вот вместо этой сексуальной лихорадки, в сущности полной горечи и бывшей мне не по душе, то, что давала мне Люсьена, что я как бы пил из ее грудей, было энтузиазмом, не связывавшим ум никакими ограничениями и не боявшимся сравнения с теми состояниями сознания, которые мы ценим выше всего из-за их интеллектуального содержания, их объекта или их источника.
Таким образом, несколько раз в жизни мне казалось, что я испытываю ощущение чего-то высшего. И вот теперь, стоя на коленях перед Люсьеной, полный гордости при виде того, к какому прекрасному лицу были обращены восторженные ласки, которыми я осыпал ее грудь, я почувствовал, что именно это ощущение чего-то высшего, а не банальное неистовство страсти, снова нахлынуло на меня.
Когда она, в свою очередь, обнажив верхнюю часть моего тела, стала медленно проводить по нему губами и впивать его запах, когда она глубоко вздохнула, я испугался было, что она снова почувствует потребность в отдыхе, как это было вчера. Я следил за всеми выражениями ее лица. Одно время оно было сосредоточенным, но потом снова оживилось. Я понял, что мы можем покинуть этот неудобный диван, не нарушая охватившего нас очарования. Отчасти ведя ее, отчасти неся, я перешел с ней на кровать.
Она уложила меня рядом с собой. Руки ее стали слегка нажимать на мою голову, и я почувствовал, что она направляет мои губы ниже своих грудей, как бы приглашая меня продолжать дальнейшее знакомство с ее телом. И в то время, как одна ее рука оставалась у меня на затылке и едва заметным движением по временам подталкивала меня, другая рука отбрасывала понемногу одежды.
Долгой лаской, которая прошла по всему ее телу, между грудями, я снова добрался до ее губ.
Пока я продолжал этот поцелуй, она совершенно скинула свою одежду. Я оторвался от ее губ, чтобы полюбоваться ее наготой. Несравненная красота ее тела не могла не поразить меня. Она рождалась из всех моих впечатлений от нее подобно тому, как фигура рождается из определяющих ее точек. Необходимое представление об этой совершенной наготе сложилось в моем уме раньше, чем мой взгляд мог проверить его.
Однако, зрелище было настолько возбуждающее, так переполняло ум радостью наглядного доказательства, доводило мое благоговение до такого экстаза, что меня охватил новый неистовый порыв к ласкам. Но мне показалось, что Люсьена нуждается в перерыве. Я сдержался и только глядел на нее, ласкал ее только глазами. Но эту ласку ей, пожалуй, было труднее вынести, чем другие. Тело ее как будто съежилось, подобралось. Лицо отвернулось, искало куда бы укрыться. Но она далека была от того, чтобы поощрять в себе этот возврат стыдливости, мне кажется, она почти порицала себя за него, как за слабость и измену царству плоти.
– Смотри, – сказала она немного принужденным тоном, – смотри же на свою жену… (добавила она, улыбаясь, чтобы лучше овладеть собой) на свою бесстыдную жену.
– Знаешь ли ты, – сказал я ей, – что нельзя быть прекраснее тебя.
Как бы желая поблагодарить меня или чтобы укрыться от своего смущения, она обвила мою шею и несколько раз поцеловала меня. Затем вернулась к моему телу, умножая ласки, как будто теперь наступила ее очередь познакомиться с ним и отдать дань своему восхищению. Она следовала тому же ритуалу, что и я, спускаясь все ниже и понемногу отбрасывая одежды.
Но среди моего счастья я испытывал некоторый страх. Внезапное открытие желания мужчины в его наивно грубой форме могло вызвать в этой несомненно несведущей женщине если не чувство смешного – она была слишком возбуждена, чтобы ей могло прийти на ум смешное, – то, по крайней мере, ощущение грубого животного уродства, способного пробудить ее от чудесного опьянения, в которое она со вчерашнего дня погружалась вместе со мною. И я спросил себя, не разумнее ли и не естественнее ли было бы, поддавшись совершенно непритворному порыву, сразу же, не откладывая, овладеть ею.
Но это испытание, не говоря уже о содержащемся в нем вызове моей чувственности, интересовало меня самим своим риском. Я говорил себе также, что для такого ума, как мой, остававшегося математическим даже в исступлении, подобная увертка была бы равносильна плутовству при решении задачи. Раз я до сих пор следовал за Люсьеной, да еще с таким энтузиазмом, в ее постепенном открытии царства плоти, разве было красиво, в интеллектуальном смысле слова, увильнуть в критический момент?
Но было уже поздно. Люсьена, одним и тем же движением обнажившая и коснувшаяся меня, откинула свое лицо. Я был крайне встревожен. Правда, движение ее не было резким, она не отвела глаз, которые, наоборот, загорелись и приняли серьезное выражение. Вдруг она прижалась головой к моей голове, зарыла лицо в моей щеке и сказала мне на ухо жарким шепотом:
– Мой муж!
Она задыхалась. Ее сердце боролось с собой.
– Хоть один поцелуй, – сказала она.
Она быстро дала этот боязливый поцелуй, как будто находясь у ног идола, затем откинулась на спину. Она притянула меня к себе.
* * *
Я не очень доволен предшествующими страницами. Несколько раз я пробовал изменить их, но безуспешно.
Нельзя сказать, чтобы меня очень смущала необходимость подчинять «мелочности и неподатливости» письма факты этого рода, которым большинство людей отводит место лишь в своих тайных мечтаниях и которые в передаче обычной мысли сильно смягчаются.
Чувство стыда мне хорошо знакомо. Но я испытываю его скорей в обыденных (не технических) проявлениях мысли и, пожалуй, еще в ее социальных проявлениях. Так, например, в отношении свободы разговора я бываю гораздо более сдержанным, чем многие из моих приятелей. Я говорю так называемые «неприличные вещи» лишь в относительно редких случаях и только в тесном кругу друзей.
Но когда моя мысль, как это имеет место в настоящем труде, принимает техническое направление, мой стыд исчезает. Мне нет надобности его побеждать. Он вообще отсутствует.
Но, быть может, он бы снова появился, если бы я вообразил, что мои записки будут читать? Вероятно. Разве только мне было бы предоставлено право выбирать моих читателей. Но вопрос не в этом.
Нет. Что мне не особенно нравится и что я напрасно пытался исправить в этой главе (которую я для краткости назову брачной ночью), это тон, каким она написана. Когда я мысленно рисовал ее себе, прежде чем начать писать, я не замечал трудностей в этом отношении. Я предполагал, что вполне возможно передавать подобного рода факты почти так же спокойно, как физик дает отчет об опыте, тщательно проведенном в трудных условиях. Теперь же я вижу, что невольно взятый мною тон есть тон литературный, гораздо более свойственный роману, чем ученым запискам.
Просмотрев первоначальную редакцию, я подумал, что поддался увлечению и что, переделав со всей строгостью и с холодным разумом эти страницы, я без труда освобожу их от литературной облицовки. Тон, который мне не нравился, я считал случайным, подобным неудачному оттенку на картине, который не трудно соскоблить, или, выражаюсь точнее, подобным химической окраске, которую труднее, но все-таки возможно устранить. После нескольких попыток я убедился, что упомянутый тон был «неотделим», как физическая окраска, которая не может быть уничтожена или изменена без разрушения молекулярной структуры окрашенного тела.
Да, волнение, экзальтация, патетические ноты и т. д., т. е. все, что в моем изложении разочаровывает и раздражает меня и что, вдобавок, придает этому изложению непристойность, если только она вообще в нем есть, – все это было бы напрасно стараться соскоблить или очистить, как химическую окраску. Эти чувства не вмещаются в том или ином эпитете. Вибрация влюбленности, проявление которой я хотел ограничить, внутренне связана с излагаемыми мною фактами. Ее возможно было бы ослабить, лишь понизив общую температуру события, что было бы равносильно замене данного события другим.
Констатировав это, я прихожу к следующему заключению: тон, который я хотел бы взять и о котором я все еще сожалею, быть может, применим, когда речь идет о человеке, лишь при известной и притом весьма низкой температуре событий. Нужно примириться с тем, что он совершенно меняется, когда молекулярная вибрация этих событий увеличивается в несколько раз. Другими словами, научным подходом в данном случае будет, пожалуй, отказ от так называемого научного тона. И вполне возможно, что литературный тон, когда он «неотделим» или правдив (в отличие от фальшивой облицовочной литературы), является непризнанным еще научным тоном. По крайней мере, мне хотелось бы этому верить для собственного успокоения.
Но я упрекал себя еще и в другом, а именно: в обилии подробностей. Допуская даже необходимость точно передать характер этой «брачной ночи», чтобы осветить последующие события и правильно поместить их на кривой, – что кажется мне бесспорным, нельзя ли было бы ограничиться более кратким описанием или более абстрактным истолкованием? Когда вдаешься в подробности, как сделал это я, то невольно кажется, что находишь в описываемых вещах удовольствие, которое нельзя назвать чисто теоретическим.
Тут я тоже хотел внести некоторые исправления. Возьмем, например, описание того, как я ласкал груди Люсьены. Я попытался сократить его, затем переложить в абстрактные формулы. Но я увидел, что не могу избежать следующей альтернативы: или смазать особенности факта, дав его резюме, сделать его настолько банальным, что о нем не стоило бы и говорить (но тогда пропало бы вообще все существенное): или же концентрировать смысл всего в одной или нескольких формулах, которые уже не содержали бы внутреннего оправдания и, в сущности, явились бы непонятными (подобно тому, как если бы в бумагах ученого нашли голое уравнение какого-то неизвестного экспериментального факта). Как бы там ни было, мне сначала нужно было продумать подробности, которых я так старался избежать, а чтобы продумать их серьезно, сделать это письменно. Словом, не было способа обойтись без них. Что же касается приема, заключающегося в уничтожении этой первоначальной редакции и замене ее кратким резюме или выводами, то я нахожу его никуда не годным и в корне противоречащим общему духу моего труда, о котором я говорил вначале, что он будет черновой работой, посвященной изысканиям, а не систематическим изложениям.
Еще одно возражение беспокоит меня. Я решил взяться за перо, чувствуя потребность прояснить некоторые важные и не совсем обыкновенные факты моей жизни. Понятно, я еще только подготавливаю их описание и занят лишь тем, что им предшествовало. И я все более и более проникаюсь убеждением, что не было никакой возможности сразу, без подготовки, подойти к ним.
Но не получается ли от этого впечатление, что я приписываю важность и исключительность обстоятельствам совершенно заурядным? Снарядиться в путь наподобие полярного исследователя для того, чтобы сделать открытие вроде описанной «брачной ночи», пожалуй, довольно комично. Ведь в сущности это вещи, о которых хотя и не рассказывают каждый день, но которые совершаются ежедневно. Многие подробности, которые я так тщательно изложил, не более, как ходячая монета. Их нашли бы в тысяче других «брачных ночей», если бы участники их захотели о них рассказать. Не слишком ли я наивен, нанизывая их на булавку?
Возражение это для меня крайне неприятно, если принять в расчет мой характер (очень ограниченная наивность и ни малейшего желания представляться наивным).
Я мог бы ответить прежде всего, что сам я решительно ничего не знаю о том, что происходит во время «брачных ночей». То, что я читал об этом, мало чему меня научило. Единственные данные для сравнения, которыми я располагаю, доставлены мне моим собственным любовным опытом. С этой точки зрения, единственно для меня важной, моя брачная ночь заключала в себе нечто новое.




