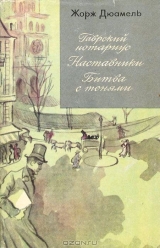
Текст книги "Хроника семьи Паскье. Гаврский нотариус. Наставники. Битва с тенями"
Автор книги: Жорж Дюамель
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц)
Папа вскочил. Он подошел на цыпочках к двери и молча остановился.
– Надеюсь, вы понимаете, сударыня, – продолжал посетитель, – что я больше не желаю видеть полицейских в принадлежащем мне доме. Господин Васселен в тюрьме, и в этом нет ничего удивительного. Но госпожа Васселен здесь. С ней-то я и намерен поговорить. Вы можете передать ей, сударыня, что я отказываю ей от квартиры. Она должна съехать не в будущем году, а теперь, сейчас же! Я не потерплю воров в своем доме!
Старик повысил голос. Мы услышали жалобный стон, – это означало, что наконец появилась г-жа Васселен.
– Не потерплю воров в своем доме!
Тут мой отец тихонько приоткрыл дверь. Признаюсь, в эту минуту он показался мне страсть каким красивым и гордым. Он всегда был худощав, но в этот период времени почти не уступал в худобе знаменитому рыцарю Ламанчскому. Его длинные усы шевелились, совсем как живые. У него были красивые руки, белые, гладкие, нервные, и он ими прекрасно жестикулировал. Он тихонько приоткрыл дверь, потом распахнул ее настежь. Мы все сбились в кучу за его спиной, изумленные, зачарованные; у нас было чувство, что вот сейчас он сбросит тяжесть, сдавившую нам грудь.
– Сударь, – твердо сказал папа, – вы домовладелец. А я – Паскье, Эжен-Этьен-Раймон Паскье.
Хозяин повернулся к нему. Он был коренастый, с серой щетиной волос. У него была борода с проседью, руки как клешни и брюшко, выступающее бугром. Вдобавок он был совершенно лыс, и я сразу же почувствовал, что это еще больше усугубит его вину.
– Ах, вы господин Паскье? Ну, что же? Что из этого следует?
– Из этого следует, сударь, – бросил папа, – что я прошу вас немедленно удалиться и больше не нарушать покой этого дома.
Старик покраснел, потом побагровел, затем почернел, и с минуту казалось, что у него хлынет кровь из носа, пойдет пена изо рта и он лопнет со злости.
– Покой этого дома? Вы говорите о моем доме! Это мой дом, сударь, мой дом!
Папа усмехнулся, его спокойствие становилось грозным, и все мы поняли, что на него накатил безудержный гнев, гнев с большой буквы, какому человек предается всего раза два-три в жизни.
– Возможно, – проговорил он, – что этот дом принадлежит вам. Но это мы в нем живем, и мы имеем право на покой, да мы и платим за покой. Сударь, эту семью постигло несчастье, – и как раз в этот момент вы смеете так возмутительно себя вести. И вы думаете, сударь, что я это потерплю и не отделаю вас на свой лад?
Мало-помалу, слово за слово, отец все повышал голос. То было великолепное нарастание, искусное крещендо. И старикашка Рюо, внезапно охваченный ужасом, начал пятиться назад. Он отступал шаг за шагом, бормоча себе под нос:
– Да это невообразимо!
– Да, сударь, я вас отчитываю, и по заслугам! Вы урод! У вас толстое брюхо. Вы смешной болван! У вас лживые глаза. И вдобавок вы ни в чем себе не отказываете, вы позволяете себе роскошь быть лысым!
Его речь, исполненную все нарастающего пафоса, едва не сорвало внезапное появление господ Куртуа. Художник, малевавший гуашью розочки, так и сиял.
Он выкрикивал с торжеством: «Я слышу! Я все слышу!», как другой стал бы хвастаться: «Я тоже художник!»
Но отец уже закусил удила. Его ничто не могло бы остановить. Напрасно мама и г-жа Васселен дергали его за фалды. Напрасно восклицала г-жа Куртуа: «Вы переходите все границы!» Не обращал он внимания и на соседей, которые покидали свои логова и поднимались по лестнице. Отец устремился к великолепному апогею гнева.
– Вы изволите быть плешивым, пузатым, косолапым, и, в довершение всего, вы злы, отвратительно злы. Сударь, вы хам! Высший образец хамства! Об этом все узнают, сударь, все до одного. Я хочу, чтобы весь дом, весь квартал знал об этом, хочу, чтобы знал весь Париж, чтобы весь мир знал, что вы, сударь, хам! Хам, помноженный на каналью, да плюс хищник, да еще болван!..
Старик пустился наутек. Он бежал, перепрыгивал через две, три, через несколько ступенек. То было паническое бегство, отчаянная, безумная скачка. На площадках каждого этажа толпились жильцы, – одни молчали, ошеломленные, другие зубоскалили. А папа, преследуя свою жертву, мчался за ней по пятам.
– Болван и вдобавок трус, и к тому же вы, сударь, подлец. И сдается мне, что вы еще рогоносец! Стоит на вас взглянуть, и сразу видно, что вы, сударь, настоящий рогоносец! Притом рогоносец унылый, самая гнусная разновидность...
Голос его все разрастался, потом начал глохнуть, уходя в недра дома. Через минуту он загремел уже на улице. Мы стояли на балконе в ужасной тревоге и вместе с тем испытывая странное облегчение. Папин гнев разразился под открытым небом. Неуклюжий Рюо пытался удрать, но ангел мщения ни на пядь не отставал от него. За ними увязалось множество возбужденных людей. Поистине, то был поразительный, достойный восхищения гнев, какого нам еще не приходилось наблюдать и слышать. Через несколько мгновений эта кучка людей скрылась за поворотом на улице Вандам. До нас еще долетали раскаты разъяренного голоса, слова, слова, слова. Но вот крики заглохли где-то в стороне проспекта Мен.
Мы замерли на месте, потрясенные до глубины души. Нам дано было зреть Юпитера-громовержца.
Папа вернулся минут через десять. Он медленно поднимался по лестнице, обмахиваясь клочком газеты, – он очень разгорячился. Он пожимал руки жильцам, которые поджидали его, чтобы выразить ему свое уважение, свои восторг, свое пламенное восхищение.
Госпожа Васселен, тяжело вздыхая, стояла на пороге нашей кухни. Мама шепнула мне на ухо упавшим голосом:
– Ничего не говори отцу. Он сделал это от чистого сердца, но все это ужасно. Пойди взгляни на бедненького Дезире.
День угасал. Низко нависло черное небо. Все предвещало грозу. Я проскользнул как тень в квартиру Васселенов. Но я не в силах рассказать о том, что я увидел, войдя в их столовую...
Когда через какой-нибудь час я очнулся на руках у моей матери, я услышал, как вполголоса говорили вокруг меня:
– Что за несчастье! Какое ужасное несчастье!
Тут я пришел в себя и увидел, как вижу порой и теперь, когда грозовым вечером предаюсь воспоминания м , – Дезире Васселена, который с петлей на шее висел на крючке от лампы.
Нет! Ни слова больше! Больше ни слова!
Немного спустя, когда стемнело, мама распахнула окна. Послышалась музыка, – народ веселился и плясал там вдалеке, на бульваре Вожирар и на проспекте Мен.
Мама сказала:
– Все же надо зажечь керосиновую лампу, хотя бы для того, чтобы уложить нашего малыша.
Папа зажег лампу и спросил, вытирая руки:
– Что это за письмо?
– Какое письмо? – отозвалась мама упавшим голосом.
– Да вот это, на столе.
Моя мать протянула руку, продолжая меня укачивать. Усталым жестом она перевернула письмо. Но она тут же положила его на стол и прошептала папе:
– Погляди, только сделай это незаметно. У бедняжки Лорана начал дрожать подбородок. И очень сильно, как у меня, у моего отца и у дедушки Гийома.
Потом она снова взяла письмо и неловко, одной рукой, разорвала конверт. И тут же сказала:
– Это письмо из Гавра!
Глава XX
Письмо из Гавра. Несколько эпизодов из истории семьи. О трех строчках Буало. Доля Орели и доля Матильды. Урок арифметики. Жар и бред. Труд надежней чудес
То было письмо из Гавра.
Я сейчас же о нем расскажу, хотя бы для того, чтобы отогнать натиск зловещих дум, рассеять налетающих белых и черных ангелов. Цифрам свойствен полярный холод, нечеловеческая сухость, – поэтому в них есть нечто умиротворяющее, нечто близкое к покою небытия.
Я поведаю об этом эпизоде в кратких словах, хотя моя мать просидела всю ночь, разбираясь в юридическом жаргоне и пытаясь добраться до смысла, а отец, как мне думается, так и не понял до конца этого сногсшибательного документа.
Как бы то ни было, я дам свое личное истолкование, которое можно считать правильным, ибо оно всецело подтверждается последующими событиями. Я приведу также кое-какие подробности, ставшие мне известными много лет спустя, благодаря отношениям, завязанным с моими коллегами в Лиме.
Оказывается, две сестры моей матери не умерли в 1866 году, как можно было думать на основании письма, полученного от компаньона моего деда во время болезни последнего. Мой дед Матюрен действительно потерял тогда двух дочерей, но они были от второго брака и умерли одновременно в разгар какой-то эпидемии. Две дочери от первого брака, приехавшие из Франции, родные сестры моей матери, вышли замуж в 1867 году, как об этом известил Проспера Матюрен. Старшая, Орели, скончалась от родов, примерно через год, то есть в 1868 году. Вторая, Матильда, покинула Лиму, уехав со своим мужем, коммерсантом, в Куско. Впоследствии я вспоминал об этом, декламируя на уроке или перечитывая следующие строчки Буало-Депрео, из которых первая пошловата, вторая отдает романтической меланхолией, а третья попросту смешна:
За счастьем гонятся на суше и в морях. Не рвись в отчизну пальм, ищи его поближе: Оно доступно нам и в Куско и в Париже.
В 1869 году, два года спустя после брака, эта сестра, которую, собственно говоря, мне следовало бы называть тетей Матильдой, ушла из дому во время землетрясения. Как видно, это довольно-таки обычное явление в тех краях, и любой перуанец знает, что после первого же толчка надо выбегать на улицу, иначе рискуешь быть похороненным под развалинами. Итак, тетка Матильда, как и все прочие, покинула свой дом. Но когда землетрясение кончилось, все поиски молодой женщины оказались напрасными. Ее так и не удалось обнаружить живой или мертвой.
Оказывается, существует закон, запрещающий выдавать свидетельство о смерти исчезнувшего человека, пока не обнаружен и должным образом не опознан его труп. Если же таковой так и не будет найден, то факт смерти может быть установлен и свидетельство выдано лишь по истечении тридцати лет со дня исчезновения данного лица.
Таковы, в общих чертах, были сведения, собранные французским консулом в Лиме, после длительных розысков, сопряженных с немалыми трудностями.
Свидетельство о смерти Орели, составленное по всей законности, было отправлено во Францию, и Гаврский нотариус, буквально выполняя завещательное распоряжение г-жи Делаэ, предоставил моей матери так называемую «долю Орели», то есть двадцать тысяч франков в ценных бумагах. Что до доли Матильды, то она должна была лежать в депозите под надзором нотариуса до 1899 года. И следует сказать, что в этом году мы действительно получили эту сумму со всеми процентами.
Однако письмо, о котором идет речь, получено было нами в 1891 году. Доля Орели, как я уже сказал, состояла из ценных бумаг, оформленных «на предъявителя» и подлежащих продаже. Нотариус сам предложил дать распоряжение о продаже. Эти бумаги подверглись некоторому обесцениванию, и стоимость их по нынешнему курсу выражалась в сумме девятнадцати тысяч двухсот франков. Зато к основному капиталу надлежало прибавить три процента годовых, какие наросли после смерти г-жи Делаэ, то есть за два года и три месяца. В конечном итоге получалось двадцать тысяч пятьсот пятьдесят франков.
Эта сумма была обременена издержками, а именно: расходы, связанные с введением в права наследства, издержки, сопряженные с расследованием, а главное, расходы, вызванные розысками, возмещения которых требовали перуанские агенты. В общей сложности издержки – я сохранил все эти омерзительные бумажонки – составляли ошеломляющую сумму: семь тысяч триста пятнадцать франков.
Моя мать в течение долгих дней размышляла над этими цифрами, искусав себе все пальцы.
Она посвящала арифметическим вычислениям все свободные минуты, закончив хозяйственные дела и оказав помощь несчастной, удрученной катастрофой, г-же Васселен.
Папа говорил, заглядывая в бумаги через мамино плечо:
– В итоге мы можем рассчитывать на тринадцать тысяч двести с чем-то франков.
Мама обернулась и застыла на месте, уставившись на удивительного спутника жизни, человека, покорной тенью которого она стала навсегда.
– Ты говоришь, Рам, тринадцать тысяч франков... Но ведь ты забываешь, что из этой суммы мы должны уплатить Куртуа десять тысяч, плюс пятьсот франков, плюс восемь процентов за триместр, а именно, двести франков. Все это вместе взятое составляет десять тысяч семьсот.
Папа воздел руки к небу. Он уже начал забывать и заем у Куртуа, и банкротство Инканда-Финска, и сумасшествие престарелого кредитора, и сцены с табуретом.
Мама отнюдь не была подавлена. Следует даже сказать, что она никогда еще не проявляла такой силы духа, как в эти горестные дни. У нее уже больше не вырывалось:
– Боже мой, у меня голова идет кругом!
Она держала голову высоко, у нее был ясный взгляд и плотно сжатые губы. Она начала заметно полнеть, и вскоре мы узнали, что у нее родится еще одно дитя, братец или сестрица. (Это была маленькая Сюзанна, появившаяся на свет в январе 1892 года.) Впрочем, наша мать всех нас вынашивала на ходу, в разгар жизненных битв.
Но вот мама выпрямилась и сказала:
– Выслушай меня, Раймон. После всех расчетов у нас останутся две тысячи пятьсот тридцать пять франков. Этого нам хватит на все осенние расходы и на переезд, – потому что нам придется переменить квартиру. Г-н Рюо, конечно, не терял времени, извещение у меня в кармане. Послезавтра я пойду к нему и надеюсь договориться с ним об отсрочке до октября, разумеется, если он не вздумает подать на нас в суд. Две тысячи пятьсот франков, Раймон. И это все, решительно все. Быть может, впоследствии, через много лет, мы и получим долю Матильды. Возможно. Но я больше не хочу об этом думать. Больше не хочу, Раймон, все кончено! Теперь я буду рассчитывать только на нас, на наши четыре руки, на наши две головы. И уверяю тебя, Раймон, так будет лучше.
Папа посмотрел на нее.
– Да, – согласился он, – так будет лучше. И какой урок, милая жена! Какой урок, дети мои! Клянусь, что с этим покончено! Чтобы я снова попал в лапы к этим прохвостам, к этим кредиторам, к этим жуликам из Инканда, к этим крючкотворам! Никогда в жизни! Кончено! Кончено!
Он улыбнулся какой-то странной улыбкой. Все мы, исключая Сесиль, были уже достаточно взрослыми и знали, что, быть может, планеты в небесных просторах иной раз и вздыхают; «Кончено!», но все же продолжают вращаться.
Папа повторил:
– Кончено!
Мама остановила его:
– Говори потише. Гроб еще не закрыт. Госпожа Васселен сейчас одна. Пойду посижу с ней часок-другой. Ей надо хоть немного вздремнуть.
Весь этот разговор я слышал, лежа в постели на большой деревянной кровати, где мне предстояло пролежать еще немало дней и недель в жару и в беспамятстве и с которой мне суждено было в одно прекрасное утро в конце лета встать исцеленным, навсегда исцеленным от веры в чудеса, во все необычайное и чудодейственное.
В самом деле, кое с чем было покончено. Потеряла свою силу прочно овладевшая нами мечта, которая на протяжении двух с лишним лет обманывала нас, губила, заставляла не замечать голод и жажду, насыщала нас во время нужды и лишений.
Мы снова пускались в путь, разбитые, разочарованные, изнемогая от усталости и страданий, но все же испытывая явное облегчение. Мы устремлялись в путь, на котором нас ждали новые битвы, и я расскажу о них в свое время, если продлится моя жизнь и я не утрачу мужества и сил.
Наставники
Глава I
Одиночество и прилежание. Портрет Жозефа Паскье, каким он был в сентябре 1908 года. Повадки кроликов. Упоминание о Жан-Поле Сенаке. Размышления доктора Паскье о парижских улицах. Семейное собрание. Гордость разорившегося человека. Кредитная операция. «Жозеф! Если бы отец нас видел!» Быть верным главному в жизни
Стоит мне подумать, дорогой Жюстен, о шуме, в котором ты живешь, или, лучше сказать, в котором ты добровольно, мужественно соглашаешься жить, и мне становится немного стыдно за свое затворничество, за свой покой.
Должен признаться, однако, что мир и тишина, в которые я погружаюсь в иные часы, благотворно действуют на мысли, не покидающие меня с прошлого года. Мне хотелось бы послать тебе по почте немного моего покоя. Но ты, пожалуй, откажешься от этого подарка, взбалмошный ты человек!
Долгими часами я неподвижно сижу за столом. Привыкаю сосредоточенно работать и по возможности избегать лишних движений, как нас учит тому патрон. Прильнув глазом к микроскопу, с карандашом в руке, я рисую или записываю свои наблюдения. Каждые пять секунд капля воды звонко падает из крана в кристаллизатор, напоминая мне музыкальный крик жабы, который мы слушали летними вечерами в Бьевре. Помнишь, как был прекрасен этот звук, похожий на звук окарины и трогавший нас своей чистотой именно потому, что его издавало, или, точнее, издает, обездоленное и отвратительное животное? Вероятно, такое признание покажется тебе излишне романтичным, но я всегда вспоминаю о Бьевре с глубоким волнением! Как могли мы мучить друг друга, причинять друг другу столько горя? Все было так прекрасно, так чисто, несмотря на бедность и на ссоры. Еще и года не прошло с тех пор, а я уже позабыл все наши невзгоды. Я думаю лишь о наших взлетах, о наших восторгах, о наших радостях.
Но не будем больше говорить о прошлом, раз ты этого не хочешь и с такой настойчивостью просишь меня об этом в каждом письме. Позабудем о жабах и об их ночной песне. Итак, я говорил тебе о полной тишине вокруг меня и, главное, во мне. Слышно только шипение язычка газа под ванной термостата. Слышны также прыжки кроликов, резвящихся возле меня. Время от времени самка, раздраженная приставаниями самца, как-то странно постукивает задними лапами по плиточному полу. Кроликов я оставляю на свободе, чтобы удобнее было наблюдать за ними во время опытов. В лаборатории у меня уединенно (извини, Жюстен, если это овеянное воспоминаниями слово невзначай возникло на бумаге), так как Фове вернется только после первого октября. Г-н Шальгрен работает либо у себя в лаборатории, либо в своем официальном и тесном кабинете, где он принял меня, когда я пришел к нему в первый раз. Он иногда заходит ко мне, чаще всего по вечерам, когда я спускаю воду. Задав мне два-три вопроса по поводу опытов, он принимается мечтать вслух и высказывает поразительные мысли. Я сижу затаив дыхание. Порой он говорит долго. Я готов бесконечно слушать его.
По утрам я бываю один, и это продлится до возвращения Фове и Стерновича. В ноябре появятся, очевидно, новые сотрудники, и придет конец моей чудесной тишине.
Сегодня утром, часов в десять, в лабораторию вошел Жозеф. Я не ждал его. Обычно он не предупреждает о своем приходе. Что-то кольнет его, и он появляется или дает о себе знать. Ты знаешь моего братца Жозефа. Так вот, ты не узнал бы его сегодня утром. Ты не видел Жозефа месяцев семь-восемь. Пожалуй, он немного потолстел. Ему не больше тридцати четырех лет, а волосы уже начали седеть, что навлекает на него насмешки отца всякий раз, как они встречаются. За исключением этого, наш молодец еще крепок и даже массивен. Превосходные челюсти, самые мощные в нашем семействе. Складки жира уже поднимаются от шеи вверх, и лицо начинает заплывать. Однако это здоровый жир, доброкачественный жир. Нос довольно велик, но не длинен. Немного напоминает нос мамы. Помимо этого, в лице нет ничего от семейства Паскье. Глаза темнее, чем у всех нас. Иной раз – необъяснимое явление – их радужная оболочка бледнеет, и Жозеф с минуту смотрит на мир светло-голубым взглядом моего прославленного папаши. Усы коротко подстрижены. Зубы белые, рот красиво очерчен. В нем еще не чувствуется ничего порочного... Извини меня за это слово. Быть не может, чтобы со временем на лице Жозефа не отразилась его душа. Но пока что он еще прекрасное животное, сильное животное.
Как передать тебе впечатление, которое произвел на меня сегодня утром Жозеф, когда он отворил дверь в мою лабораторию? Он вошел без стука. Он всюду входит без стука. Итак, представь себе Жозефа, которому хотелось бы казаться удрученным, но у него ничего не получается – не позволяет характер. Представь себе Жозефа, которому хотелось бы понуриться, а он, противясь этому желанию, выпрямляется и напрягает все мускулы. Вот именно, когда Жозеф разворачивает плечи, это значит, что ему надлежало бы их опустить. Представь себе Жозефа, видимо, имеющего тайные причины для грусти, однако ему удается вызвать на своем лице лишь показное выражение скорби, которое следовало бы назвать «маской скорби на похоронах». Представь себе, наконец, Жозефа, которому хотелось бы говорить тихо, низким дрожащим голосом, а он вместо этого откашливается, набирает полные легкие воздуха, и, как обычно, от раскатов его голоса дребезжит вся стеклянная посуда на этажерках.
Он уселся. Попытался опустить голову на грудь, но вместо этого у него получилось почему-то движение вызывающее, дерзкое, и он сказал мне с видом одновременно погребальным, насмешливым и сердитым:
– Знаешь, дела мои плохи, очень плохи!
– Что такое? Со здоровьем не ладится?
Жозеф сделал неопределенный и несколько драматичный жест.
– Э, если бы речь шла только о здоровье!
– По-моему, нет ничего более важного...
Жозеф взглянул на меня со смесью сострадания и любопытства и прибавил:
– Я забежал к тебе по дороге, на минутку. Приходи обедать к родителям сегодня в половине первого, и мы потолкуем обо всем по-семейному. Соберется вся родня.
– Как, и Сесиль и Фердинан?
– Ну да, все. Дело очень серьезное. До скорой встречи, Лоран. Я заехал к тебе на машине.
И, уже собираясь затворить за собой дверь, он неожиданно обернулся и произнес голосом, таинственным и драматичным, следующие непонятные слова:
– Покамест у меня еще есть машина.
И тут же вышел. Слышно было, как гулко стучали его каблуки по старой лестнице Коллежа.
Снова стало тихо. Прошло все же немало времени, пока я снова не услышал, как поет капелька воды в кристаллизаторе и вздыхает язычок пламени под медной радужной ванной. Жозеф давно перестал меня смущать, ты же знаешь. Но он по-прежнему удивляет меня. По-прежнему нарушает ход моих мыслей. Не направляет их по своему усмотрению, нет, а именно нарушает.
Но вот снова наступила тишина, и мысли мои потекли своей обычной чередой. Кролики снова стали гоняться друг за дружкой и драться исподтишка. Увы, кролики – отнюдь не кроткие и пугливые грызуны, какими их обычно изображают; это дикие звери, как и все живые существа. Самец преследует самку и докучает ей. Если самка дурно настроена, она выражает свое нетерпение тем, что бьет по земле задними лапами – все как у людей, старина, как у людей. А если самец проявляет настойчивость, самка кусает его и, можешь быть уверен, отнюдь не куда попало: она норовит впиться зубами в то самое место, где гнездится желание. Случается, она разом выхолащивает несчастного. Тогда раненый кролик испускает дикие вопли, пронизывающие тишину лаборатории. Право же, дорогой друг, если я и браню кроликов, если строго сужу их, то лишь потому, что мне приходится мучить их, делать им уколы. Как-нибудь, дабы искупить свою вину, я выращу кролика, которому дам спокойно прожить жизнь и умереть собственной смертью. Когда Сенак приходит сюда, чтобы работать с г-ном Шальгреном, и видит драки моих зверьков, он неизменно ворчит: «Стоит мне взглянуть на твоих кроликов, и я убеждаюсь, что война неизбежна». Впрочем, Жозеф, который, по-моему, может лучше судить о событиях, чем Сенак, ведь биржа – превосходный наблюдательный пункт, Жозеф не верит в возможность войны. На днях германский император провел, как ты, вероятно, читал, небольшие показательные маневры на эльзасской границе. Жозеф уверяет, что это чепуха. Сенак менее оптимистичен. Он вздыхает, охает: «Война непременно разразится. Все кончается войной. Еще не было примера, чтобы мирный период не завершился войной». Сенак смешит меня. Он и тебя насмешил бы, дорогой Жюстен, если бы ты с ним встретился. А ты с ним встретишься. И, позабыв наконец обо всех распрях, взглянешь на него без раздражения и досады.
Я очень доволен, что мне удалось пристроить Сенака к г-ну Шальгрену. Впрочем, Сенак искренне мне благодарен. Он еще не был в отпуске, как ты понимаешь, ибо приступил к работе только в мае этого года. И при встрече со мной говорит проникновенно: «В прошлом году в это время я был свободным человеком и смотрел, как цветут бобы». Я полагаю все же, что он работает и ведет себя смирно. Мы видимся далеко не каждый день. У него имеется собственный небольшой кабинет у патрона, на улице Acca.
В полдень я запер зверьков в крольчатник и отправился на Пастеровский бульвар. Как тебе известно, три месяца тому назад мой папаша переехал с Аустерлиц-кой набережной на Пастеровский бульвар. Он в восторге. «Мы покончили с болотами, – говорит он, выпячивая грудь. – Мы покончили с нездоровым климатом низин. Здесь мы почти в горах. К тому же само название мне нравится. Пастер был всегда для меня образцом, примером. Пастеровский бульвар – это звучит прекрасно! Подумать только, что есть несчастные, которые живут на улице Вертушки или в Коровьем городке. От этого можно заплакать. Вот Фессарская улица – дело другое: забавное название, звучное, не лишенное приятности. А возьмем, к примеру, проезд Гатбуа. Кто такой этот Гатбуа? Что он сделал? Говорят, построил дворец. Понимаешь, дворец! Да плевать я хотел на дворец, если он стоит на улице Коссонри или Бискорне, даром его не возьму! Не надо бояться ни своих импульсов, ни своей безотчетной неприязни».
Но довольно об этом – ты и сам знаешь отца. Из всех нас он единственный, кто не меняется, единственный, кто не может измениться. Единственный, кому суждено не меняться.
Квартира у родителей довольно уютная, окнами на бульвар и на гулкий двор, который собирает, приумножает и разносит все тайны жильцов.
Жозеф не обманул меня: когда я пришел, все семейство было в сборе. Родители приглашают нас обычно четыре раза в год. Но тут речь шла об исключительном собрании, и мама сразу же предупредила, что пообедать придется чем бог послал. Вид у нее был встревоженный. Она смотрела на Жозефа молча, внимательно, как смотрела прежде, когда кто-нибудь из нас, детей, заболевал. Время от времени она вздыхала и негромко спрашивала: «Что ты собираешься нам сказать? Мне очень бы хотелось разобраться... »
В конце концов мы все собрались в гостиной, где обычно ожидают своей очереди пациенты отца, и уселись в кружок, как у нотариуса. Вероятно, ты не встречал Фердинана после весеннего праздника в Бьевре. Он толстеет прямо катастрофически. Клер, жена Фердинана, не отстает от него. В прежние времена она была по-настоящему тоненькой со своими хрупкими косточками и мелкими суставами. От счастья ее, можно сказать, разнесло. Нос и подбородок выступают на оплывшем лице, приподнимая и натягивая кожу. Это ее единственные ясно выраженные черты. К сожалению, такая полнота вызвана не избытком спокойствия и радости. Супругов преследует страх перед болезнями. Отец самоотверженно лечит их. Он дает им кучу невероятных лекарств, которые в конце концов возымеют действие, иначе говоря, вызовут какую-нибудь подлинную болезнь. Долгое время я надеялся, что у Клер будет ребенок, и это отвлечет супругов от себя и даже в известной мере спасет их, излечив от воображаемых недугов. Теперь я уже не рассчитываю на это. Фердинан безумно ревнив. Вероятно, он стал бы ревновать Клер к ребенку, да, ревновать в той мере, в какой ребенок отнял бы у него жену. Таким образом, эти двое людей осуждены жить и стариться в тягостном одиночестве, в атмосфере такой полной, такой невероятной близости, что их брак – книга за семью печатями.
Сюзанна тоже присутствовала на семейном совете. Ей было не более двух лет, когда ты впервые пришел к нам на улицу Ги-де-ла-Брос. Возможно ли? Сюзанне уже семнадцать лет, и это вполне сложившаяся женщина. Ее красота тревожит меня. Я расскажу тебе как-нибудь на свободе о стычках Сюзанны и незадачливого Тестевеля. О, с этим еще не покончено! И Тестевелю предстоят новые испытания. Но на сегодня довольно о нем.
Сесиль тоже была с нами, я, кажется, писал тебе об этом, и я сел рядом с ней на диван в стиле Людовика-Филиппа. Мы все были в сборе и ждали пресловутого сообщения Жозефа. Тогда Жозеф снял ногу с колена, откашлялся и глухо, торжественно произнес:
– Я разорен.
За этим странным сообщением последовало полминуты молчания, что вовсе неплохо для семейства Паскье. Затем отец прошептал:
– Я не вполне, уяснил себе, что ты под этим подразумеваешь.
Жозеф пожал плечами и повторил по слогам:
– Я ра-зо-рен. Понимаете? Ра-зо-рен. Вот и все.
Мама прижала руку к губам, и глаза у нее сразу покраснели. Она прошептала, вздыхая: «Бедный мальчик!» Папа тут же овладел собой. Он дернул себя за кончики медно-красных усов и заметил с полнейшим спокойствием:
– Ты говоришь «разорен». Полно, уж не значит ли это, что у тебя ровно ничего не осталось?
Жозеф тряхнул головой.
– Вполне возможно, что ровно ничего.
– Так вот, мой милый, – проговорил отец медовым голосом, – это не так ужасно, как тебе кажется. Лично у меня ничего нет и никогда ничего не было. И смею тебя заверить, что я прекрасно живу.
– Полно, папа! – Жозеф повысил голос. – Существует огромная разница между выражениями «ничего не иметь» и «все потерять».
– Должен тебе признаться, – продолжал папа , – мне было бы весьма приятно разориться, это означало бы, по крайней мере, что мне есть что терять. Не каждому посчастливится разориться.
– Не смею спорить, – степенно ответил Жозеф.
– Рам, будь же серьезен. Пусть Жозеф все подробно объяснит, – проговорила мама.
– Это почти невозможно. Во всяком случае, трудно. Вы ровно ничего не смыслите в делах.
– А твой парижский дом... замок Пакельри, как ты его называешь, да и все остальное, ведь, по-моему, имеется и «остальное»?..
Жозеф безуспешно попытался опустить голову и сказал:
– Попытаемся спасти Пакельри. Именно поэтому мне и хотелось повидать всех вас. Ведь Пакельри – наше родовое поместье.
Должен тебе сказать, дорогой Жюстен, что до этой минуты беседа велась в ровном, спокойном, дружественном тоне. Вдруг, как это принято у нас, все заговорили одновременно, и мне показалось, будто Жозеф как раз надеялся, рассчитывал на этот гвалт в духе семейства Паскье. Он пустился в специальные объяснения, которые были столь ясны, что мрак тотчас же окутал события и людей. Отец разглагольствовал, не слушая остальных. Он говорил очень громко и время от времени вопрошал: «Ты хоть попользовался деньгами, покуда они у тебя были? Будь я богат, я пожил бы как король!» Фердинан с важным видом требовал дополнительных сведений о лихорадке, охватившей биржу. Мы все повскакали с мест, кроме Сесили. У Жозефа был вид не разорившегося человека, а финансиста, которому удалась блестящая операция. Надо полагать, что в его профессии такая дерзость необходима. Мама настойчиво спрашивала: «Неужели потерян даже твой дом на юге?» Жозеф отвечал веско, тоном вполне естественным: «Еще ничего неизвестно. Возможно, я потерял больше того, что имел. Возможно, я по уши в долгах. Скоро все выяснится». Странно, но у него был при этом такой вид, словно он сообщил нам хорошие, радостные новости.







