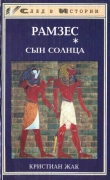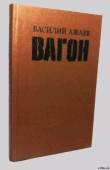Текст книги "Геенна огненная"
Автор книги: Жорис-Карл Гюисманс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
II
Прошло уже два года с тех пор, как Дюрталь перестал посещать литературные круги. Книги, газетные сплетни, воспоминания одних, мемуары других изо всех сил стараются изобразить литературный мир как епархию интеллекта, наиболее духовный слой общества. Можно и вправду поверить, что в литературных салонах воздух дрожит от остроумных перепалок, вспыхивающих подобно фейерверку. Дюрталь не мог понять, как родился этот миф, повторяемый с такой настойчивостью. По собственному опыту он знал, что литераторы или мелочные скряги, или хамоватые, распущенные негодяи.
Одни обласканы толпой, развращены, подстегиваемые тщеславием, они во всем подражают богатым домам, чувствуют себя как рыба в воде на званых обедах, устраивают приемы, говорят исключительно об авторских правах и об издательских делах, хлопочут о театральных постановках, и в их карманах позвякивают деньги.
Другие сбиваются в стаи и мутят воду. Они завсегдатаи кафе, заядлые посетители пивных. Они полны ненависти ко всем, трезвонят повсюду о своих творческих планах, о своем гении, изливают душу в городских парках, а напившись, разражаются желчными речами.
И это все. Очень редко можно было наткнуться на узкий круг художников, в котором текли бы раскованные беседы, без оглядки на кабак или чопорный салон, без страха перед обманом или подлогом, где царило бы искусство под надежной защитой женщин.
Литературный мир никак нельзя было назвать аристократией духа. Ничто в нем не поражало взгляда, ни одна мысль не задевала за живое. Отголоски самых обыденных разговоров, звучащих на улицах Сантие или Кюжа.
Дюрталь убедился, что никакая дружба не возможна с этими пустозвонами, с этими хищниками, готовыми в любой момент растерзать на куски, и порвал с этим миром, способным превратить его в дурака или подонка.
По правде говоря, ничто не связывало его с собратьями по перу. Когда-то давно, когда он не обращал внимания на пороки натурализма, когда он серьезно относился к новым романам, не ощущал спертости воздуха в их пространстве, лишенном окон и дверей, он еще мог обсуждать с литераторами проблемы эстетики, но теперь все изменилось.
«По сути, – утверждал де Герми, – между тобой и другими реалистами всегда была заметна разница, идейное расхождение, которое рано или поздно должно было нарушить хрупкое согласие. Ты ненавидишь наше время, а они его обожают, вот и все. Ты изначально был обречен на бегство из этого американизированного мира искусства. Ты просто вынужден искать иные пространства, менее плоские и доступные ветрам.
В своих книгах ты, засучив рукава, обрабатываешь мотивы конца века. Но сколько можно замешивать это тесто, которое то поднимается, то оседает! Тебе необходимо перевести дух, осесть в какой-нибудь другой эпохе, подстеречь там совершенно новый сюжет. Твой душевный кризис легко объясним. Посмотри, насколько лучше ты стал себя чувствовать, когда набрел на этого Жиля де Рэ».
Наблюдения де Герми были верны. В тот день, когда Дюрталь погрузился в захватывающий, восхитительный мир средневековья, он почувствовал себя заново рожденным. Он ощутил острое презрение ко всему тому, что его окружало, окончательно отдалился от литературной шумихи, мысленно заточил себя в замок Тиффог и зажил в полном согласии с этим чудовищем, Синей Бородой.
История обрастала подробностями, нанизывалась на острие глав и, оставаясь в общих чертах банальной и хорошо известной, мучила его. Он не верил в историю как в науку, он полагал, что события как таковые могут послужить лишь трамплином для полета мысли и стиля. Масштаб любого происшествия меняется в зависимости от идеи, овладевшей писателем, или от его темперамента.
Что же касается документов, то все они не более чем открытый для интерпретации текст. По большей части это апокрифы, другие же, своим появлением внося изменения в общие представления, пылятся, пока не обесценятся в свою очередь открытием новых архивов, не менее надежных.
В то время, когда бумажный хлам упорными стараниями очищается от пыли веков, история способна лишь утолять жажду, мучащую современную литературу, или же поощрять мелкое тщеславие любителей размазни, которая вызывает обильное слюноотделение ученых мужей, присваивающих им медали и почетные премии.
Дюрталь воспринимал историю как величественную ложь, как наживку. Античная Клио представлялась ему с головой сфинкса, плавникообразными бакенбардами, в толстых младенческих складках. Все упирается в то, что точность недостижима, считал он. Как проникнуть в средние века? Никто не в состоянии осознать самые недавние события, то, что происходило за кулисами революции, суть Коммуны. Остается только возводить свое видение прошлого, воскрешать тех, кто жил в другие эпохи, перевоплощаться, натягивать на себя их рубище, подстраиваться под них, тщательно подбирать детали времени, в котором они жили, создавать обманку. Именно этим занимался Мишле. Его раздраженное воображение блуждало от эпизода к эпизоду, задерживаясь на пустяках, бредило анекдотами, возводило их в степень значительных событий. Но, несмотря на то что высказанные им предположения, многочисленные догадки подогревались на огне эмоций, часто разжигавшемся, вспыхивавшем шовинизмом, он был единственным во Франции, кто парил над веками и с высоты обозревал мрачную череду лет.
Созданная им история Франции, болтливая, истеричная, бесстыдная, выставляющая напоказ все самое сокровенное, все-таки овеяна ветрами беспредельности. Ее герои живут, поднимаются из тесных гробниц, куда их загнали другие авторы. Какое значение имеет то, что Мишле был самым лживым из историков, когда он был истинным художником, яркой личностью. Что же касается других, то они зарывались в бумаги, старательно выцарапывая на своих дощечках разрозненные сведения. Вслед за Тэном они уничтожали те или иные записи, склеивали их в определенной последовательности, берегли лишь те, которые были доступны их осмыслению и не нарушали повествования. Они боролись с фантазией, с вдохновением, твердо верили, что в их трудах нет места вымыслу, но разве не произвол двигал ими при отборе документов? Да, в созданных ими томах нет оглушительного вранья, но в них нет и истории. Их метод крайне прост. Они устанавливают, что такие-то события произошли в той или иной местности Франции, с теми или иными людьми, и тут же заявляют, что это было свойственно жителям всей страны, что именно так они думали и именно так поступали в таком-то году, в такой-то день, в такой-то час.
Они в не меньшей степени, чем Мишле, были дерзкими мистификаторами, но уступали ему в размахе, в умении видеть, история для них – мелочный товар, которым они бойко торгуют на улице. Они наносили отдельные точки на полотно, не заботясь о целостности, подобно многим современным художникам, играющим цветовыми пятнами, или декадентам, которые рубят слова на мелкие части. А составителя биографий? Целые тома посвящены доказательству того, что Теодора была невинна и что Жан Стин в рот не брал спиртного. Кто-то вычесывает блох из биографии Бийона, лезет из кожи вон, утверждает, что толстушка Марго из баллады не реальная женщина, а всего лишь вывеска над кабаком, делает из поэта ходячую добродетель, скромника, порядочного, рассудительного человека. Иногда кажется, что биографы боятся замараться, трудясь над монографиями о тех писателях и художниках, чей жизненный путь изрыт и ухабист. Им хочется, чтобы они были такими же посредственностями, как большинство из составителей жизнеописаний, занятыми исключительно своим творчеством, которое можно просеять сквозь сито, ощипать, извратить.
Эта школа всемогущих обелителей особенно раздражала Дюрталя. Он был уверен, что в книге о Жиле де Рэ не опустится до уровня этих маньяков благополучия, ожесточенных насаждателей благородства. Понимая историю именно так, Дюрталь менее чем кто-либо другой мог претендовать на то, что его образ Синей Бороды получится правдивым. Но он надеялся, что сумеет избежать слащавости, что его герой не будет плавать в теплой розовой водице стиля, что ему не будут навязаны пороки и достоинства, которые пришлись бы по вкусу толпе. Для начала в его руках были копия записки Синей Бороды наследному принцу, заметки, сделанные во время судебного процесса в Нанте, хранящиеся в Париже, где они были засвидетельствованы в свое время, фрагменты истории Карла VII, составленной Валле де Виривиллем, очерк Арманды Геро и биография, написанная аббатом Боссаром. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы живо представить дьявольский облик этого человека, поразившего своей утонченностью, изысканностью, жестокостью и коварством XV век.
Только де Герми был в курсе его замысла. Они встречались почти что ежедневно.
Они познакомились в очень странном доме, у Шантелува, католического историка, который гордился тем, что за его столом встречалась самая разношерстная публика. Зимой он устраивал приемы каждую неделю. Его дом на улице Банё посещали церковные сторожа, поэты, популярные в дешевых кофейнях, журналисты, актрисы, сторонники Наундорфа, коммивояжеры.
Клерикалы побаивались появляться в этом доме, пользовавшемся дурной репутацией. Обеды, несмотря на всю их несуразность, были не лишены изысканности. Шантелув был сама сердечность. Он обладал широкой эрудицией и удивительным задором. Его хитрый взгляд, пробивающийся сквозь дымчатые стекла пенсне, доставлял немало беспокойства ораторам, но всех обезоруживало его сокрушительное добродушие. Жену его трудно было назвать красивой, но ее внешность, довольно своеобразная, бросалась в глаза. Она всегда была окружена людьми, но по большей части молчала, не проявляя видимого интереса к навязчивой трескотне своих гостей. Она не была ханжой, как, впрочем, и ее муж, бесстрастно, невозмутимо, почти надменно она выслушивала самые смелые парадоксы и улыбалась с отсутствующим видом, глядя поверх голов.
В один из таких вечеров Дюрталь слушал, как Руссей, недавно обращенный в веру, восхваляет в виршах Христа, и курил, как вдруг наткнулся взглядом на де Герми, резко выделявшегося среди неряшливых расстриг и поэтов, набившихся в гостиную и библиотеку Шантелува.
На фоне этих лиц со специально заготовленной ханжеской улыбкой де Герми держался подчеркнуто доброжелательно, не скрывая, однако, своей настороженности. Он был высокого роста, строен, побледнев, он прищуривал близко посаженные темно-голубые глаза, скупо поблескивавшие, словно драгоценный камень, и морщил прямой хищный нос. В нем чувствовались скандинавский излом и чисто английская твердость, непреклонность. Казалось, он с трудом вмещается в клетчатый костюм мрачных тонов, сшитый из добротной английской материи, узкий в талии, застегнутый наглухо, так что почти скрывал воротничок и галстук. У него была особая манера стягивать перчатки и складывать их так, что они издавали странный скрипучий звук, садясь, он закидывал ногу на ногу и, слегка отклоняясь вправо, вытаскивал из левого кармана плоский японский кисет с выдавленным на нем рисунком, где он хранил папиросную бумагу и табак.
В нем была сдержанность и методичность. С незнакомыми он был холоден и высокомерен и вдобавок обладал неприятной манерой внезапно обрывать улыбку, даже смех его казался каким-то тусклым, словно обесцвеченным. При первом знакомстве он вызывал глубокую антипатию, усугублявшуюся ядовитыми репликами или презрительным молчанием, насмешливой улыбкой. К нему относились с уважением, но немного побаивались его. Но при более близком общении обнаруживалось, что под коркой льда скрыта самая искренняя доброта, участие, что на его скупую дружбу можно положиться, что он всегда готов на поступок, если этого требуют обстоятельства.
Как он жил в действительности? Был ли он богат или стеснен в средствах? Этого никто не знал. Он всегда был тактичен по отношению к другим, а о своих делах никогда не говорил. По профессии он был врачом, Дюрталь однажды случайно видел его диплом, но о медицине отзывался с неизменным отвращением. Он забросил терапию ради гомеопатии, которую в свою очередь променял на другую отрасль медицины, но и та вызывала в нем лишь негативные эмоции.
Иногда Дюрталь отказывался верить в то, что де Герми никак не связан с литературой. Он судил о ней как профессионал, легко разгадывал любой замысел, его не останавливали капризы стиля, он демонстрировал владение всеми тонкостями искусства. Однажды Дюрталь, смеясь, упрекнул его в том, что он скрывает свои литературные опыты. На это де Герми равнодушно ответил, что вовремя сумел уничтожить в себе склонность к плагиату. «Я мог бы не хуже, а может быть, и лучше других сбывать с рук краденый товар, но зачем? – сказал он. – Я уж буду составлять рецепты, основанные на оккультных правилах сочетаний веществ. Конечно, и от этого пользы мало, но все же не так подло».
Его эрудиция была поистине поразительна. Он знал все, изучил самые диковинные книги, старинные обычаи, был в курсе новейших открытий. Все странное притягивало его. Он увлекался самыми разными науками, чаще всего его можно было встретить в обществе астрологов, знатоков каббалы, специалистов по демонологии, алхимиков, теологов и изобретателей.
Дюрталь, уставший от богемы, с легкостью и простодушием рассыпающей ни к чему не обязывающие авансы, был покорен этим человеком, умеющим держаться строго, порою жестко.
Эта тяга переросла в дружбу, оправдавшую себя даже на самом первом, поверхностном уровне. Удивительно было то, что де Герми, склонный скорее к эксцентрическим знакомствам, с симпатией отнесся к Дюрталю, несмотря на то, что в его душе не было и следа первобытного хаоса и внутренне он был далек от мятежного пристрастия к крайностям. Возможно, де Герми нуждался иногда в более разреженной атмосфере, да и вряд ли он мог вести дискуссии на литературные темы со своими обычными собеседниками, способными взахлеб обсуждать лишь свои изобретения, свой гений и свою науку.
Подобно Дюрталю, почувствовавшему себя одиноко среди своих собратьев, де Герми ничего не ждал ни от медицины, к которой он относился с пренебрежением, ни от многочисленных специалистов, которых он усердно посещал.
Это была встреча двух людей, оказавшихся на одном и том же рубеже. Эта связь носила сначала оборонительный характер, но потом окрепла. Они перешли на «ты», окончательно убедившись в прочности отношений. Дюрталь был очень одинок. Его родные умерли, друзья юности переженились или просто канули куда-то. Вступив на литературное поприще, он жил в полном уединении. Де Герми вдохнул свежие силы в его повседневность, растормошил закостеневший уклад жизни. Он завалил его обильным уловом сенсаций, возродил его способность дружить, привел к нему одного из своих приятелей.
Де Герми много говорил об этом человеке, который, по его представлениям, должен был понравиться Дюрталю. В конце концов де Герми заявил, что хочет познакомить с ним Дюрталя: «Он любит твои книги и будет рад встретиться с тобой. Ты упрекаешь меня за то, что я общаюсь исключительно с темными личностями. Тебе придется признать, что Карекс в своем роде уникален. Он умный, искренний католик, не знающий ни зависти, ни ненависти».
III
Дюрталь принадлежал к тому легиону одиноких мужчин, которые приглашают консьержа для уборки комнат. Ему самому приходилось вникать в то, сколько масла пожирают лампы, чтобы тусклым светом освещать помещение; только он знал, сколько бутылок коньяка понапрасну пылится в шкафу, теряя свой аромат и вкус. Подобно другим холостякам, он привык к тому, что приветливый уют постели очень скоро оборачивается сварливостью смятого белья, к которому благоговейно не прикасается консьерж. Он приспособился к необходимости самому позаботиться о чистоте стакана, в который он наливает воду, о том, чтобы не гас огонь, у которого можно согреться в холодную погоду.
Консьерж, к помощи которого прибегал Дюрталь, был уже далеко не молод. Его горячее дыхание, оседавшее на усах, было пропитано устойчивым, крепким винным запахом. Он отвечал полной невозмутимостью и благодушием инертности на требования Дюрталя, настаивавшего на том, чтобы комнаты убирались каждое утро в одно и то же время.
Его бесстрастие не могли поколебать ни угрозы, ни оскорбления, ни мольбы, ни отмена чаевых. Папаша Рато снимал фуражку, чесал в затылке, дрогнувшим голосом признавал свою вину и на другой день заявлялся в совершенно неурочное время.
«Вот скотина», – кипел Дюрталь. Он посмотрел на часы и в ту же секунду услышал, что ключ поворачивается в замке. В этот раз консьерж надумал нанести ему визит в три часа дня.
Этот человек, вяло и сонно взиравший на мир из своей каморки, становился воинственным и агрессивным, как только брал в руки метлу. Мгновенно преобразившись, он стряхивал с себя апатию, в которой он нежился по утрам, вдыхая запахи жаркого. С достойным всяческого восхищения пылом он набрасывался на постель, переворачивал стулья, столы, жонглировал предметами, опрокидывал ведро с водой, гремел тазами, перетаскивал с места на место ботинки Дюрталя, держа их за шнурки, подобно тому, как победители волочат пленных за волосы, штурмовал возведенные им баррикады из мебели, потрясая, словно знаменем, своим фонариком.
Дюрталь укрывался в одной из комнат. В этот раз он вынужден был отступить из кабинета, ставшего полем сражения, развязанного папашей Рато, и отсиживался в спальне. Сквозь приоткрытую дверь он мог вести наблюдение за своим врагом, обвешанным метелками, приступившим, подобно индейцу из племени могикан, к ритуальному танцу вокруг стола, с которого он собирался снять скальп.
«Если бы я мог предугадывать, в какое время начнется этот кошмар! Я бы исчезал из дома», – стискивая зубы, мечтал он. Тем временем Рато, балансируя на одной ноге, размахивая щеткой, исступленно натирал паркет, издавая зловещее рычание.
Он появился в дверях, в поту, торжествующий, и начал наступление на комнату, где скрывался Дюрталь. Дюрталь побрел в усмиренный кабинет. Его сопровождал кот, который тоже не выносил шума и ни на шаг не отступал от своего хозяина, перебираясь вместе с ним из комнаты в комнату, прижимаясь к его ногам.
В разгар уборки появился де Герми.
– Я только обуюсь, и бежим отсюда, – воскликнул Дюрталь. – Посмотри, – он провел рукой по столу, натянув на пальцы, как перчатку, толстый слой серой пыли, – этот мерзавец переворачивает все вверх дном, устраивает настоящую баталию, и вот, пожалуйста, – пыли становится еще больше!
– Ну, – откликнулся де Герми, – пыль – это не так уж плохо. В ней есть привкус залежавшегося печенья, она пахнет старинными фолиантами, кроме того, благодаря ей предметы становятся бархатистыми, а агрессивные, кричащие тона линяют под ее мелким сухим дождем. Это платье, в которое рядится забвение, покров одиночества. Кто ее по-настоящему ненавидит, так это те, чья участь поистине плачевна. Ты понимаешь, кого я имею в виду? Представь себе несчастного, вынужденного ютиться под крышей застекленной галереи. Какого-нибудь чахоточного, харкающего кровью. Он задыхается в своей каморке, расположенной на втором этаже, придавленной горбатым стеклом крыши, например, в пассаже Панорам. Окно открыто, в него просачивается пыль, пропитанная табачными испарениями и влажным потом. Бедняга мечтает о глотке воздуха, он тянется к окну и… захлопывает его. Он может дышать, только оградив себя от поднимающихся столбов пыли, перекрыв им доступ.
Да, это пыль, заставляющая кашлять и плеваться кровью, не столь привлекательна, как та, на которую ты жалуешься. Так ты готов? Тогда в путь!
– И куда же мы отправимся? – поинтересовался Дюрталь.
Де Герми не ответил. Они свернули с улицы де Регар, где жил Дюрталь, и по улице Шешр-Миди дошли до Круа-Руж.
– Пойдем на площадь Сан-Сюльпис, – предложил де Герми.
Помолчав, он добавил:
– Что же касается пыли, то она зовет к истокам и напоминает о конце. Знаешь ли ты, что в зависимости от того, тучен или худощав был человек, его останки становятся добычей разных видов червей. Трупы полных людей пожирают личинки ризофагов, а сухопарые кишат форасами. О, это самый аристократичный клан паразитов, черви-аскеты, презирающие обильную пищу, равнодушные к сочным грудям и добротным жирным животам. Подумать только, что и личинки умудряются вносить разнообразие в кропотливый труд по превращению нас в прах!
Кстати, вот мы и пришли, дружище.
Они остановились на углу улицы Феру. Дюрталь задрал голову и прочел надпись, прикрепленную сбоку от паперти церкви Сан-Сюльпис: «Разрешен осмотр башен».
– Поднимемся? – предложил де Герми.
– Стоит ли? В такую погоду!
И Дюрталь указал на черные тучи, расползающиеся по серому небосклону, подобно дыму, который изрыгают заводы. Они проплывали так низко, что жестяные трубы, высящиеся над крышами, вонзались в них белесыми занозами.
– У меня нет ни малейшего желания карабкаться по перекосившимся ступеням, не вызывающим доверия. Что ты там забыл? Уже темнеет, вот-вот начнется дождь. Нет уж, уволь меня от этого мероприятия!
– Какая тебе разница, где именно дышать воздухом? Пойдем, уверяю тебя, это будет небесполезно.
– Так у тебя есть определенная цель?
– Да.
– Так бы сразу и сказал.
Вслед за де Герми он нырнул под паперть. Тусклая лампа, висящая на гвозде, освещала дверь, расположенную в глубине склепа. За ней находилась лестница, ведущая на башню.
В полутьме они одолевали винтовую лестницу. Дюрталь начал уже подозревать, что сторож куда-то отлучился, как вдруг красноватый луч света упал на полукруг стены, и они наткнулись на дверь.
Де Герми дернул шнур звонка, и дверь исчезла, как по волшебству. Им открылись уходящие вверх ступеньки. Лампа осветила чьи-то башмаки, расположенные на уровне их глаз, в то время как сама фигура оставалась невидимой.
– Да никак это месье де Герми!
Над ними нависла пожилая женщина. Ее тело прочертило дугу на залитом светом пространстве.
– Боже мой, вот Луи обрадуется!
– А он здесь? – спросил де Герми, пожимая ей руку.
– Он на башне. Не хотите ли передохнуть немного?
– Нет. Если позволите, то на обратном пути.
– Ну, тогда поднимайтесь. Там будет дверь, вся в щелях… господи, совсем забыла, вы и так все знаете не хуже, чем я!
– Да, да… до скорого. Кстати, позвольте вам представить моего друга Дюрталя.
Дюрталь машинально поклонился куда-то в темноту.
– О, месье, Луи так хотел познакомиться с вами!
«Куда он меня завел?» – подумал Дюрталь, плетясь за своим другом в кромешной темноте, перешагивая через толстые снопы света, проникавшие сквозь бойницы, погружаясь в черноту, плутая, натыкаясь на робкие дневные лучи.
Казалось, их восхождению не будет конца. Впереди замаячила рассохшаяся дверь. Де Герми толкнул ее, и они очутились на деревянном помосте, парившем над пустотой, на краю двух смыкавшихся колодцев: один раскинулся у их ног, другой навис над ними.
Де Герми чувствовал себя здесь как дома. Жестом он призвал Дюрталя оценить открывшееся зрелище.
Дюрталь огляделся.
Он стоял на середине башни. Ее внутреннее пространство пересекали два толстых бруса, расположенных наподобие буквы X, балки, соединенные поперечинами, надежно закрепленные, сцепленные между собой болтами величиной с кулак. Ничто не выдавало присутствия человека. Дюрталь сделал несколько шагов, держась стены, по направлению к свету, выбивающемуся из-под навесов звукоотражающих устройств.
Заглянув в пропасть, он различил колокола, висящие на дубовых перекладинах, обшитых железом, величественные, отлитые из тусклого металла, упитанные, намасленные, поглощающие световые лучи.
Он взглянул наверх и невольно попятился, зачарованный новой серией колоколов, зависшей в воздухе. На них было выбито рельефное изображение епископа, их внутренняя поверхность, отшлифованная мерными ударами языка, золотисто пламенела.
Повсюду царила неподвижность. Только ветер позвякивал пластинками звукоотражателей, неистовствовал в деревянной клетке, завывал на лестнице, забирался в опрокинутые чаши колоколов. Внезапно он почувствовал на лице осторожную, молчаливую ласку легкого ветерка. Подняв глаза, он увидел, что один из колоколов пришел в движение. Он раскачивался все сильнее, его язык, похожий на исполинский пестик, извлекал из литой бронзы мощные звуки. Башня сотрясалась, настил, на котором стоял Дюрталь, вибрировал, словно пол в вагоне мчащегося поезда, непрерывно нараставший гул рассекали тяжелые удары.
Напрасно Дюрталь вглядывался вверх, изучал своды башни – ему никак не удавалось обнаружить хозяина этих мест. В конце концов он заметил нависшую над пустотой ногу, которая надавливала на одну из деревянных педалей, расположенных под колоколами, и, припав к брусу, он рассмотрел наконец звонаря. Ухватившись за две железные скобы, тот раскачивался над пропастью, неподвижно уставившись в небо.
Дюрталь никогда не видел такого бледного лица и такого странного взгляда. Цвет лица этого человека не был того воскового оттенка, какой проступает на щеках выздоравливающего больного, долго пролежавшего в постели, нельзя было назвать его и матовым, встречающимся у продавщиц парфюмерных изделий, чья кожа обесцвечивается ядовитыми едкими запахами. Он не напоминал и сероватую с забитыми пылью порами кожу изготовителей нюхательного табака, нет, Дюрталь видел перед собой обескровленное, мучнисто-бледное лицо, несущее на себе печать средневековья, лицо приговоренного к пожизненному заключению в сырых застенках, в черном спертом воздухе монастырских тюрем.
Его круглые пронзительные голубые глаза, казалось, созданы для заклятья слезами, но это впечатление сглаживалось, как только взгляд падал на торчащие в разные стороны кустистые усы, вызывающие ассоциации с кайзером. В этом человеке было что-то скорбное и одновременно воинственное.
В последний раз надавив на педаль, он откинулся назад и замер. Затем он отер пот со лба и улыбнулся де Герми.
– А! – воскликнул он, – так вы здесь!
Он спустился вниз. Услышав имя Дюрталя, он просиял и пожал ему руку.
– Вы желанный гость, месье. Де Герми часто говорил о вас, но при этом умудрился столько времени скрывать вас от меня. Пойдемте же, – радостно проговорил он, – я покажу вам свои владения. Я читал ваши книги и уверен, что такой человек, как вы, не может не любить колокола. Но лучше всего осматривать их сверху.
Одним прыжком он оказался на лестнице. Де Герми подтолкнул Дюрталя. Сам он замыкал шествие.
На очередном витке лестницы Дюрталь обратился к де Герми:
– Почему ты не сказал мне, что твой друг Карекс – а это он, не так ли, звонарь?
Де Герми не успел ответить, так как они уже были у цели. Лестница привела их под каменные своды башни. Карекс, прижавшись к стене, пропустил своих гостей вперед. Они оказались в овальном помещении, посередине которого зияла пропасть, обнесенная железной оградой с причудливым орнаментом разъедающей ее ржавчины.
Подойдя вплотную к ограде, можно было заглянуть на самое дно пропасти, и тогда ощущение того, что находишься на краю колодца, опоясанного песчаником, становилось особенно отчетливым. Правда, казалось, что колодец неисправен и что косые кресты перекладин, на которых были подвешены колокола, нагроможденные на разных уровнях раструба, подпирают пришедшие в негодность стены.
– Идите сюда, не бойтесь, – сказал Карекс. – Полюбуйтесь, господа, на моих подопечных.
Слова Карекса плохо доходили до Дюрталя. Ему было не по себе. Пустота, из глубины которой доносился скорбный звон колокола, еще не обретшего покоя, притягивала его.
Он отступил от края бездны.
– Хотите подняться на самый верх башни? – предложил Карекс, кивнув в сторону железной лестницы, почти сливающейся со стеной.
– Нет, лучше в другой раз.
Они начали спускаться. Карекс, вдруг став молчаливым, открыл какую-то дверь. Они двигались по узкому проходу, забитому огромными поврежденными статуями святых, среди рябых искалеченных апостолов, безногих и безруких скульптур святого Матфея, святого Луки в сопровождении обезглавленного быка, одноглазого святого Марка со снесенной частью бороды, святого Петра, лишенного ключей, с обрубленными кистями.
– Когда-то, – заговорил Карекс, – здесь были подвешены качели, и малышня собиралась целой гурьбой. Но, конечно, начались злоупотребления, достаточно было нескольких су, чтобы проникнуть сюда поздним вечером, и чего только не повидали эти стены! В конце концов кюре распорядился снять качели и запереть помещение.
– Что это? – спросил Дюрталь, заметив в углу полукруглую гигантскую глыбу из металла, напоминающую часть купола, в чехле пыли, под грудой дырявой ткани, похожей на рыболовные сети, усыпанные шариками грузил, опутанную черной паутиной.
– А, это! – Блуждающий взгляд Карекса прояснился, в его глазах затеплился огонь. – Это, месье, все, что осталось от старинного колокола. Его звучание было неподражаемо, его голос лился прямо с небес!
Он заметно воодушевился.
– Вы, может быть, уже слышали от де Герми… С колоколами – увы! – покончено. На свете больше нет звонарей. Кто сейчас звонит в колокола? Мальчишки-угольщики, кровельщики, строители, пожарники в отставке, которых нанимают за один франк! О – видели бы вы их! Более того, появились кюре, которые, нисколько не смущаясь, могут сказать: «Отыщите парочку солдат, за десять су они сделают все, как надо». Дошло до того, что один такой умелец в Нотр-Дам, если мне не изменяет память, вовремя не убрал ногу, и колокол со всего размаху ударил по нему и перерезал его, словно бритва.
Все эти безумцы, готовые платить тридцать тысяч франков за какие-то балдахины, разоряющиеся на музыку, занятые тем, чтобы провести газ в церкви или еще чем-нибудь в этом роде! Когда же речь заходит о колоколах, они пожимают плечами. Знаете ли вы, месье Дюрталь, что в Париже нас осталось всего двое, я и старина Мишель. Он не женат, и его образ жизни не позволяет сделать из него верного служителя церкви. Но никто не может сравниться с этим человеком в умении строить звон. Он тоже теряет интерес к колоколам. Он пьет, работает, часто под хмельком, потом снова пьет, а затем спит.
Да, с колоколами покончено. Не далее как сегодня утром монсеньор совершал положенный ему как пастырю обход. В восемь часов колокольный звон должен был ознаменовать его появление. Звонили шесть колоколов, те, что вы видели. Нас собралось шестнадцать человек наверху. И что? Эти люди являли собой жалкое зрелище, они беспорядочно раскачивали колокола, вступали не вовремя, настоящая какофония!
В глубоком молчании они продолжали спускаться по лестнице.
– Колокольный звон, – внезапно произнес Карекс, обернувшись и пристально глядя на Дюрталя, захлестывая его плещущей через край голубизной глаз, – это единственно истинная церковная музыка!