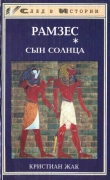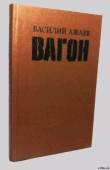Текст книги "Геенна огненная"
Автор книги: Жорис-Карл Гюисманс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Переходя от одного злодеяния к другому, он быстро пресыщался ими. И тогда он изобрел редкостную приправу к ним. Ему стало мало одной холодной жестокости дикого зверя, играющего со своей жертвой. Он захотел, чтобы его добычей было не только тело, но и душа его пленников, чтобы ребенок страдал не только от физической, но и от душевной боли. Он манипулировал человеческой благодарностью, привязанностью, любовью. Он легко и быстро освоил все пороки, в которых может отличиться человек, и уверенно шагнул в бездонный мрак Зла.
Вот что он придумал.
Несчастного ребенка приводили в комнату, и Брикевиль, Прелати, Сийе подвешивали его на крюк, вбитый в стену. Когда он уже терял сознание, Жиль приказывал опустить его на землю и развязать веревки. Он осторожно сажал ребенка на колени, ласкал его, баюкал, утирал слезы, указывая на своих сообщников, говорил: эти люди плохие, но, ты видишь, они слушаются меня, не бойся, я спасу тебя от них, ты вернешься домой, к матери. Ребенок, вне себя от радости, обнимал, целовал его, и тогда он вдруг надрезал его шею сзади, так что голова частично отделялась от туловища и повисала, как выражался сам де Рэ, «бессильно», а затем терзал тело, распаляясь все больше и больше.
После этого он решил, что выжал все возможное из искусства забойщика скота, и гордо заявил: «На всей планете не найдется человека, который осмелился бы замахнуться на то, что сделал я!»
Избранным душам открывается райское блаженство царства Добра и Любви, но обитель Зла скрыта от глаз человека. Путь насилия и убийств был пройден маршалом до конца. Он задумывал новые преступления, изобретал новые медленные пытки, но его воображение уже стало иссякать, он и так превзошел масштабы фантазии, отпущенной человеку. Он вдруг оказался перед пустотой и, задыхаясь, признал правоту сатанистов, утверждавших, что лукавый часто обманывает людей, добивающихся его внимания.
Он стоял на последней ступени, и дальше пути не было. Тогда он попытался двинуться назад, и тут угрызения совести подстерегли его, обступили со всех сторон и принялись терзать его, не давая передышки.
По ночам ему являлись призраки, и он каялся, выл, словно смертельно раненное животное. Он в одиночестве метался по замку, плакал, бросался на колени, клялся, что готов нести какую угодно епитимью, обещал Богу, что посвятит себя благотворительности. Он выстроил в Машекуле коллегиальную церковь и посвятил ее невинноубиенным, поговаривал о том, что уйдет в монастырь, собирался отправиться пешком в Иерусалим.
Он был порывист, склонен к экзальтации, и мысли вихрем проносились у него в голове, противоречили друг другу, наползали одна на другую, таяли, снова проступали, откладывая свой отпечаток на общий ход внутренней борьбы. Вдруг, невзирая на тоску и уныние, он кинулся в разгул, впал в такое бешенство, что набросился на ребенка, которого ему привели, вырвал ему глаза, погрузил пальцы в сочившуюся белую жидкость, затем схватил палку с шипами и ударил его по голове с такой силой, что расколол ему череп.
И когда брызнула кровь, он, созерцая размозженную голову, заскрипел зубами и захохотал. Словно затравленное животное, он скрылся в лесу, а его сообщники мыли пол, избавлялись от трупа и тряпья.
Он рыскал по лесам, окружавшим Тиффог, в дремучей густой черноте, которая до сих пор таится в глубине Бретани.
Сотрясаясь от рыданий, он блуждал по лесу, отгоняя от себя призраков, и внезапно заметил, сколь непристойно выглядят старые деревья.
Казалось, природа перерождается в его присутствии, приобретает порочность, впервые он задумался о вечной похоти лесов, разглядел в высоких деревьях души сыновей Вакха и Венеры.
Ему почудилось, что вокруг него живые существа. Они стоят, наклонив голову, уткнувшись в пышную шевелюру своих корней, выбросив ноги в воздух, раскорячив их, двоятся, уменьшаются в размерах по мере удаления от ствола. Между их ног прорастают другие ветки, и непристойно-блудливые цепочки поднимаются к вершине, которая, словно фаллос, скрывается под юбкой листвы или, если посмотреть в обратном направлении, прорастает из зеленой гривы и утыкается в бархатистый живот земли.
На него наплывали страшные образы. Он опять видел перед собой кожу убитых мальчиков, белую, словно пергамент, она светилась в бледных гладких стволах высоких буков, грубая эпидерма нищих-попрошаек обернулась черной шероховатой корой дубов. Под вилами веток зияли отверстия, лохмотья коры образовывали узлы вокруг овальных ран, щели в морщинах складок, похожие на выводные каналы, исходящие из глубины живого организма. Вглядевшись в согнутые руки ветвей, он различил впадины, подмышки в завитках серого лишайника, деформирующие ствол, с длинными расходящимися краями, поросшие рыжими бархатистыми пучками и мхом.
Все вызывало у него непристойные ассоциации, земля, небесный свод изобиловали двусмысленными формами и символами. Облака надувались, как груди, раскачивались, словно бедра, опадая, походили на тощий круп, округлялись, будто плодоносящие бурдюки, тая, превращались в вытянутые ребристые молоки. Они гармонично сочетались с мрачным разгулом деревьев, этим нагромождением гигантских и карликовых ягодиц, с бесчисленными заветными женскими треугольниками, резко прочерченными линиями буквы V, ртами Содома, косыми вершинами, влажными корнями. Но и этот тошнотворный пейзаж вдруг изменился. Теперь Жиль лицезрел злокачественные наросты, язвы, продольные раны, бугры, червоточины, жуткие пробоины. Он находился в лепрозории, в венерической больнице для деревьев, посередине которой, на повороте, торчал красноватый бук.
Его пурпурные листья осыпались, образуя кровавые подтеки. Он чувствовал, как в нем закипает бешенство, ему грезилось, что где-то под корой прячется лесная нимфа, он хотел впиться в тело языческой богини, убить эту дриаду, надругаться над ней, здесь, в этих местах, неподвластных человеческим страстям.
Он позавидовал дровосекам, которые могут убить, растерзать эти деревья, в исступлении он что-то выкрикивал, выжидал, вслушивался в шорохи, лес отвечал на его призывы гулким уханьем ветра. Вконец обессиленный, он заплакал и побрел назад, вернулся в замок и рухнул на кровать.
Но и во сне призраки толпились вокруг него. Похотливые движения веток, уродливые объятия лесных существ, рваные, расползающиеся раны, бесстыдно приоткрытые заросли исчезли, умолкли рыдания листвы, которую нещадно стегал ветер, белые нарывы облаков растворились в сером небе, и во внезапно наступившей тишине перед ним явились инкубы и суккубы.
Тела растерзанных им жертв, превращенные в пепел, устилающие глубокие рвы, вновь обрели целостность. Со всех сторон его атаковали злые ларвы. Он отбивался, захлебывался в крови, сполз с постели и, встав на четвереньки, приблизился, подобно волку, к распятию и вцепился зубами в подножие Христа.
И тут все в нем перевернулось. Он содрогнулся перед искаженным лицом Христа, который смотрел на него с распятия. Он взмолился о пощаде, рыдания сотрясали его тело, силы покинули его, и он мог только едва слышно стонать, и тогда он с ужасом различил в своем плаче слезные голоса убитых детей, которые звали матерей и просили о помощи.
Дюрталь, очнувшись от привидевшихся ему сцен, захлопнул тетрадь с записями. Он пожал плечами, подумав, что все его душевные метания из-за какой-то женщины просто смешны, потому что речь идет всего-навсего о банальном грехе, вполне в духе буржуа.
XII
«Нужно как-то объяснить мой визит, – думал Дюрталь, направляясь на улицу Банё. – Уже несколько месяцев я не появлялся у Шантелува, и его, наверное, удивит мой неожиданный приход. Впрочем, повод найти легко. Если он окажется дома, что маловероятно, потому что зачем тогда было назначать мне это свидание? Да, в таком случае я скажу ему, что узнал от де Герми о его приступе подагры и решил зайти осведомиться о его здоровье».
Он вошел в дом, где жил Шантелув, и поднялся по лестнице. Это была очень старая лестница, с железными перилами, широкими ступеньками из красных кирпичиков, отделанных по краям деревом. Ее освещали благородные лампы, увенчанные шлемами из зеленой материи.
Стены дома пахли могильной сыростью, от них исходил какой-то церковный дух, уютный и вместе с тем приподнятый, который начисто отсутствует в зданиях современной кладки, сделанных будто из папье-маше. Невозможно представить себе, чтобы под этой крышей теснилось множество квартир, в которых содержанки соседствуют с чинными буржуазными семьями. Этот дом ему нравился, и он нашел, что в этих величественных стенах Гиацинта будет особенно желанна.
На втором этаже он остановился и позвонил. Горничная провела его по длинному коридору в гостиную. Оглядевшись, Дюрталь отметил, что здесь ничего не изменились со времени его последнего визита.
Это была просторная комната с высоким потолком, окнами во всю стену, с камином, украшенным скульптурным портретом Жанны дʼАрк из бронзы, по бокам которого висели две лампы под колпаками из японского фарфора. Пианино с длинным шлейфом покрывала, стол, заваленный альбомами, диван, кресла в стиле Людовика XV в расшитых чехлах – все стояло на прежних местах. По углам – японские синие вазы с чахлыми пальмами. По стенам развешаны картины, по большей части на религиозные сюжеты, среди них – портрет молодого Шантелува в три четверти, опирающегося на стопку собственных сочинений. Старинный русский иконостас из черненого серебра, деревянная скульптура Христа XVII века, вырезанная Богаром де Нанси, на фоне бархата в золоченой благородной раме немного скрадывали банальность обстановки, среди которой буржуа привыкли отмечать Пасху, принимать священников и дам, занимающихся благотворительностью.
В камине пылал огонь, высоко подвешенная лампа в розовом кружевном абажуре освещала комнату.
«Попахивает ризницей!» – поморщился Дюрталь, и в этот момент открылась дверь.
Вошла мадам Шантелув, пеньюар из белого мольтона плотно облегал ее фигуру, от нее исходил запах итальянских духов. Она пожала руку Дюрталю и села напротив него. Он разглядел под складками пеньюара шелковые чулки и лакированные туфельки с пряжками.
Они поговорили о погоде, мадам Шантелув жаловалась на затяжную зиму, говорила, что, несмотря на пылающие печи, все время мерзнет, в доказательство протянула ему руку, ледяную на ощупь, поинтересовалась, здоров ли он, отметила, что он очень бледен.
– У вас грустный вид, – сказала она.
– На то есть причины, – немного рисуясь, протянул Дюрталь.
Она немного помолчала, потом произнесла:
– Я видела вчера, как сильно вы желали обладать мною. Но зачем, зачем сводить наши отношения к этому!
Дюрталь с досадой пожал плечами.
– Вы странный человек, – продолжала она. – Сегодня я перечитала одну из ваших книг и нашла там весьма оригинальное утверждение: «Прекрасны лишь те женщины, которые нам не принадлежат». Признайтесь, ведь вы и вправду так считаете!
– Трудно сказать. Когда я писал эти строки, я не был влюблен.
Она покачала головой, недоверчиво глядя на него.
– Что ж, пойду предупрежу мужа о том, что вы здесь.
Дюрталь промолчал. Он силился понять, какая роль уготована ему этой четой.
Мадам Шантелув вернулась в гостиную вместе с мужем. Он был одет по-домашнему, поигрывая зажатой в зубах ручкой.
Он извлек изо рта ручку, положил ее на стол и заверил Дюрталя в том, что уже совершенно выздоровел. Затем он посетовал на свою занятость, вздохнул о непосильной ноше, которую сам взвалил себе на плечи.
– Мне пришлось отказаться от званых обедов, я перестал устраивать приемы и сам не бываю в свете. С утра до вечера я прикован к столу.
Дюрталь поинтересовался, над чем он работает. Шантелув ответил, что составляет жития святых по заказу торгового дома де Тур. Предполагается целая серия из многих томов.
– Да, – засмеялась его жена, – эти святые получаются довольно-таки большими неряхами.
Дюрталь вопросительно посмотрел на Шантелува, и тот кивнул, вторя смеху жены.
– Она права, судя по предложенным мне сюжетам, издателю хочется, чтобы я сложил гимн грязи. Я должен описывать блаженных, которые по большей части оказываются ужасно неряшливы. Лавр, по телу которого ползали паразиты и который так вонял, что его пугались даже свиньи в хлеву; святая Кюнегонда, из смирения оставлявшая свое тело без всякого внимания; святая Оппортюна, которая никогда не пользовалась водой и умывалась исключительно слезами, орошая этой влагой и свою постель; святая Сильвия, которая вообще никогда не протирала лица; святая Радегонда, не снимавшая с себя власяницы и спавшая в золе, и многие другие, чьи нечесаные головы мне приходится окунать в золотое сияние.
– Ну, встречаются святые, начисто лишенные брезгливости, – заметил Дюрталь, – прочитайте хотя бы житие святой Марии-Маргариты. – Чтобы умерщвлять свою плоть, она лизала испражнения одной больной и высасывала нарыв с пальца ноги какого-то калеки.
– Да, я знаю, но, должен сказать, все это меня нисколько не умиляет, наоборот, внушает отвращение.
– Мне больше нравится святой мученик Лука, – сказала мадам Шантелув. – Его тело было таким прозрачным, что он видел нечистоты, в которых погрязло его сердце. С нашей точки зрения, у него не было повода так уж сокрушаться.
Некоторое время все молчали. Потом она добавила:
– По правде говоря, я не люблю монастыри из-за этой нечистоплотности, а средние века вообще внушают мне ужас по этой же причине!
– Извините, дорогая, – возразил ее муж, – но вы сильно ошибаетесь. В средние века все посещали, и довольно усердно, бани, так что с гигиеной дела обстояли не так уж плохо. В Париже, например, было множество бань, и служители обходили кварталы, оповещая жителей, что вода нагрелась. Во Франции грязь расплодилась в эпоху Возрождения. Подумать только, восхитительная королева Марго вымачивала в духах свое тело, прокопченное, черное, словно днище печи. А Генрих IV, который хвастался тем, что от его ног воняет и что карманы его жилета прохудились!
– Друг мой, умоляю, избавьте нас от подробностей, – попросила мадам Шантелув.
Дюрталь наблюдал за Шантелувом. Маленького роста, кругленький, он заметно поправился и уже с трудом сводил руки на животе. У него были красные щеки, длинные напомаженные волосы сзади завиты локонами. Клочки розовой ваты торчали из ушей, он был тщательно выбрит и походил на нотариуса, добродушного и набожного. Но живой, лукавый взгляд разрушили этот слащавый образ весельчака. В нем сквозила железная воля интригана, человека себе на уме, способного, источая мед, совершать подлости.
«Его, наверное, так и подмывает выставить меня за дверь, – подумал Дюрталь. – Не может быть, чтобы он не знал о происках своей жены!»
Но даже если Шантелув и мечтал поскорее избавиться от присутствия Дюрталя, он ничем себя не выдавал. Скрестив ноги, сложив руки на животе так, как это делают обычно священники, он с самым заинтересованным видом принялся расспрашивать Дюрталя о его изысканиях.
Наклонившись немного вперед, он внимательно слушал Дюрталя, которому казалось, что он очутился вдруг на подмостках сцены, затем заметил:
– Да, я знаком с этим материалом. Когда-то я держал в руках неплохую книгу о Жиле де Рэ, кажется, аббата Боссара…
– Это самое полное и самое достоверное жизнеописание маршала.
– Однако, – продолжил Шантелув, – одного я так и не понял. Почему Жиля де Рэ прозвали Синей Бородой, я не вижу ничего, что в его жизни напоминало бы сказку старого Перро.
– На самом деле Синей Бородой был не Жиль де Рэ, а бретонский король по имени Комор. Его дворец, выстроенный в VI веке, частично сохранился. Он располагался вблизи карноэтских лесов. По преданию, этот король попросил у Гверока, графа де Ванн, руки его дочери Трифины. Гверок отказал ему, так как до него дошли слухи, что этот король, недавно овдовевший, убивал своих жен. Но святой Жильдас пообещал ему, что его дочь вернется к нему живой и здоровой, и тот решился расстаться с наследницей. Отпраздновали свадьбу, а через несколько месяцев Трифине стало известно, что Комор убивает своих жен, как только те забеременеют. И так как она уже ждала ребенка, ей ничего не оставалось, как бежать. Но муж отыскал ее и отрубил ей голову. Безутешный отец призвал святого Жильдаса и напомнил ему об обещании, и тот воскресил Трифину.
Как видите, эта легенда куда ближе к старинной сказке, обработанной Перро, чем история Жиля де Рэ. Но когда и при каких обстоятельствах прозвище Синяя Борода перекочевало от короля Комора к маршалу, я не знаю. Эта тайна погребена во мраке веков.
– Но с этим вашим Жилем де Рэ вы, должно быть, с головой ушли в сатанизм? – после некоторого молчания спросил Шантелув.
– Да, но я занят давно забытым прошлым. Куда заманчивее было бы описать современный сатанизм!
– Наверное, – добродушно кивнул Шантелув.
– Я наслышан об удивительных вещах, – продолжал Дюрталь, не сводя глаз с Шантелува, – о священниках-отступниках, например, о каком-то канонике, устраивающем шабаши вполне в духе средневековья…
Шантелув хранил прежнюю невозмутимость. Вытянув ноги и подняв глаза к потолку, он произнес:
– Случается, что паршивые овцы отбиваются от стада, но это происходит так редко, что не стоит и говорить об этом.
И, уклонившись от продолжения этого разговора, он пустился в рассуждения о Фронде и стал излагать основные положения недавно прочитанной им книги на эту тему.
Дюрталь понял, что Шантелув избегает говорить о своих связях с каноником Докром. Ему стало неловко, и он молча слушал Шантелува.
– Друг мой, – обратилась к мужу мадам Шантелув, – а ваша лампа… она коптит. Несмотря на закрытую дверь, я чувствую запах гари.
Она его отсылала! Едва заметно усмехнувшись, Шантелув поднялся, извинился перед Дюрталем за то, что ему пора возвращаться к письменному столу, пожал ему руку, попенял на то, что тот стал таким редким гостем, поплотнее запахнул на животе полы халата и удалился.
Она взглядом проследила за ним, затем в свою очередь встала с места, подошла к двери, убедилась, что та плотно закрыта, и, остановившись перед Дюрталем, который прислонился к камину, молча взяла его голову в свои руки и поцеловала в губы.
Он застонал.
Серебристые искорки засверкали в ее безжизненных, подернутых дымкой глазах. Он обнял ее, податливую и настороженную. Вздохнув, она высвободилась из его рук, и он в замешательстве забился в дальний угол и сел, судорожно сжимая кулаки.
Они заговорили о пустяках. Мадам Шантелув похвасталась преданностью своей горничной, готовой по ее приказу броситься в огонь. Дюрталь выказал свое удивление и восхищение.
Внезапно она поднесла руку ко лбу.
– А! – проговорила она, – одна мысль о том, что он рядом, заставляет меня страдать! Нет, боюсь, меня замучают угрызения совести. Я понимаю, что то, что я говорю сейчас, глупо, но, если бы он был другим человеком, проводил время в светских салонах, ухаживал бы за женщинами… все было бы иначе.
Ее лицемерные жалобы наскучили ему. Окончательно успокоившись, он приблизился к ней и сказал:
– Грех – он и есть грех. Что меняется от того, пустимся ли мы в плавание или останемся на берегу? К чему эти разговоры об угрызениях совести?
– Да, конечно, то же самое, только в более резкой форме, говорит мой духовник. Но все равно есть некоторая разница…
Дюрталь рассмеялся, подумав, что угрызения совести – отменное средство для возбуждения аппетита пресыщенных страстями натур, и пошутил:
– Если бы я был духовником и вдобавок был казуистом, то занялся бы изобретением новых грехов. Но на своем месте я готов удовлетвориться тем, который мне удалось отыскать, не прилагая особых усилий.
– Да? – Она заразилась его смехом. – А я могла бы совершить этот грех?
Он взглянул на нее. В ней промелькнуло что-то от ребенка, которому посулили лакомство.
– Только вы и можете ответить на этот вопрос. Впрочем, этот грех не так уж и нов, он лежит в хорошо известной области Сладострастия. Но со времен язычества его успели позабыть, во всяком случае он остается в тени.
Она поглубже уселась в кресло и внимательно посмотрела на него.
– Не томите меня, – взмолилась она, – все вокруг да около, объясните, в чем состоит этот грех.
– Это не так-то просто сделать. Ну да ладно, попробую. В области Сладострастия хорошо известен обычный плотский грех, кроме того, существуют различные извращения, граничащие с сатанизмом. Так вот, к этому следует прибавить то, что я назвал бы пигмалионизмом, в котором есть что-то от нарциссизма, онанизма и инцеста.
Представьте себе художника, который влюбляется в свое детище, в плод своих творческих усилий, в Иродиаду, или Юдифь, или прекрасную Елену, или в Жанну дʼАрк, словом, в тот образ, который вдохновил его на труд. Он все время думает о ней, и она начинает приходить к нему во сне. Так вот, такой род любви хуже обычного инцеста. В этом случае отец виновен лишь наполовину, так как его дочь рождена не только от него, но также и от плоти матери. Рассуждая логически, следует признать, что при инцесте соблазнитель отчасти имеет дело с чужеродной натурой, так что этот акт почти естествен и законен. При пигмалионизме же отец овладевает дочерью, которую он сам выносил в своей душе, которая принадлежит только ему и больше никому, в которой течет только его кровь. Вот это действительно грех. В нем есть что-то и от святотатства, так как речь идет о бесплотных, нереальных существах, подаренных миру талантом, почти небесных созданиях, приобретающих благодаря гению художника бессмертие!
Если хотите, можно пойти еще дальше. Вообразите художника, который изобразил святого и вдруг воспылал страстью к этому персонажу. Насколько это отягощает его грех против человеческой натуры и против Бога!
– Восхитительно!
Он осекся, пораженный прозвучавшей оценкой. Она поднялась, приоткрыла дверь и позвала мужа.
– Друг мой, – выпалила она, – Дюрталь открыл совершенно неизученный грех!
– Не может быть, – откликнулся Шантелув, появляясь в дверном проеме. – Список грехов и пороков не подлежит ревизии. Нельзя ничего ни прибавить, ни отнять. О чем идет речь?
Дюрталь изложил ему свою теорию.
– Но это всего лишь более изысканный вид соития с инкубами или суккубами. Дело совсем не в том, что оживает творение художника. Просто суккуба принимает облик, занимающий воображение художника.
– Но признайте, что этот порок, не имеющий под собой никаких реальных оснований, отличается от остальных хотя бы тем, что является привилегией творческих натур, присущ избранным и недоступен толпе!
– Аристократы порока! – засмеялся Шантелув. – Но мне пора к моим святым, рядом с ними легче дышится. Я не прощаюсь, Дюрталь. Оставляю вас любезничать с моей женой и кружить ей голову маленькими тайнами сатанизма.
Он сказал это с самым невинным видом, скорее даже добродушно, но ирония все-таки проскользнула в его словах.
Дюрталь уловил скрытую насмешку. «Уже, наверное, поздно», – подумал он и взглянул на часы. Было почти одиннадцать.
Дверь за Шантелувом захлопнулась. Он встал, чтобы откланяться.
– Когда я увижу вас? – тихо спросил он.
– Завтра я буду у вас в девять вечера.
Он умоляюще взглянул на нее. Она прекрасно поняла значение этого взгляда, но решила немного помучить его.
С истинно материнской лаской она поцеловала его в лоб и снова заглянула ему в глаза.
Видимо, довольная их выражением, выпрашивающим более ощутимую ласку, мадам Шантелув, коснувшись губами его ресниц, приникла к его устам, чуть дрожащим от волнения.
Потом она позвонила и попросила горничную посветить Дюрталю. Спускаясь по лестнице, он с удовлетворением подумал, что завтра она наверняка уступит его домогательствам.