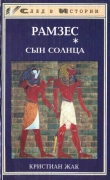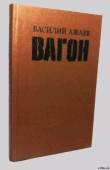Текст книги "Геенна огненная"
Автор книги: Жорис-Карл Гюисманс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
XIII
На следующий день он снова посвятил часть времени уборке. Беспорядок приобрел более оформленный вид, подушка заняла свое место под креслом, и старательно поддерживаемый огонь согревал комнаты.
Но Дюрталь не чувствовал в себе прежнего нетерпения. Ему удалось вырвать у мадам Шантелув молчаливое обещание, и он успокоился. В душе поселилась уверенность, лишившая его болезненного, лихорадочного томления, с которым он еще недавно ожидал прихода этой женщины, притупившая остроту переживаний… Он помешал угли в камине. Мысли его по-прежнему были заняты мадам Шантелув, но она представлялась ему молчаливой и неподвижной. Он прикидывал, как лучше взяться за дело, чтобы не осталось неприятного осадка, но все эти соображения, столь мучившие его два дня назад, потеряли свою свежесть. Он решил положиться на случай, так как убедился на собственном опыте, что даже безупречный план, составленный по всем правилам стратегии, легко может быть разрушен.
В конце концов он взбунтовался против охватившей его вялости и, чтобы сбросить с себя оцепенение, исходившее, как ему казалось, от обволакивавшего тепла, принялся ходить из угла в угол. Может быть, слишком долгое ожидание остудило его пыл? Да нет, он все еще жаждал объятий этой женщины. Все-таки причины своей сдержанности он склонен был видеть в отвращении, которое он испытывал к затруднениям, подстерегавшим его при первом опыте близости с женщиной. «Этот вечер вряд ли доставит настоящее удовольствие, – думал он, – а вот потом… наши тела уже будут знать друг друга, и нам не придется опасаться дурацких и нелепых ситуаций. Гиацинта станет моей, я привыкну к изгибам ее тела, смогу не заботиться больше о том, как я выгляжу, не обдумывать каждый свой жест. О, как бы мне хотелось перепрыгнуть сразу на эту ступень!»
Кот, восседавший на столе, вдруг навострил уши и уставился зелеными глазищами на дверь, готовясь шмыгнуть в укромный уголок. Раздался звонок, и Дюрталь отворил дверь.
Ему понравилось, как она одета. Она освободилась от мехового пальто и осталась в платье, темно-лиловом, почти черном, из плотной мягкой ткани. Оно подчеркивало фигуру, плотно облегало руки, обхватывало тонкую талию, облегало бедра, корсет стягивал грудь.
– Вы обворожительны, – пробормотал он, страстно целуя ее запястья, и радостно заметил, что его губы оказали должное воздействие на ее пульс.
Она была взволнована и бледна.
Не произнеся ни слова, она села, он устроился напротив нее. Он снова чувствовал на себе ее загадочный взгляд полусонных глаз. Он был пленником, забыл все свои сомнения и страхи, горел от нетерпения броситься с головой в волны, покачивающиеся на дне ее зрачков, приникнуть к слабой улыбке болезненно искривленного рта. Их пальцы переплелись, и он впервые назвал ее по имени. «Гиацинта», – чуть слышно шепнул он.
Ее руки горели и чуть дрожали, грудь вздымалась. Умоляющим голосом она произнесла:
– Прошу вас, остановимся на этом. Давайте будем ценить охвативший нас восторг. Я знаю, что говорю, по дороге сюда я все обдумала. Я оставила его таким грустным. Если бы вы могли понять меня! Сегодня я была в церкви, и мне стало страшно, я спряталась, увидев своего духовника…
Все ее жалобы он уже зазубрил наизусть. «Давай, городи свой огород, – думал он, – сегодня вечером тебе не удастся увильнуть!» На ее монолог он отвечал более чем краткими репликами.
Он встал, прикинув, что так будет удобнее поцеловать ее.
– Ваши губы! Помните, вчера… – Он нагнулся, и она, взвившись с места, припала к нему. Они стояли, обнявшись, но она, почувствовав, что его руки смелеют, отступила на несколько шагов.
– Подумайте о том, – тихо сказала она, – как мы будем смешны и жалки. Придется раздеваться, и мы, в одних рубашках, вынуждены будем взбираться на кровать… так глупо!
Он не отвечал, стараясь, не прибегая к словам, дать ей понять, что всех этих затруднений можно избежать. Но он ощутил всю неподатливость ее тела и понял, что она вовсе не собирается изменить мужу прямо здесь, в гостиной, у камина.
– Ну что ж, – обреченно проговорила она, высвобождаясь, – потом пеняйте на себя.
Он посторонился, пропуская ее в двери спальни. Собственно, дверей как таковых не было, их заменяла занавеска, отделявшая одну комнату от другой. Она дала ему понять, что хотела бы остаться одна, и он задернул занавеску.
Он вернулся на свое прежнее место в углу камина и задумался. Наверное, ему следовало бы самому постелить постель и не обременять ее этим, но, пожалуй, так он только грубо подчеркнул бы откровенность своих намерений. А! еще этот кувшин! Он взял его и, минуя спальню, прошел к ванной комнате. Там он поставил его на столик, поспешно выстроил в ряд на полке коробки с рисовой пудрой, флаконы, поправил небрежно брошенные гребенки и щетки. Затем он вернулся в кабинет и прислушался.
Она передвигалась по комнате на цыпочках, стараясь не шуметь, словно рядом лежал покойник. Видимо, ей было достаточно света розоватых углей в камине, потому что она задула свечи.
Он оказался лишен возбуждающей близости глаз и губ Гиацинты и чувствовал себя подавленно. Обычная женщина, раздевающаяся в спальне своего любовника… Он помрачнел, припомнив похожие сцены. Сколько других женщин так же, как она, крадучись ступали по ковру, боясь быть услышанными, испуганно замирали, заливаясь краской, если нечаянно задевали кувшин для воды или таз. К чему все это? Теперь, когда она была в его власти, он готов был отказаться от нее. Разочарование настигло его раньше, чем обычно, когда страсть его еще не была удовлетворена. Его тоска была столь сильна, что он едва сдерживался, чтобы не заплакать.
Кот в отчаянии метался из комнаты в комнату, проползая под занавеской, наконец прыгнул на колени к своему хозяину. Дюрталь приласкал его и сказал ему на ухо:
– Она сопротивлялась и была права. Все это чудовищно. Мне не нужно было настаивать, хотя нет, у нее тоже рыльце в пушку. Ведь она пришла, значит, тоже втайне хотела этого. И что за привычка все время тянуть душу, давить любой порыв! Какая бесчувственность! Только что я обнимал ее, я так страстно желал обладать ею… а теперь! Все насмарку! И в какое положение она меня поставила? Что я, юнец? Вряд ли я гожусь на роль молодого мужа, которого заставляют ждать! Боже, как все это глупо! – из комнаты не доносилось больше ни звука. – Кажется, она легла. Как бы то ни было, хватит тут сидеть.
Наверное, ей доставил много неприятностей корсет. Тем хуже для нее, не надо было его надевать!
Он отодвинул занавеску и вошел в спальню.
Мадам Шантелув съежилась под шерстяным одеялом. Она закрыла глаза, но Дюрталь заметил, что она наблюдала за ним сквозь опущенные ресницы. Он сел на край постели, она еще больше сжалась и натянула покрывало до самого подбородка.
– Вам холодно?
– Нет.
Она открыла глаза, и в них сверкнула молния. Он начал раздеваться, то и дело поглядывая на Гиацинту, стараясь оставаться в темноте, но иногда угли перед тем, как превратиться в золу, озаряли его яркими красными сполохами. Он быстро скользнул под простыню.
Он прижал к себе безжизненное, ледяное тело, но ее губы пылали и обжигали его лицо. У него перехватило дыхание, ее тело, гибкое и пружинистое, как лиана, обвилось вокруг него. Он потерял способность двигаться, утратил дар речи. Поцелуи струились по его коже. Он высвободил руку, почувствовал себя более раскованно. Она набросилась на его губы, кусала их, и вдруг он понял, что не выдержал нервного напряжения и что копившаяся в нем энергия ушла в пустоту.
– Я вас ненавижу, – прошипела она.
– За что?
– Я вас ненавижу!
Ему хотелось сказать, что и он испытывает к ней такое же чувство, он был раздражен до предела и отдал бы все, только бы она поскорее оделась и ушла.
Огонь в камине погас, комната погрузилась во тьму. Он вглядывался в темноту, надеясь отыскать свою ночную сорочку, рубашка, которая была на нем, излишне накрахмаленная, топорщилась. Но, должно быть, на ней лежала Гиацинта. Он с грустью констатировал, что его постель сбилась, а он привык с вечера обустраивать свое ложе, так как знал, что ночью у него не хватит мужества вылезать из-под одеяла на холод и поправлять матрас.
Вдруг его снова нестерпимо потянуло к этой женщине, и на этот раз он ласково и уверенно подчинил ее себе. Ее голос изменился, стал более низким, грудным. Его смущали нечленораздельные фразы и крики, почти звериные, срывавшиеся с ее губ.
– Дорогой мой… милый… нет, правда, это уж слишком…
Ощутив внезапный подъем, он укротил извивающееся тело. Ему показалось, будто набухший нарыв прижгли ледяной примочкой.
Обессиленный, он откинулся на спину, с трудом переводя дух. Сердце загнанно билось, и он с испугом подумал, что ему не по силам подобные развлечения. Он перелез через свою возлюбленную, соскочил на пол, зажег свечи. Кот занял позицию на комоде и, застыв, переводил взгляд с Дюрталя на мадам Шантелув, с мадам Шантелув на Дюрталя. В черных зрачках притаилась насмешка, по крайней мере, Дюрталю так показалось, и он сердито прогнал кота.
Он подбросил топлива в камин, оделся и оставил мадам Шантелув в одиночестве. Но Гиацинта тихо позвала его. Он приблизился к постели, она обняла его за шею и поцеловала, руки ее разжались и бессильно упали на покрывало.
– Ну вот, свершилось… Теперь вы будете сильнее любить меня?
Он был не в силах ответить ей. Да, она разочарована! Что ж, поделом! Тошнота свидетельствует о том, что организм не приемлет этой пищи. Она презирает его, а он испытывает отвращение к себе. Стоит ли так стремиться обладать женщиной, чтобы потом дойти до подобного состояния! Он хотел приподняться над обыденностью, в ее глазах ему чудилось бог знает что! Он мечтал испытать неземной восторг, прорвать оболочку бренного мира, захлебнуться удивительной, почти нечеловеческой радостью! Но трамплин разбит, комья грязи налипли на ноги и держат на земле, словно гири. И ничто не может помочь обрести беспредельность, очиститься, достичь пространства, где душа воспрянет, ликуя!
Да! Пусть это послужит уроком. Он позволил себе увлечься и пожал лишь сожаления, горечь падения. Действительность не прощает пренебрежительного отношения к себе, она мстит, сокрушает мечты, топчет их, смешивает их ошметья с грязью.
– Я так долго копаюсь, не сердитесь, друг мой, – послышался из-за занавески голос мадам Шантелув.
«Скорее бы ты выметалась», – нелюбезно парировал Дюрталь про себя.
Он вежливо спросил, не нуждается ли она в его помощи.
Она выглядела такой привлекательной, загадочной… В ее глазах дремали зыбкие дали, попеременно отражались пустынность кладбищ и упоение праздничных шествий. «Не прошло и часа, и все изменилось. Я узнал другую Гиацинту, развязную, болтающую глупости, непристойности, будто самая обыкновенная проститутка, модистка, захлебывающаяся от плотского удовольствия. Господи, все они одинаковы, эти женщины, и их выкрутасы могут довести до белого каления!»
И, поразмыслив еще немного, удрученно вздохнул: «И надо же, чтобы я поддался, неистовствовал, словно мальчишка!»
Казалось, мадам Шантелув угадала его мысли. Выйдя из-за занавески, она нервно рассмеялась и смущенно пробормотала:
– В моем возрасте стыдно впадать в такое безумие…
Она посмотрела на него. Он силился улыбнуться, но она обо всем догадалась.
– Этой ночью вы будете спать спокойно, – грустно сказала она, припомнив жалобы Дюрталя на то, что из-за нее его мучает бессонница.
Он суетливо стал усаживать ее, предложил ей место поближе к камину. Но она возразила, что ей не холодно.
– Но, несмотря на то, что в спальне было тепло, вы выглядели такой замерзшей.
– Я всегда такая, зябну и зимой и летом.
Он подумал, что жарким августом, должно быть, приятно обнимать прохладное тело, но в эту пору…
Он открыл коробку конфет, но она отказалась и пригубила алкермеса из крохотного серебряного стаканчика. Они обсудили вкус этого напитка. Ей показалось, что он отдает гвоздикой, смягченной настоянной на корице розовой водой. Потом наступило молчание.
– Мой бедный друг, – проговорила она, – как бы я вас любила, если бы вы не были таким недоверчивым, настороженным!
Он удивленно вскинул брови.
– Я хочу сказать, что вы не в состоянии просто любить, забыться этим чувством. Увы! Ваша рассудочность всегда с вами.
– Да нет, вы ошибаетесь!
Она с нежностью поцеловала его.
– Но я люблю вас и таким.
Его поразила печаль, струившаяся в ее взгляде. Он прочел в ее глазах смятение и благодарность. «Немного же ей нужно…» – подумал он.
– О чем вы думаете?
– О вас.
Она вздохнула.
– Который час?
– Половина одиннадцатого.
– Мне пора, он ждет меня. Нет, молчите, не надо…
Она прижала ладони к щекам. Он обнял ее, поцеловал, и так, прижавшись друг к другу, они дошли до двери.
– Мы ведь скоро увидимся, правда?
– Да… да…
Он вернулся в кабинет.
– Уф! гора с плеч.
Смутные чувства нахлынули на него. Его самолюбие было удовлетворено и больше не кровоточило, он добился своего, эта женщина стала его любовницей. Ее образ больше не будет преследовать его, отныне он свободен, и воображение не властно над ним. Но кто знает, какой отпечаток наложило на него пережитое? Его ожесточение внезапно улеглось.
В конце концов, в чем он ее упрекает? Она любит как может. Она оказалась страстной и вместе с тем плаксивой. Эта двойственность придает ей пикантности. В постели она ничем не отличалась от распутной девки, агрессивной, со своими претензиями и причудами, но стоило ей одеться, и она превращалась в салонную кошечку, правда, надо отдать ей должное, превосходящую по уму обычных светских дам. Чего же ему еще надо?
Он стал обвинять во всем себя, да, все рухнуло по его вине. Его голод был исключительно рассудочным. Он не способен любить, его душа изношена, тело немощно. Он заранее устал от ласк, и они внушают ему только отвращение. Его сердце бесплодно, истощено, семя пало в сухую, растрескавшуюся почву. Это стремление заранее перемолоть радость жерновами воображения, захватать мечту грязными руками – сродни болезни. Все, к чему он прикасается, рассыпается в пепел. Все набивает оскомину, все усилия оказываются тщетными. У него ничего нет за душой, ничего, кроме искусства. «Несчастная женщина, боюсь, со мной ее ждут одни горести. Хорошо бы, она забыла обо мне! Нет, она не заслуживает такого обращения!» Он почувствовал острую жалость и поклялся, что при первой же встрече приласкает ее и уверит, что нисколько не разочарован.
Он кое-как поправил постель, расправил простыни, взбил подушки и лег.
Он потушил лампу. Тоска душила его. В наступившей темноте он ощущал себя приговоренным к смертельным мукам. Он подумал: «Да, я был прав, когда написал, что прекрасны лишь те женщины, которые нам не принадлежат».
Какое, должно быть, счастье неожиданно узнать, что женщина, казавшаяся недоступной, чужой, связанная узами брака, чистая, давно покинувшая Париж, Францию или умершая несколько лет назад, любила меня, тогда как я не осмеливался поднять на нее глаз! Только такая любовь, которая прошла стороной, неосязаемая, оставившая грустный шлейф далеких сожалений, чего-то стоит. Только в ней нет кислого запаха плотской грязи.
Любить издалека, не надеясь на взаимность, не мечтая об обладании, целомудренно, забыть о женских прелестях, жаждать лишь единственной ласки – возможности коснуться губами бесстрастного мертвого лба! В этом есть истинное безумие и безвозвратность. Все остальное недостойная тщета и маета. Но этим прозрачным, аскетичным счастьем небо одаривает лишь изверившиеся души, не приемлющие неизбывных нечистот жизни, чье существование в этом мире исполнено мук и страданий.
XIV
Памятливое тело сохранило тревогу и страх, которые испытало накануне, и держало в плену душу, не выпускало ее из своих тисков. Оно еще не понимало, что с ним произошло, и молчало, опасаясь новых неисполнимых желаний. Дюрталь с гадливостью припомнил подробности вчерашних событий и впервые в жизни в полной мере осознал смысл понятия «целомудрие», слизнув с губ это полновесное, отдающее древностью слово.
Подобно тому, как человек, который слишком много выпил вечером, наутро подумывает о воздержании и не зарится на крепкие напитки, Дюрталь размышлял о платонических радостях.
В это время появился де Герми.
Они заговорили о разочаровании в любви. Удивленный странным состоянием Дюрталя, апатичным и нервическим одновременно, де Герми воскликнул:
– Вчера, дружище, вы, должно быть, пережили тяжелый приступ этой болезни?
С самым мрачным видом Дюрталь покачал головой.
– Да, – продолжил де Герми, – любить, ни на что не надеясь, вхолостую, – в этом есть что-то нечеловеческое. Ведь нельзя не считаться с перепадами настроения. Воздержание, если оно не следствие набожности, бессмысленно. Конечно, речь может идти о тех или иных расстройствах в организме, но с этим лекари более или менее справляются. Все упирается в тот акт, который ты так сурово осуждаешь. А ведь сердце, которое принято считать самой благородной частью человека, имеет такую же форму, как пенис, низменный, презираемый орган. И это очень символично, потому что любовь, зарождающаяся в сердце, в конце концов взывает к столь похожему на него органу. Человек, высшее создание, способен лишь имитировать движения животных, озабоченных воспроизводством популяции. Этим ограничиваются и возможности его воображения. Взять хотя бы механизмы, игру поршней в цилиндре, ведь это Джульетты плавятся в стальных Ромео, и чисто механическое движение лишь одно из выражений человеческой натуры. Только больные или святые игнорируют всеобщий закон. Но ты, насколько я понимаю, не принадлежишь ни к тем, ни к другим. Если же у тебя есть веские причины на то, чтобы жить, глухо застегнувшись на все пуговицы, то советую тебе воспользоваться предписанием одного оккультиста XVI века, Наполитэна Пиперно. Он утверждает, что тот, кто питается вербеной, неделями не испытывает никакого желания вступать в тесный контакт с женщинами. Купи себе немного вербены, глодай ее, и посмотрим, каков будет результат.
Дюрталь расхохотался.
– Есть одно замечательное правило: никогда не занимайся любовью с женщиной, к которой испытываешь сильное чувство, а при необходимости, чтобы поддерживать душевное равновесие, посещай тех, к кому ты равнодушен. Это позволяет в какой-то степени избежать возможных неприятностей.
– Ну нет, разве можно сравнить наслаждение от близости со страстно любимой женщиной с каким-то суррогатом! Ни к чему хорошему это правило не приведет. И потом, вряд ли женщины способны оценить мудрость подобного эгоизма, на это у них не хватит ни великодушия, ни широты взглядов. Но что, если ты все-таки сподвигнешься надеть ботинки? Уже шесть, и нас ждет жаркое мадам Карекс.
Когда они вошли, жаркое уже было на столе. Оно возлежало на пышной перине овощей в глубоком блюде. Карекс, сидя в кресле, читал требник.
– Что нового? – спросил он, захлопывая книгу.
– Пожалуй, ничего. Политикой вы не увлекаетесь, впрочем, как и мы, поэтому вряд ли вас заинтересует шумиха вокруг генерала Буланже. И вообще, газеты, как никогда, забиты пустой трескотней. Эй, осторожнее, обожжешься! – предупредил де Герми Дюрталя, который задумчиво подносил ко рту полную ложку супа.
– Бульон из мозговой косточки, сдобренный желтком, должен быть раскаленным. Кстати о новостях, кое-что все-таки происходит. Слышали ли вы об аббате Буле, дело которого принято к слушанию судом в Авероне? Он пытался отравить кюре, подсыпав яд в вино, приготовленное для причастия. После этого он совершил множество других преступлений. На его счету аборты, изнасилования, развращение малолетних, подлоги, кражи, ростовщичество. В конце концов он присвоил содержимое ящика для пожертвований, узурпировал дароносицу, потир и другие предметы, необходимые при богослужении. По-моему, неплохо!
Карекс возвел глаза к небу.
– Если он ускользнет от суда, то в Париже станет одним священником больше, – заметил де Герми.
– Почему?
– Почему? Да потому, что все духовные лица, имевшие серьезные неприятности на местах или неугодные епархиальному начальству, высылаются сюда. В Париже они перестают быть на виду, теряются в толпе, вливаются в корпорацию так называемых «прикрепленных» священников.
– А кто это такие? – спросил Дюрталь.
– Это священники, имеющие свой приход. Как тебе известно, при каждой церкви состоят кюре, викарий, служки и, кроме того, еще как бы внештатный священник. Вот об этой должности и идет речь. На них взваливают самые тяжелые обязанности. Они служат заутрени, когда все спят, или поздние мессы, когда все отдыхают после плотного ужина. Они встают по ночам, чтобы причастить нищих, бдят около отошедших в мир иной благочестивых богачей, страдают вечным насморком из-за сквозняков на паперти, присутствуют на похоронах, на кладбище, стоя у могил, зарабатывают солнечные удары, снег и дождь испытывают их терпение. Все это они несут на своих плечах и зарабатывают пять или десять франков. Им приходится заменять недостаточно прилежных коллег, которых тяготят возложенные на них обязанности. По большей части те, кто находится в опале. Чтобы избавиться от них, их прикрепляют к какой-нибудь церкви и наблюдают за ними, взвешивая, стоит ли лишать их сана или нет. Провинциальные приходы поставляют в Париж тех священников, которые по тем или иным причинам перестали их устраивать.
– Ну хорошо, а викарии и прочие духовные лица тоже облегчают свою жизнь за счет других?
– Их обязанности легки и приятны, они не требуют милосердия, не связаны ни с какими усилиями. Они исповедуют расфуфыренных прихожан, дают уроки катехизиса опрятным детишкам, произносят проповеди, красуются во время богослужений и, чтобы поразить воображение паствы и привлечь верующих, прибегают к чисто театральным эффектам, стараются, чтобы церемонии выглядели по возможности помпезно. Вообще же, если исключить «прикрепленных» священников, духовенство в Париже делится на две категории: те, кто наделен особым светским лоском – и их назначают в богатые приходы, в церковь Святой Мадлены, в Сен-Рош – они крайне любезны, обедают в городе, проводят время в салонах, утешают души, утонувшие в кружевах; и прочие, честные чиновники, не очень-то образованные, не обладающие состоянием, которое позволило бы им толочься среди изнывающих бездельников, они держатся в стороне и посещают дома скромных буржуа, отводят душу за карточной игрой, сыплют общеизвестными истинами и припасают к десерту несколько скабрезных шуток.
– Ну, вы немного преувеличиваете, – сказал Карекс. – Я тоже неплохо знаю духовенство, позволю себе заметить, что в Париже много священников, которые стараются выполнить свой долг перед людьми. Их позорят, смешивают с грязью, подонки, погрязшие в пороках, издеваются над ними! Но все-таки, признайте, аббаты Буде, каноники Докры, слава Богу, исключение. Да и в провинции среди духовенства можно встретить настоящих святых!
– Священники-сатанисты, по всей видимости, относительно редкое явление, да и пороки духовенства несколько преувеличены прессой, обожающей пикантные сенсации. Но я говорю не об этом. Бог с ним, с распутством, с пристрастием к азартным играм. Но ведь большинство священников – равнодушные, невнимательные, глупые посредственности! Они грешат против Святого Духа!
– Таково наше время, – произнес Дюрталь. – Ты не можешь требовать, чтобы в семинариях процветал дух средневековья!
– И к тому же, – подхватил Карекс, – наш друг, кажется не учитывает, что существуют различные монашеские ордены, например, картезианство…
– Да, францисканцы, трапписты… но все это затворники, которых приютил наш бесславный век. Есть еще доминиканцы, их орден весьма светский. Взять хотя бы то, что им мы обязаны появлением всяких Монсабре или Дидонов!
– Ну, это своего рода гусарство от религии. Этакие веселые уланы, элегантное и шикарное воинство на службе у Папы. Настоящие капуцины плетутся в обозе, – заметил Дюрталь.
– Если бы они еще с должным почтением относились бы к колоколам… – Карекс покачал головой. – Принеси-ка нам куломье, – обратился он к жене, которая убирала со стола тарелки.
Де Герми разлил вино. Все молча принялись за сыр.
– Послушай, – снова заговорил Дюрталь, повернувшись к де Герми, – а правда ли, что женщина, принимающая по ночам инкуб, обязательно мерзлячка? Иначе говоря, является ли постоянно холодное тело своеобразной уликой? Когда-то инквизиция считала, что колдуны не способны проливать слезы, и это качество служило серьезным основанием для обвинения в совершении злодеяний, связанных с магией.
– На этот вопрос я могу ответить. Когда-то женщины, имевшие дело с инкубами, действительно обладали ледяным телом, неподвластным даже августовской жаре, во многих книгах обращается на это внимание. Но теперь все наоборот. Большинство людей, которых искушают злые духи, имеют горячую, сухую кожу. Эта метаморфоза еще не приняла всеобщий характер, но все к тому идет. Помню, что доктор Иоханнес, о котором упоминал Гевэнгей, рассказывал, что ему приходилось снижать температуру своих пациентов компрессами.
– А! Дюрталь думал о мадам Шантелув.
– А где сейчас доктор Иоханнес? – поинтересовался Карекс.
– Он живет в уединении, в Лионе. Думаю, он не оставил свою деятельность и проповедует блаженство, исходящее от Святого Духа.
– А вообще-то что представляет собой этот доктор? – спросил Карекс.
– Это очень умный и образованный священник. Он достиг довольно высокого положения в общине и даже возглавлял в Париже единственный журнал, имевший мистическое направление. К нему обращались за консультациями по вопросам теологии, он получил признание как специалист по каноническому праву. У него были напряженные отношения с папской курией и с архиепископом Парижа. Его погубили сеансы экзорсизма и борьба с инкубами, которую он вел в женских монастырях.
Я помню нашу последнюю встречу так отчетливо, словно она произошла вчера. Я столкнулся с ним на улице де Гренель. Он выходил из епископата. В этот день он покинул лоно Церкви. Я так и вижу, как мы брели с ним по пустынному бульвару, расположенному в двух шагах от Дома инвалидов. Он был очень бледен, расстроен, его голос заметно дрожал.
Он был вызван к архиепископу, и у него потребовали объяснений по поводу одной больной, страдавшей эпилепсией, которую ему, по его словам, удалось вылечить при помощи одной реликвии, плащаницы Христа, хранившейся в Аржантёе. Кардинал и два викария стоя выслушали его.
Когда он закончил, ему задали еще несколько вопросов, касавшихся его практики, связанной с магией, а затем кардинал Гибер произнес «Вам следовало бы отправиться в аббатство Трапп!» Его ответ я запомнил дословно: «Если я посягнул на законы Церкви, то готов нести наказание. Раз вы считаете, что я виновен, предайте меня церковному суду, клянусь честью своего сана, что я подчинюсь его приговору. Но я настаиваю на том, чтобы меня судили по всем каноническим правилам, ибо, согласно своду церковных законов, не подобает человеку самому вершить суд над собой».
На столе лежал один из номеров его журнала. Кардинал, указав перстом на раскрытую страницу, спросил: «Вы автор этой писанины?» – «Да, Ваше Преосвященство». – «Это взгляды безбожника!» И он удалился из кабинета, выкрикнув с порога: «Вон отсюда!» И тогда Иоханнес пошел за ним, упал на колени и сказал: «Ваше Преосвященство, если я невольно оскорбил вас, простите меня». Но кардинал лишь еще сильнее распалился: «Убирайтесь вон, или вас выведут силой!»
Иоханнес поднялся с колен и молча удалился. «Я порываю с прошлым», – сказал он мне на прощание. Он был так мрачен, что я не решился на дальнейшие расспросы.
Все помолчали. Карекс ушел на башню, так как настало время звонить, его жена убрала остатки десерта и свернула скатерть, де Герми готовил кофе, а Дюрталь задумчиво сворачивал сигарету.
Вскоре вернулся Карекс в отзвуках колокольного звона и воскликнул:
– Де Герми, вы упомянули францисканцев. А знаете ли вы, что этот орден пришел в такой упадок, что не мог позволить себе иметь даже один-единственный колокол? Правда, их устав, когда-то очень суровый, превосходивший человеческие возможности, теперь не соблюдается так уж строго. Сейчас у них есть колокол, но всего один.
– Так же дело обстоит в большинстве аббатств.
– Нет, обычно монастыри располагают хотя бы тремя колоколами, что символизирует Троицу.
– А что, количество колоколов в церквах и монастырях как-то регламентируется?
– Да, некоторые правила раньше соблюдались. Существовала определенная иерархия. Так, монастырские колокола оставались неподвижными, когда звонили колокола в церквах. Они, словно вассалы, почтительно замирали и молча слушали, как властелин обращается к народу. Это установление было освящено в 1590 году решением церковного собора в Тулузе и затем подтверждено двумя декретами Конгрегации по обрядам, но теперь оно забыто. Святой Карл Борроме предписывал кафедральному собору иметь от пяти до семи колоколов, коллегиальной церкви – три колокола, приходскому храму – два. В наши дни количество колоколов зависит от того, насколько богата церковь.
Но мы совсем заболтались. Где наши стаканчики?
Мадам Карекс поставила стаканы на стол, пожала руки гостям и скрылась в своей комнате. Карекс разлил коньяк. Де Герми сказал, понизив голос:
– Мне не хотелось говорить при ней, это довольно неприятная тема, которая могла бы ее напугать, но сегодня утром мне нанес весьма странный визит Гевэнгей. Он едет к доктору Иоханнесу в Лион. Он утверждает, что на него напустил порчу каноник Докр, который проездом был в Париже. Не знаю, что произошло между ними, но вид у Гевэнгея весьма болезненный.
– Но что с ним? – спросил Дюрталь.
– Мне абсолютно ничего не известно. Я его осмотрел самым тщательным образом. Он жаловался на колющую боль в сердце. На мой взгляд, всего лишь нервное расстройство, но меня беспокоит его крайне подавленное настроение, которое было бы оправданно, если бы у него был обнаружен рак или же запущенный диабет.
– Мне думается, – промолвил Карекс, – что современные колдуны больше не пользуются восковыми фигурками и булавками, как это было в добрые старые времена.
– Нет, подобная практика давно оставлена. Гевэнгей раскрыл мне сегодня некоторые секреты зловещего каноника. Видимо, эти способы характерны для современной магии.
– Это, должно быть, очень интересно, – оживился Дюрталь.
– Я могу повторить то, что услышал от Гевэнгея, – де Герми закурил. – Так вот. Докр повсюду возит с собой клетки с белыми мышами. Он откармливает их жертвенными приношениями, пропитанными тщательно дозированным ядом. Когда они достаточно насыщаются этой снедью, он берет этих несчастных зверьков, подносит их к потиру, острым инструментом протыкает их тельце в нескольких местах. Собранную таким образом кровь он использует, чтобы насылать на своих врагов смерть. Иногда он проделывает то же самое с цыплятами или молодыми индюками, только в этом случае он копит не кровь, а жир, так что эти птицы выполняют функцию дароносительницы, наполненной мерзким ядовитым составом.