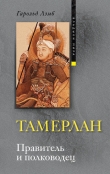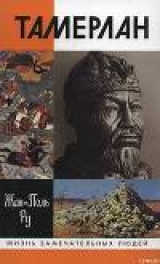
Текст книги "Тамерлан"
Автор книги: Жан-Поль Ру
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
Тимурова вера, быть может в чем-то расплывчатая, была твердой, глубокой и непоколебимой. Он был уверен, что действует от имени Бога и согласно с его волей. Свою набожность он демонстрировал часто; к примеру, у всех на виду любил перебирать четки. По его приказу был создан не переносной михраб, коих в исламском мире было множество, а разборная мечеть, которую можно было возить с собой в бесконечных походах, что указывает на его частое, если не регулярное участие в молебнах. Он произносил так называемые горячие молитвы по меньшей мере в моменты большой радости и под воздействием сильных переживаний. Одержав победу над Тохтамышем, Тамерлан упал наземь, чтобы возблагодарить Всевышнего за дарованный успех, упал в таком чистосердечном порыве, что заподозрить его в расчетливости было невозможно.
Тимур уважительно относился к шейхам, священнослужителям и потомкам пророка, не отказывая себе в возможности с ними беседовать. Еще в детстве он усердно поддерживал сношения с дервишами, а также нашел себе духовного учителя, которого слушался, почитал и любил. Тимур прекрасно знал мусульманский закон, хотя толковал он его довольно свободно, например, чередуя уважение запрета на распитие вина, – что требует шариат, – с организацией попоек, что, противореча оному, согласуется с шаманическими ритуалами. Таким образом, Великий эмир плутовал, если, конечно, не проявлял терпимость; скорее же нарушать кораническое законодательство он был вынужден, чтобы обеспечить мирное сосуществование язычников с мусульманами – так прочно сидели в нем традиции предков. Его религиозные убеждения совершенно однозначны, и Хафизи Абру, должно быть, точен, когда устами Тамерлана говорит: «Не ведающий себе равного Бог, являющийся хозяином непостоянной судьбы, вложил в мои руки узду, чтобы я мог управлять движением царств сего мира». Летописец, воспроизведший мысль, высказанную Тимуром в припадке самоуничижения, написал нечто еще более категоричное: «Сам по себе я ничто. Это Ты, Боже, превратил ничтожного принца в самого могущественного владыку в мире». [137]
Уже много сказано о лицемерности этих и им подобных заявлений, поскольку они явно противоречат некоторым чертам характера завоевателя, направлению, которое он придал своим походам, а также его природной жестокости. Оставим в стороне последнее, так как об этом много будет сказано в следующей главе, и отметим лишь то, что это «противоречие» нисколько не умаляет меры чистосердечности религиозных убеждений Тимура, даже если жестокость весьма странна для человека, который знался с суфиями, этими мистиками от любви, и произносил молитву: «Во имя Господа Милосердного и Великодушного». Увы, вера не обязательно порождает добродетели, которые должны ей сопутствовать! Можно верить и принимать то или другое учение, при этом оставаясь великим грешником… Позднее Тимур осознает, что им были совершены «ошибки, прегрешения и преступления… безжалостные и необходимые сестры моих побед». Остается лишь уточнить, упрекал ли он себя за все «эти ужасные деяния» или только за те, чьими жертвами стали мусульмане, и был ли, на его взгляд, ислам религией «великодушного и милосердного» Бога или же Бога мстительного и жестокого.
РежиссерЕму приписывают чрезмерную гордыню. Но таким ли уж он был гордецом, как говорят? Заявление Ибн Арабшаха, будто бы Тимур не переносил, если чья-то голова оказывалась выше его головы, несомненно, достоверно. Гордыня? Сознание того, кем он являлся? Политика? Надлежит постоянно помнить, что одним из ключей от азиатской истории является то, что тюркские народы уверены в необходимости абсолютной власти вождя и что века межплеменных конфликтов навсегда укрепили в них мысль, что мир не может воцариться до тех пор, пока существуют многовластие и борьба за власть.
Тамерлан проглотил многие обиды не моргнув глазом. В отрочестве ему довелось преклонять колено перед тем, кто был сильнее него, принимать полуопалу с улыбкой на устах и даже подчиняться тем людям, кои, как ему было ведомо, были много ничтожнее в сравнении с ним. Он должен был скрываться, отступать, ловчить и даже капитулировать, производя впечатление существа подлого, каковым не был никогда; ему доводилось и попрошайничать, клянчить и – очень редко – разыгрывать из себя куртизана. В продолжение всей жизни он носил в душе эту рану: обязанность признавать себя вассалом Китая, пусть даже это признание являлось чистой формальностью. [138]
Тамерлан никогда не тщеславился той или иной победой, взятием какого-либо города, считая это божьим даром. Возможно, это приносило ему какую-то выгоду; очевидно же то, что пользу он ценил выше тщеславия.
Гордый Тимур довольствовался титулами довольно скромными: Великий эмир, хозяин счастливых совпадений звезд, султан. Эмиром, принцем он был с рождения и таковым остался; определение «великий», которое он себе присвоил, лишь подчеркивало то, что он являлся первым среди своих эмиров. Называя себя хозяином счастливых совпадений звезд, он давал понять астрологам, что был в их кругу главным. «Султан» кажется нам титулом более громким, ибо мы вкладываем в него понятие «государь»; однако он несет в себе смысл определенного достоинства, последнее не обладает качеством первостепенности, так как в ту эпоху султанами являлись правители провинций, назначаемые ханом, и даже женщины. Тимур не был шахом, то есть королем по европейской табели о рангах, тем более – падишахом, царем или императором. Он не стал ханом и удовлетворился возможностью самовластно назначать ханов, которые, хотя и обладали более почетным титулом, оставались ничем. Когда последний из них скончался, Тамерлан заменять его собою не стал, не видя пользы в пребывании в его тени. Что помешало ему сделаться их наследником? Уважение к памяти о Чингисхане? Неприятие правоверными ясы? Но тогда он был воистину всемогущ! И так благоволил к Джагатаидам!
Можно было бы предположить присутствие в нем чувства смиренности, но также самой изощренной формы честолюбия, чего-то, могущего выражаться фразою: «Я выше титулов», – аналогом знаменитого высказывания Тимура: «Я выше лести», – произнесенного в тот момент, когда его одолевали льстецы. Со всем этим на смертном одре, перед лицом смерти, когда не до плутовства, он вел себя весьма смиренно, показав себя добрым мусульманином. Он умирал среди хора молебствовавших, и последние слова прозвучали, как символ его веры. Он не построил себе загодя усыпальницы, и если нынче покоится в великолепном мавзолее, то назначение оного было необычным: он распорядился положить себя в ногах у своего духовного учителя, имевшего репутацию святого. [139]
Тимур любил постановки, способные поразить впечатление толпы. Он все доводил до колоссальных размеров, превращая затеянные им действа в нечто грандиозное, яркое и зрелищное. Прекрасно экипированное войско, сверкающие на солнце панцири, развевающиеся на ветру знамена-туги; грандиозные военные парады; великолепные шествия мастеровых, дефилирующих по площадям со своими лучшими произведениями в руках; полевые станы, раскинувшиеся на безмерных пространствах; шатры в сто метров длиною и в два десятка метров шириною, покрытые бархатом или шелком и поддерживаемые тридцатишестиметровыми столбами, расписанными белой краской и золотом; пышные приемы, где столы ломились от яств и напитков и в продолжение которых играли лучшие музыканты; ночные празднества, освещавшиеся множеством разноцветных фонарей; меха, шелка, драгоценные украшения, золотая и серебряная посуда; металлические деньги и самоцветы, дождем сыпавшиеся на гостей – для Великого эмира ничто не было слишком красивым, чрезмерно дорогим; он мог позволить себе все, ибо богатства его были неисчерпаемы. Везде, где имелась вода, разбивались сады, и цветники занимали площади необозримые. Тимуровы богослужения своею пышностью равнялись тем, что устраивались римскими императорами, византийскими басилевсами и багдадскими халифами, а может быть, и превосходили их. При Тимуре строились все новые здания общественного и престижно-государственного назначения. Все соответствовало меркам не знавшего меры владыки.
Тамерлан любил праздники, даже если они являлись орудием осуществления политики. Как подлинный сын Востока, он любил роскошь, тем более что она укрепляла его авторитет. Завоевания и дань ее питали, но не являлись первопричиной, поскольку вкус к ней он имел всегда. Еще в 1373 году Тимур потряс своих подданных пышностью церемонии женитьбы Джахангира и Хан-заде. А в 1391 году, во время странного смотра войск, организованного в степи, когда он предстал в парадном облачении, в инкрустированном золотыми вставками шлеме и со скипетром, увенчанным головою быка, кого он намеревался удивить прежде всего? Самого себя или свое измотанное войско? [140]
Именно тяга к зрелищам вдохновляла его во время массовых казней. Удовольствовался ли бы он вынесением приговора в зале суда и при закрытых дверях? Никогда! Именно во время праздника, организованного в Самарканде, он решил править суд и велел соорудить виселицу для своего главного визиря, а также пытать и обезглавить других. Сбросил ли он в братскую могилу, находившуюся в дальнем углу кладбища, тех, кого – зачастую по высочайшему велению – убили его солдаты, опьяненные боем? Разумеется, нет! Он приказал обезглавить их и из черепов соорудить «башни» и «минареты» возле городских ворот. И для того, чтобы впечатление было сильнее и незабвеннее, умерщвлялись не несколько бедолаг, а целые селения… Тимур своей цели добился, поскольку его «башни» остались в памяти народов навеки. Но прежде всего – его имя.
Человеческие чувстваТамерлан написал Мамлюку: «Господь исторг из моей души всякую жалость». Многочисленные ненавистники называют Тимура садистом и животным, не знавшим жалости палачом, монстром. Проведав о смерти Великого эмира, его мусульманские враги взвыли: «Да низвергнется он в ад! Да проклянет его Всевышний!» В то же время были те, кто видел в нем одного из избранных. Уже посмертно (по китайскому обычаю?) его назвали Дженнет-Макамом, то есть «жителем рая», и те, которые это сделали, вовсе не относились к числу безумцев.
Тимур был бесчувствен? Так ли? Забудем на время те случаи, когда он миловал (бывало и такое), или сожалел о содеянном, или извинялся за тот или иной поступок (случалось и это). Не будем пока что вызывать его в суд как убийцу – этим мы займемся в другом месте, – а обратимся к тем убийствам, по его слову совершавшимся неоднократно, коими он наслаждался, в коих принимал участие и о которых возвещал повсеместно. Они явно свидетельствуют о полном отсутствии у него человечности, и, однако, это не так. Тамерланово сердце каменным не было; Великий эмир имел способность и волноваться, и выражать чувство сострадания. Его нервам случалось и трепетать, и напрягаться. Все соглашаются в том, что Тимур не выносил рассказов об ужасах войны, что он не имел патологической наклонности к кровопролитию, не любил насилия, хотя жестокости по его слову чинились. Воинственного опьянения Тимур не знал: он убивал и приказывал убивать упорядоченно и методично, как во всех иных делах, хладнокровно и организованно, что, усугубляя вызываемое им чувство ужаса и противоречивости, принуждает нас замолчать. [141]
Великий эмир был способен на любовь, любовь истинную, нежную и верную. Он проявлял к своей семье безграничную привязанность и для своих был готов на все. Он остался признательным до конца жизни своей сестре, Туркан-Ака, выручившей его из беды в дни юности, и для нее построил самый красивый и самый трогательный из всех существующих на Земле мавзолеев. Он сохранил всю свою сыновнюю любовь к отцу и в период между двух походов, когда был занят бесконечными делами, нашел время пойти поклониться его могиле. Воюя в Моголистане, Тимур увидел во сне, что его сын Джахангир находится при смерти, и он тут же остановил боевые действия и возвратился в Самарканд. Точно так же Великий эмир покинул Исфарайин, чтобы присутствовать на оплакивании и погребении своей дочери, Эке-бека, которую нежно любил. Рождение внука, будущего Улугбека, обрадовало его настолько, что он помиловал все население Мардина. Смерть девятнадцатилетнего внука, Мухаммеда-Султана, которого он прочил в свои преемники, вызвало в его душе глубочайший приступ отчаяния. Летописец сообщает, что Тамерлан упал наземь и стал «рвать на себе одежды, издавая странные вопли и стенания». Подумал ли он в тот момент об отцах, души которых убил, умерщвляя их сыновей? Завоеватель проявил невероятную снисходительность к племяннику, который его предал и сделал из него посмешище, когда ему было явно не до смеха, и предательство он считал одним из величайших преступлений; в тот раз он удовлетворился наказанием палками.[16]16
Этот племянник впоследствии, в начале похода на Китай, командовал одним из флангов Тимурова войска.
[Закрыть]
Великий эмир был верным другом. Несмотря на выказанную Тохтамышем неблагодарность, он никогда не отказывался от дружбы с ним. Что бы ему ни стоило, он никогда не бросал тех, которые ему доверились, пусть даже тогда, когда у него самого в них нужды не было. Так, одной из причин войны с Баязидом была угроза, которую тот представлял для Тахиртена, владетеля Эрзинджана и Тимурова вассала.
Тамерлан остро переживал, особенно на закате жизни, смерть каждого, кого любил, почитал или кем восхищался по той или иной причине. Он заплакал, узнав о кончине Махмуд-шаха. Глубокое страдание вызывала у него гибель Саида Барака. Нельзя сказать, что смерть в неволе бывшего османского падишаха его сильно огорчила, но и здесь он выказал свое внутреннее благородство. Подобно тому, как позднее поступил афганский узурпатор Шер-шах, – за что его весьма превозносили, – Тамерлан разрешил османскому принцу Мусе сопроводить тело отца до самой Брусы, чтобы воздать последние почести усопшему, чем выказал подлинное рыцарство, проявления которого, более или менее романтические и многочисленные, как известно, за ним числятся. Однажды он послал некоему осажденному им принцу одну из первых доставленных ему дынь, говоря, что не может не поделиться с ним первым урожаем. Деликатность? Она, несомненно, была ему свойственна. Во время одного торжественного обеда, когда, согласно бытовавшему ритуалу, Тамерлан сам исполнял роль виночерпия, он наполнил кубок спутника дона Рюи-Гонзалеса де Клавихо, но обнес кастильца, зная, что тот вина не употреблял. Когда Ибн Хальдун в знак уважения презентовал ему нечто довольно скромное, он принял это как ценнейший дар и, дабы не ранить самолюбия великого мусульманского историка, купил его мула по цене престижного боевого коня. Подобные мелочи свидетельствуют в его пользу более, чем серьезные поступки, так как здесь не видно ни тайного умысла, ни корысти. Всякий раз, когда Тамерлан бывал щедрым – щедрым до безумия! – его упрекали в расчетливости. В самом деле, не расчетлив ли он был, к примеру, когда растрачивал свои богатства, в то время как его шурин Хусейн выжимал последнюю монету как из богатых, так и из бедных? Великий эмир тратил налево и направо не только в Самарканде, но и в Ливане, в Мардине… Бедность его удручала, и он запрещал просить милостыню. В его государстве все имели как минимум право на сытость. Но, скажут иные, это всего лишь политика, и они будут правы; однако политика щедрая, которую он реализовывал единственно потому, что находил нищету невыносимой, и, проникнув в глубины его души, мы увидим, что вода на ее дне чище той, что находится на поверхности. [142]
Лицемерный, коварный и так далееВполне возможно отрицать или называть коварством те неоспоримые качества Тимура, которые ставят нас в неловкое положение, не вполне соответствуя его маске кровавого завоевателя. До странности ослепленный своей антипатией к Тимуру, Груссе обвиняет его в «стратегическом макиавеллизме», «злонамеренном лицемерии, отождествленном с государственными интересами», и, толкуя о его довольно двусмысленной роли в отношениях илийских Джагатаидов с партией трансоксианских дворян, откровенно намекает на «прекрасную комедию восточного лицемерия». Естественно, такого мнения я не разделяю, с сожалением критикуя ученого, которому многим обязан и которого всегда любил. [143]
Нет, я не верю в коварство того, кто сделал своим девизом слова Расти Рости, нечто вроде: «Прямота и сила». В жизни Тамерлана имеет место многое, доказывающее его ненависть и презрение к вероломству! Применение военных хитростей – политика справедливая. То, что он не всегда объявлял о своих намерениях и ловил свои жертвы в нарочно расставленные сети, – это все в рамках правил войны. Готовясь напасть на Баязида, Тимур разбил лагерь на Араксе, построил казармы для войск и распустил слух о том, что весной начнет поход на Тохтамыша. Достоин ли упреков подобный образ действий? Его пропаганду обвиняют в лживости, но лжива всякая пропаганда. Заботливо распространявшиеся им сведения явно не соответствовали действительности; однако работавшие на него агенты сообщали городам и миру некую программу, которая в основном всегда выполнялась. О каком политике можно сказать то же самое? Разумеется, Великий эмир совершил не один и не два коварных поступка, ибо на протяжении всего своего долгого жизненного пути он и не мог всегда идти прямо. По руслу реки бытия встречаются теснины, где поток становится бурным, а потревоженные берега делаются совершенно не похожими на те, которые имеются на входе в дефиле или на выходе из них. Так, Великий эмир довольно гнусным способом поощрял доносительство в тот период, когда не мог позволить себе, чтобы его приказы не исполнялись, приказы ужасные и противоречившие личным интересам воинов в такой мере, что у них мог появиться соблазн их проигнорировать в силу скупости или элементарного человеколюбия; так, стоя перед Дели, Тимур издал указ, согласно которому всякий, не убивший своих пленников, был бы наказан смертной казнью, а «его жена и дети перешли бы к осведомителю».
Подобно всем ратоводцам степных народов, выше всего Тамерлан ценил преданность вассалов их сюзеренам, даже в стане врага. В «Установлениях», этом, скорее всего, апокрифическом Тимуровом завещании, являющемся верным отражением его мысли, если не по форме, то по сути, мы читаем заявление, которое мог бы сделать Чингисхан: «Преданный своему господину вражеский воин имел право на мою дружбу… Тот, кто во время сражения бросал своего предводителя и переходил ко мне, являлся для меня человеком более всех достойным ненависти». Рассказывая о том, как Тохтамышевы эмиры предложили свои услуги ему, он заявил: «Я был возмущен. Я сказал себе, что они предадут меня так же, как предали своего господина». [144]
Оказывалась ли его спина более гибкой, когда он искал способ завоевания власти? Вероятно, да. Но мог ли Тимур поступить иначе? Молодость – это не то время, когда имеется возможность свободного проявления личности, тем более – самоутверждения. Кто может похвастаться тем, что в таком возрасте никогда не улыбнулся своему начальнику или презираемому хозяину? Кто не искал благорасположения высокопоставленного лица или хотя бы раз не удушил в себе желания хлопнуть дверью? Внимательно изучив биографию Тимура, что мы обнаружили? «Лжеприязнь» по отношению к своему шурину Хусейну. Но почему ложную? Разве не нормально полюбить родственника, человека привлекательного, богатого, устроенного и сверх того имеющего те же интересы, что и ты сам? И надо ли удивляться тому, что, разобравшись в Хусейне и решив избрать иной путь, а также поняв, что уже ничего его не связывает с мужем сестры, Тимур свое первое к нему чувство поменял на безразличие, а может, и враждебность? Есть ли повод обвинять его в неблагодарности по отношению к малику Герата? Вспомним, что Великий эмир напал на его царство лишь через десять лет после его смерти… Право, я не нахожу здесь ничего, что оправдывало бы суровые филиппики Груссе. Да, Тамерланова империя «с самого начала оказалась на зыбком фундаменте, не обладая Чингисхановыми прочностью, уравновешенностью и богатством», но неясной была конструкция, а не человек, который казался плутом именно потому, что, не имея возможности принимать однозначные решения, в поисках выхода из создавшегося положения должен был играть на струнах сразу двух цивилизаций, двух наследств.
У этого выходца из родоплеменного общества, где ответственность более коллективная, нежели личная, понятие справедливости было иное по сравнению с нашим, но точно так же признаваемое каждым индивидуумом. Нет ничего, что было бы выше закона, нет никого, кто был бы гарантирован от наказания, за исключением служителей культа, часто воспринимаемых людьми другого сорта и даже, согласно традиционным представлениям о их сути, фигурами священными, способными быть как полезными, так и опасными, правда, при условии, что они не являются развратниками, ибо преступление делает их объектами общего права. Со всем этим наказания дифференцировались соответственно классовой принадлежности. Купцы и горожане, как правило, не владевшие оружием, могли избежать высшей меры наказания, отдав свое имущество. Знать и воинство, когда не объявлялось помилование, получали смертный приговор. Лишение звания и телесные наказания случались редко: Тимур знал, что наказания озлобляют, и чтобы избежать мести со стороны семей, уготавливал им ту же судьбу, что и виновному. [145]
Суд быстрый, безжалостный, и избежать его было практически невозможно! По возвращении из походов Тамерлан всякий раз становился следователем: он требовал отчетов, проверял гири и меры, а также цены на товары, старательно выискивая просчеты. Он наказывал виновных независимо от занимавшихся ими постов. Никаких поблажек и льгот: богатство и ранг не имели никакого значения. Серьезно провинившемуся человеку рассчитывать на защиту было бесполезно. Точно так же, как на извинения или вмешательство друзей, родственников и чиновников. Эту жестокость можно порицать, но не восхищаться ее пунктуальностью нельзя. Таково было одно из Тамерлановых средств защиты малых от великих. Когда Мираншах осуществил в своих владениях чудовищные репрессии, гнев его отца был столь велик, что он решил повесить сына, и лишь тщательное расследование, установившее безумие сына, спасло ему жизнь. Великий эмир с удивившей всех оперативностью прибыл в удел Мираншаха и постарался сделать все возможное, чтобы исправить зло, совершенное сумасшедшим правителем.