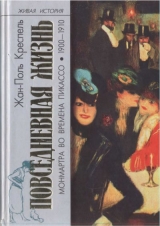
Текст книги "Повседневная жизнь Монмартра во времена Пикассо (1900—1910)"
Автор книги: Жан-Поль Креспель
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Отношения Пикассо с Аполлинером сложились совсем по-другому. В них преобладало чувство взаимного восхищения без примеси сантиментов. Дружба с Аполлинером определенно способствовала известности Пикассо. Восхищаясь его живописью, Аполлинер говорил о гениальности Пикассо с такой силой убеждения, что в конце концов под его влиянием Пикассо был признан главной фигурой авангардного искусства. Этого Макс Жакоб не сделал или, вернее, не мог сделать, поскольку не обладал таким авторитетом.
Пикассо и Аполлинер познакомились при содействии «барона» Моле, одного из экзотических персонажей богемы начала века, в зале бара «Фокс» на улице Амстердам, где поэт коротал вечера перед отправлением поезда, на котором уезжал на ночь в Везине к матери. Любовь с первого взгляда существует и между мужчинами. Едва увидев его, Пикассо почувствовал такое же притяжение, как и при встрече с Максом Жакобом. Они сразу перешли на «ты», словно друзья, встретившиеся после долгой разлуки.
Очарованный новым другом, Пикассо повел Макса Жакоба в «Фокс», чтобы представить его Аполлинеру. Мгновенно установившееся взаимопонимание между поэтами прозвучало в восклицании, выразившем общее кредо: «Долой Лафорга! Да здравствует Рембо!»
Аполлинер был тогда полным молодым мужчиной с мягкими чертами лица, маленьким чувственным ртом гурмана и крупным с горбинкой носом: черты Наполеона, наложенные на лицо унтер-офицера. Плененный внешним видом Аполлинера, Пикассо сделал десятки портретов, набросков, шаржей, изобразив его и поэтом, увенчанным лаврами, и боксером, и ярмарочным силачом с гантелями. Аполлинер казался толстым, но это впечатление было обманчивым. Маркусси, например, увидев его однажды раздетым, понял, в чем секрет: Аполлинер, как капуста, укутывался во множество одежек. Без них он оказывался почти стройным!
После встречи в баре «Фокс» Аполлинер взял за правило ежедневно, покинув банк Лепер на улице Пелетье, где он работал в редакции биржевых новостей «Гид рантье», подниматься к площади Равиньян. Начиная с 1907 года, зная, что материальное положение Пикассо стало устойчивым, он часто обедал в «Бато-Лавуар»; там у него было, как выражалась Фернанда, «свое место за столом». Молодожены тогда еще не имели возможности класть салфетки к каждому прибору, и гости вытирали рот скатертью. Попутно «красавица Фернанда» добавляет, что Аполлинер не был так деликатен, как Макс Жакоб, приходивший к часу обеда или ужина, только будучи приглашенным. Умному, любезному, очаровательному Аполлинеру легко прощали его бестактность.
«Милый, образованный, остроумный и какой поэт! – восклицает Фернанда. – Не скажу, чтобы он обладал рафинированным вкусом, но он был по-детски непосредственным, что просто очаровывало. Он был артистичен, парадоксален, порой высокопарен, чаще прост и наивен».
Жан Метценже, поселившийся на Монмартре уже после отъезда Пикассо, добавляет: «Слушать его было подлинным удовольствием. О самых простых вещах он выражался так, что сразу ощущалась его способность к поэтическому восприятию; последователи пытались претворить эту форму в какую-то систему. Сравнивая один предмет с другим, он выбирал самый дальний, имеющий особенно много отличий. Эффект неожиданности, достигаемый таким сравнением, не раздражал, так как сближение всегда было оправдано» [20]20
«Le Cubisme» était ne, Editions Presence, Paris, 1972.
[Закрыть].
Живопись Пикассо оставила глубокий след в его сознании, и, можно сказать, с бедняков «голубого периода» и грациозных акробатов «розового» началась деятельность Аполлинера как критика. До этого им были написаны лишь две небольшие статьи о немецкой живописи – как проба пера. Современная живопись была ему неведома, а то немногое, что он о ней знал, он услышал от Вламинка в вагоне поезда, когда они вместе ездили в Везине. После посещения мастерской Пикассо он опубликовал подряд две посвященные ему восторженные статьи, содержавшие не столько эстетический анализ, сколько чувство восхищения.
Он взволнованно писал о «женщинах, которых больше не любят», о «нищих, истерзанных жизнью», о «детях, которых никто не целует», о «девочках, удерживающих равновесие на большом акробатическом мяче» – о меланхолическом декадентском мире, пять лет назад открытом Пикассо. Не претендуя на глубину, Аполлинер обладал мастерством интересно рассказывать о живописи. Что же касается его интуиции распознавать наиболее яркое, сильное, приходится признать, что Аполлинеру это не удавалось. Живопись он не понимал. В этом убеждены все, кто его знал. Вламинк рассказывает:
«Та же парадоксальность ума, которая побуждала его читать бульварные романы вроде „Ника Картера“ и „Ростовщиков Сьерры“, заставляла его воскликнуть у какой-нибудь лубочной картинки: „Ну чем хуже Сезанна?“ А потом и убеждать: „Да это лучше Сезанна!“
Его суждения были и алогичны, и абсурдны, и противоречивы».
И все-таки благодаря своему озорному интеллекту, огромному поэтическому чувству, гениальному словотворчеству Аполлинер оказывал мощное влияние на все, стремящееся к новаторству. Без него Пикассо, да и другие художники «Бато-Лавуар», а также Леопольд Сюрваж и Марк Шагал гораздо позже достигли бы славы. Своими непререкаемыми оценками он заставил поверить в их гениальность. Тут его роль поистине определяющая.
В жизни он был совсем не похож на ту беспокойную, легкоранимую личность, какой предстает в своих стихах и письмах; скорее, в жизни он проявлял противоположные склонности, например, острый интерес к неприличным историям, вроде книги «Одиннадцать тысяч фаллосов», купленной во время учебы в коллеже Святого Карла в Монако. Не отличался он и особой элегантностью: небрежно одетый, в твидовых потертых костюмах с оттопыренными карманами, куда он засовывал свои рукописи; к тому же он так любил поесть, что вполне мог сойти за обжору. Поражала и его эрудиция в области гастрономии – для расширения знаний он пользовался книгами Национальной библиотеки, – с ней могла сравниться только энергия, с какой он действовал вилкой. На закате своих дней Вламинк с юмором вспоминал, какие соревнования по чревоугодию они устраивали. Дело заключалось в том, что в ресторане они заказывали все стоявшие в меню блюда – от закусок до десертов… И договаривались, что первый, взмолившийся о пощаде, платит по счету. Так, однажды, прежде чем признать себя побежденным, Аполлинер прошелся полтора раза сверху донизу по меню ресторана Дюваля. Правда, счет пришлось оплатить Вламинку, так как поэт отличался не только чревоугодием, но и скупостью.
Они составляли странную пару – он и Мари Лорансен. Она – полная противоположность Аполлинера, высокая, тоненькая, стройная, с выступающими ключицами. Он влюбился до сумасшествия, и это чувство породило самые нежные стихи во всей французской литературе.
Мари, по словам Франсиса Карко, была грациозной девушкой с миндалевидными глазами лани. Фотографии так неудачны, что на них она напоминает худющую близорукую козу. Очевидно, она принадлежала к той категории хорошеньких дурнушек, которые привлекают не красотой, а живым и умным выражением лица. Вот почему Мореас так ее воспевал:
Злато родится
В зеницах
Прекрасных ее очей.
Инициатором этой связи был Пикассо: встретив как-то в галерее девушку, работавшую в Академии Гумберта по Браку, он решил, что Аполлинер, страдающий от одиночества, найдет в ней родственную душу. «Я приглядел тебе женщину», – посмеиваясь, объявил он другу. Он организовал встречу почти в шутку, но скоро стало ясно, что интуиция не подвела Пикассо. Аполлинер и Мари Лорансен действительно наши друг друга. Оба – внебрачные дети, оба имели вкус к эксцентричности, позволявшей обычно молчаливой Мари неожиданно разражаться смехом-ржанием. Такое ребячество раздражало компанию «Бато-Лавуар». Ее терпели ради Аполлинера, никогда не считая своей. Фернанда Оливье, которой Мари как женщина была антипатична, описывает ее в своих воспоминаниях девицей порочного вида. Наверное, Фернанда не простила ей карикатуру, нарисованную Мари и подписанную «Madame Pikaco». Макс Жакоб, любивший собирать сплетни, утверждает, что Мари пришлось сделать аборт, а он сложил песенку, выводившую Аполлинера из себя:
Твои грудочки ласкаю
И от жажды умираю
Тебе сделать ангелочка,
Лорансен Мари, и точка.
Пятьдесят лет спустя, встретив после долгой разлуки Алису Дерен, Пикассо с наслаждением запел эту песенку.
Умная и желающая преуспеть, Мари Лорансен не обращала внимания на подобные шутки и всегда старалась извлечь для себя пользу из бесед, слышанных у Пикассо.
«Тому немногому, что я знаю, я обязана художникам, моим современникам, – пишет она в своих воспоминаниях [21]21
Carnet des Nuits. Cailler, Genève, 1956.
[Закрыть], – Маттису, Дерену, Пикассо, Браку. Возможно, они будут недовольны, услышав от меня свои имена. Ну что же, как поет в своей арии Кармен: „Меня не любишь ты, так что ж! Зато тебя люблю я…“»
Признание, которое достаточно точно освещает отношения, сложившиеся между ней и друзьями Пикассо.
Мари Лорансен сумела виртуозно соединить кубистские теории и маньеристские гравюры эпохи романтизма. Все же Фернанде Оливье, с ненавистью писавшей, что эта страдающая бледной немочью живопись выросла из «Газеты для дам и девиц», нельзя отказать в проницательности. Только любовное ослепление и легкомыслие Аполлинера могли поставить ее имя рядом с художниками-кубистами.
Ее жизнь рядом с ним нельзя назвать радостной. Привыкший к случайным связям Аполлинер-любовник был и робок, и груб одновременно. В начале 1914 года измученная Мари ушла от него и вышла замуж за красивого немца с Монпарнаса, которому открыла всю горечь своих утрат:
Поэты и математики
Под мостом Мирабо Сена течет
И наша любовь…
Другие поэты, посещавшие мастерскую Пикассо, хоть их и не назовешь статистами, не играли той роли, какая принадлежала Максу Жакобу и Гийому Аполлинеру. Из них ближе других был Андре Сальмон, правда, на очень краткий период, что бы там ни говорили. Его воспоминания не должны ввести нас в заблуждение относительно той роли, которая была уготована ему возле Пикассо. Причем, роль эта ограничивается годами, предшествовавшими его женитьбе в 1909-м. После того он переехал на Монпарнас, где сдружился с Кислингом, Зборовским, Модильяни. Однако эта дружба не уберегла его от весьма серьезных неточностей, когда он начал о них писать. Дело в том, что Сальмон, редактор «Пари-журналь», исповедовал преступное кредо журналистики: сенсационность любой ценой. Ради пикантных анекдотов он не задумываясь передергивал и подменял факты, а чтобы подкрепить свои утверждения, соединял события, не имевшие одно к другому никакого отношения. Одним словом – «привирал». Вот почему его воспоминаниям можно верить лишь отчасти.
На Монмартре он жил сначала в странной квартире на улице Сен-Венсан, выходившей окнами на некое кладбище настольных и стенных часов, оставленных здесь на хранение владельцами. Потом, в 1908 году, Сальмон переехал и несколько месяцев прожил в мастерской «Бато-Лавуар», расположенной под мастерской Пикассо, иначе говоря, на первом этаже со двора. Только в течение этого времени он и входил в компанию Пикассо, хотя Пикассо познакомился с ним тогда же, когда и с Аполлинером.
Сальмон тоже принадлежал богеме, но одевался опрятно, почти изысканно – тщедушный, неуклюжий, довольно робкий молодой человек, узнаваемый во многих забавных шаржах Пикассо. С невозмутимым видом, подчеркнуто светским тоном он рассказывал самые скабрезные истории, имевшие, однако, большой успех. Присутствие Сальмона в «Бато-Лавуар» особенно памятно его женитьбой 14 июля 1909 года. Он без памяти влюбился в свою странноватую избранницу, невзрачную, как лошадь похоронных дрог. На этот случай Аполлинер сочинил, кажется, экспромтом такое стихотворение:
Среди других участников компании Пикассо можно назвать поэта Пьера Реверди, у которого позднее был бурный роман с Коко Шанель и который после удалился в Солемскую обитель; критика Мориса Рейналя, впоследствии историка кубизма. Привыкший к достатку Рейналь жил на левом берегу и устраивал у себя ужины, повергавшие в оцепенение приходивших художников.
Встречи в «Бато-Лавуар» оживляли некоторые лица театрального мира. Появлялся Дюллен, талант которого там не разглядел никто. «Он был горбат, некрасив и гнусавил», – рассказывал Пикассо Женевьеве Лапорт [23]23
Si tard le soir. Pion, 1972.
[Закрыть]. Ему предпочитали Гарри Бауэра, забавлявшего своим высокопарным красноречием. Он остроумно пользовался полученным там прозвищем и, стучась в дверь мастерской, объявлял: «Откройте, это Кабо [24]24
По-испански El Cabo – командир, по-французски le cabot – бродячий актер.
[Закрыть]».
Марсель Олен не отличался такой жизнерадостностью, в нем угадывалось даже что-то сатанинское. Талантливый актер и прекрасный поэт, он любил устраивать «ужасные трюки». Склонный пошуметь, подраться, придумать какую-нибудь провокацию, он мог подстроить пакость даже друзьям. Обещая накормить в ресторане Макса Жакоба, он заводил его в злачные места. Утрилло он спаивал, что было совсем нетрудно! Пикассо как-то отомстил за всех, в день генеральной репетиции отправив ему на сцену венок из фарфоровых бессмертников. Шутка спустя несколько лет оказалась мрачно пророческой. Милый хулиган Марсель Олен не вернулся с войны. Он героически пал под Верденом, подняв в атаку солдат.
Еще один близкий к Пикассо богемный персонаж, Пренсе, в некотором роде даже повлиял на его развитие. Этот оператор страхового общества за столиком бистро на листках бумаги объяснял Пикассо и Браку' простейшие принципы пространственной перспективы. За что его и прозвали «математиком кубизма» – термин, подхваченный многими историками направления. Не боясь ошибиться, можно сказать, что такого звания он не заслуживает. Беседы, которые он вел с Пикассо и друзьями, – всего лишь одна из многих составляющих, подготовивших то определение кубизма, которое они позднее ему дали.
Этот рыжебородый зубоскал оказался жертвой житейской драмы. Его хорошенькая жена Алиса, с которой Пикассо познакомился, впервые попав в Париж, известная своей импульсивностью и непредсказуемостью, внезапно ушла от него к Дерену. Став «рогоносцем Холма», Пренсе пытался утопить отчаяние, переходя из бистро в бистро и старательно избегая этой парочки, державшей себя вызывающе. Андре Варно утверждал, что, в отличие от римлян, Пренсе, наоборот, в горе сбрил бороду. Потом он искал утешения в гашише, шахматах и наконец обрел спокойствие в Солемской обители, где и кончил свои дни, предаваясь теологическим дискуссиям с таким же жаром, с каким прежде спорил о проблемах эстетики.
Французские друзьяНачиная с 1907 года в окружении Пикассо французские художники стали преобладать над испанцами. Он вступал в яростные споры с Дереном и Браком. Брака в «Бато-Лавуар» привел Аполлинер, чтобы показать ему «Авиньонских девушек», наделавших много шуму на Холме. К Пикассо приходили из любопытства и чтобы посмеяться. Дерен пугал Канвейлера, что тот однажды найдет испанца повесившимся за своей картиной. Тогда она называлась еще «Авиньонский бордель», в память о доме терпимости, расположенном на Карер д’Авиньон в Барселоне. Как и Дерену, «Авиньонские девушки» не нравились Браку. Как-то после длительной дискуссии с Пикассо он ушел, сделав заключение: «Несмотря на все объяснения, смотреть на твою картину – все равно что жевать паклю и пить керосин». Тогда Брак еще придерживался фовизма вместе с двумя другими гаврскими художниками – Отоном Фриезом и Раулем Дюфи. Но, размышляя над виденным в «Бато-Лавуар», Брак довольно скоро перешел на позиции Пикассо, его творческие поиски начали двигаться в параллельном направлении, и он сделался одним из активных деятелей кубизма.
До этого он был благопристойным молодым человеком, носившим костюмы из темно-синей саржи; под влиянием Пикассо он сменил одежду, предпочтя спецовку и добавив к ней серую шляпу. На распродаже он купил их сразу несколько. Изменились его поведение, речь, теперь он вставлял в нее грубоватые словечки. Нередко Брак участвовал в розыгрышах, которые так любили жильцы «Бато-Лавуар».
Он по-прежнему оставался благопристойным молодым человеком, но как простой работяга по воскресным дням устраивал пирушки, приглашал друзей в свою мастерскую на улице Орсель или отправлялся танцевать с девочками «Мулен де ла Галетт». Вальсировал он неподражаемо.
Из всех художников наибольшее влияние на Пикассо оказывал Дерен. Они беседовали на равных, часами обсуждали живопись прошлых веков или отправлялись в Лувр изучать древнеегипетское искусство. Еще в большей степени, чем Матисс, поднимавшийся на Монмартр лишь посмотреть, что там делается, Дерен отличался неутомимой любознательностью и начинал теоретизировать по всякому поводу. Правда, он обладал одной слабостью – во всем сомневаться, и потому его суждения нередко оставляли собеседников в растерянности. Но его многогранный интеллект буквально завораживал любого, и для молодых художников в течение всего десятилетия после Первой мировой войны он продолжал быть более авторитетным, чем Пикассо.
В ресторанчики на Холме, где Дерен встречался с компанией «Бато-Лавуар», он часто приходил с Вламинком, разительно отличавшимся от него и внешне, и по характеру. Вламинк, высокий, крупного телосложения, казалось, всегда искал кого-нибудь, кому можно «набить морду». Дерен, почти такого же роста, был тощим и неуклюжим. За войну он раздобрел и сделался таким же колоссом, но только несколько дряблым.
Пикассо любил пройтись в компании этих двух друзей из Шату по крутой улице Равиньян. Они спускались – грудь колесом, поигрывая мускулами. «На Холме, – вспоминал он, – нас уважали за нашу выправку, из-за бицепсов нас принимали за боксеров». Влюбленный в природу Вламинк жил в зеленом пригороде, в Рюэле, среди лесов Жоншер. Он приходил на Монмартр только за тем, чтобы еще раз удостовериться, как отвратительна ему артистическая среда. Поэтому его редко видели в «Бато-Лавуар». Бравируя своими анархистскими пристрастиями, он удивлял компанию, предсказывая неизбежность «сумерек цивилизации» или излагая сюжеты собственных романов. Он ведь писал и прозу, а за последние годы опубликовал более двадцати книг, о характере которых говорят сами названия: «Все отдам», «Из одной постели в другую», «Души манекенов»… Рассказывая о них, он смеялся до слез и приговаривал: «Хуже, чем Мирбо, старина, хуже, чем Мирбо!» Правда, эта массовая продукция с иллюстрациями Дерена, придающими ей некоторую прелесть, популярна еще и сегодня.
Нельзя, конечно, не упомянуть об отношениях Пикассо с Матиссом. Матисса все уважали как старшего, хотя Андре Сальмон обычно утверждает обратное. Естественно, в такой богемной среде благопристойная внешность, очки в золотой оправе и профессорские жесты вызывали удивление. В шутку ему дали дружеское прозвище «Доктор». Но ни в коем случае не следует представлять Матисса и Пикассо братьями-врагами. В определенном смысле они были соперниками, как «южный и северный полюс живописи», но испытывали друг к другу уважение и чувство дружбы, крепнувшее с годами. Лучшее доказательство тому – одиннадцать картин Матисса, оставшихся после его смерти в доме Пикассо, которые он получил в обмен на свои картины, как это принято у художников.
С 1909 года мастерская Пикассо сделалась чем-то вроде форума: приходили друзья, торговцы, коллекционеры, критики, и в итоге это стало мешать творчеству. Уже два года он был лишен возможности работать по ночам: каждый вечер гости засиживались допоздна. Узнав, что на бульваре Клиши сдается квартира с мастерской, Пикассо решил переехать. И, вернувшись в Париж после лета, проведенного в городе Орта в Испанских Пиренеях, он оставил «Бато-Лавуар», завершив важный период развития современного искусства и уникальную эпоху в жизни Монмартра.
Глава пятая
МАКИ БОГЕМЫ
История МакиЗначительное влияние на жизнь Монмартра оказывала территория, называемая Маки. Обширное пространство на северном склоне Холма между «Мулен де ла Галетт» и улицей Коленкур в XIX веке превратилось в трущобы. Из-за глинистых почв, способных выдержать только легкие постройки, землевладельцам пришлось отказаться от возведения солидных зданий, но чтобы все-таки извлечь выгоду, хозяева решили сдавать землю на длительный срок.
По склону Холма среди садиков и диких зарослей жасмина, сирени, боярышника, шиповника как попало вырастали хлипкие домишки. Некоторые выглядели очень привлекательно и поддерживались в отличном порядке, так как хозяева выезжали сюда как на дачу. Кое-где существовали даже хозяйственные дворы, где держали кроликов и даже коз.
Большинство построек, слепленных из ящиков, просмоленного картона и клеенки, выглядели уныло. Долго всех приводила в изумление странная конструкция: каркас из легких, скрепленных муфтами деревянных брусьев, сплошь затянутый промасленной тканью. Этот дом принадлежал двум фантазерам – певцу Азюру и его другу инженеру Реми, придумавшими такое удивительное сооружение, чтобы избежать налога на двери и окна. Абсурдного налога, из-за которого у большинства зданий прошлого века мало окон. У этих двух молодых людей не было ни окон, ни дверей, к ним входили, приподняв полотно.
Сборщик налогов не мог с этим смириться и решил прибегнуть к силе, чтобы все-таки взыскать налог с упрямых арендаторов. Как-то утром жители Маки проснулись в окружении полиции… Явились четыре усатых сержанта, которых днем с огнем не сыскать, когда они нужны. Вопреки этой демонстрации силы в конфликте победили Азюр и Реми. Они сумели доказать комиссару, что не за что платить налог, раз ни окон, ни дверей не существует. Это очень развеселило Куртелина, жившего в двух шагах на улице Лепик.
Мальчишкам с Холма бескрайнее ничейное пространство Маки казалось раем, и они часто прибегали сюда, прогуливая уроки. Жан Ренуар вспоминал, как ребенком ходил туда собирать отличных улиток бургундской породы. Зимой старики выкапывали там корни одуванчиков, а весной можно было понаблюдать за «псовой охотой». Из клетки на простор выпускали какого-нибудь несчастного кролика, и ватага художников в сопровождении мальчишек пускалась по его следу. Накричавшись «Ату его, ату!», охотники начинали испытывать сильную жажду, и погоня заканчивалась в одном из бистро улицы Коленкур.
Другое развлечение предоставляла жителям Айседора Дункан, приезжавшая репетировать греческие танцы со своими ученицами. Девочки в хламидах и коротеньких туниках танцевали босиком на песчаной площадке, иронически называемой здесь «пляжем». Можно представить себе волнение, провоцируемое такими одеяниями в те времена, когда у усатой части населения температура поднималась даже от одного вида женской лодыжки. Танцовщицы из состоятельных семей были при дорогих украшениях – брошах, пряжках, кольцах. Шутники советовали девочкам освободиться от тяжести аксессуаров – выбросить все. Случалось, что те и впрямь швыряли в заросли кольцо или брошку, и всегда было кому их подобрать. Врученные торговцам Маки или сданные в ломбард на улице Кавалотти, они превращались в аппетитные бифштексы или бутылки неплохого вина.
Художники охотно и с радостью рисовали Маки, очарованные видом этого местечка и живописными домишками, над которыми возвышались три мельницы Холма. Ван Гог открыл это место в 1886 году, впервые приехав в Париж. Он оставил картину с видом Маки в технике пуантилизма [25]25
Пуантилизм – живописная манера, заключающаяся в передаче цветовых отношений отдельными точечными мазками не смешиваемых на палитре красок, что предполагает их оптическое смешение при восприятии зрителем. Эта манера легла в основу постимпрессионизма.
[Закрыть], как тогда писали Писсаро и Синьяк. После него этот сюжет использовали уже собственно монмартрские художники – Утрилло, Кизе, Макле, Лепрен. Лепрен приехал последним и запечатлел то, что к тому времени осталось от Маки. Разрушение Монмартра началось всего лишь за несколько лет до того, как он поселился здесь, покинув Марсель.
Эзе вспоминал, что они вместе с Юттером ходили сюда писать пейзажи, когда еще учились в школе на улице Клиньянкур. Во время одного из этих сеансов они удостоились совета Сюзанны Валадон, выгуливавшей в Маки своих собак. Присмотревшись к их мазне, она насмешливо бросила: «Небо не пишут так же, как землю!» и удалилась… Школяры погрузились в размышления.
По социальному уровню население Маки поражало разнообразием и необычайной живописностью: старьевщики, сборщики металлолома и кроличьих шкурок, уличные торговцы, мастера, плетущие стулья… Был здесь и удивительный «брокер» Делешан – и кучер на фиакре, и поэт, и продавец картин одновременно. Он торжественно величал себя «премьер-министром Смерти», имея в виду старую мебель, которой торговал. Он пользовался уважением художников, поскольку не раз подсаживал их в свой фиакр, когда они добирались домой на Холм. Особенно его ценил Модильяни: он слушал стихи Делешана и, в свою очередь, «на итальянский манер» читал ему стансы из «Новой жизни».
В другом домике жил чопорный старичок невысокого роста, государственный служащий, удостоенный наград. В течение двадцати лет он готовил цирковой номер: собирался запрячь крыс в римские колесницы и посадить кучерами мышей… Жан Ренуар, оставивший о Маки пленительные воспоминания, подробно рассказывает об уличной торговке рыбой Жозефине: ее лачуга стояла посреди довольно обширного сада, где бегали откормленные животные. Козу она обучила питаться ежевикой и другими колючими кустарниками, которыми зарастали улицы. По вечерам после трудового дня она устраивала чайный салон, усаживаясь перед домом в позолоченное кресло. Ее любимым развлечением было почем зря ругать Республику и, по ее словам, «неизвестно откуда взявшихся» министров. Монархистка, как и все дамы парижского Рынка прошлого века, она мечтала о возвращении кавалеров в шелках и напудренных париках.
Существовали здесь и сестры-куртизанки, блестяще справлявшиеся со своей ролью, но в разных жанрах. Одна, балерина Оперы, состояла на небольшом содержании у почтенного господина хирурга; вторая, кокотка высокого полета, своими сногсшибательными туалетами и экипажем буквально ослепляла жителей Монмартра. Сестры завидовали друг другу, их отношения были натянутыми. При встрече они часто ссорились: балерина, девица скромная, упорно говорила о каком-то матрасе, на котором перебывал весь Париж, а кокотка невозмутимо вспоминала о некоем ни на что не годном хирурге. Рассказывали, что однажды дружок балерины забыл свои очки в животе оперируемого пациента.
В основном население Маки состояло из трех социальных групп – художники, бродяги, люди маргинальных профессий. Для молодых художников, как правило, Маки являлось только первым этапом. Приезжая в Париж и еще не зная мира богемы, многие из них считали подходящим соорудить здесь хижину, поскольку арендная плата за землю была низкой. Так, в Маки поначалу жили Стейнлен и Пулбо, да и потом они не окончательно отсюда удалились, ибо оба построили себе дома поблизости. Анри Лоран с Раймоном Дюшан-Вийоном, лучшим скульптором из кубистов, жили тут в году 1910-м; Ван Донген, приехав в Париж, тоже некоторое время провел здесь у своего соотечественника Тен Кате. Он прибыл праздничным поездом 14 июля 1897 года без гроша в кармане и сразу продал обратный билет в бистро рядом с Северным вокзалом.
Ван Донген тогда искал себя, и это первое пребывание в Париже позволило ему определиться и поставить перед собой какую-то цель, чтобы вырваться из плена сковывавшей его голландской традиции. В течение года он переезжал в Маки с квартиры на квартиру – куда пригласят. Он вспоминал, как некоторое время жил у садовника; матрац, на котором он спал, днем поднимали к потолку при помощи ремней и роликов. Как-то его приютили у себя цыгане, поставившие в Маки свою кибитку. Тогда у Ван Дон-гена не было денег на то, чтобы регулярно бриться, он решил отпустить бороду и стал совсем похож на бродягу. Стесняясь своего вида, он издали смотрел на прогуливавшихся по монмартрским улочкам Тулуз-Лотрека, Ренуара, Дега и не решался к ним подойти.
Каждое утро перед ним вставал единственный вопрос: как прожить день? Читая объявления, он откликался на все предложения. Он был уличным продавцом газет, грузчиком на рынке, подсобным рабочим, топившим печи в конторах, маляром… Как и Вламинк, он ходил по ярмаркам у бульвара Клиши, у Порт де Венсен или в Нейи, чтобы «вступить в противоборство» с силачами. Когда в рекламных целях один из них выкрикивал в толпу: «Кто хочет со мной потягаться?», выходил Ван Донген… Сначала он немного «боролся», потом, естественно, оказывался побежденным и уходил, положив в карман сотню су.
Через год он устал от такой жизни и случайных заработков, которые не давали ему возможности заниматься живописью, и, как и Пикассо, вернулся на поправку в родное гнездо, в Дельфшафен. Скопив за три года сотню гульденов, в следующий раз он решил остаться в Париже.
Еще через девять лет изведать очарование Маки пришла очередь Модильяни. Повторив путь Ван Дон-гена, он явился сюда, проведя несколько дней в туристической гостинице в квартале Мадлен. Опьяненный Парижем, переходя из музея в музей, он целыми днями бродил по городу.
Шале, где поселился Модильяни, находилось в нижней части Маки, возле улицы Коленкур, там, где спустя пятнадцать лет откроется ресторан «Маньер» – место встречи монмартрских художников, приехавших в Париж между двух войн.
Если верить описаниям Луи Латурета, эта первая мастерская Модильяни (а он сменил за три года не менее десяти) была достаточно удобной. Латурет описывает вполне пристойную мебель, упоминает даже покрытое шалью пианино. Инструмент не имел струн и стоял скорее «для вида», как говорят жители швейцарского кантона Во. Очевидно, его оставил на хранение Делешан, чья торговая лавка находилась по соседству. Один из предметов – таз – многократно описан биографами Модильяни; он сопровождал художника во всех переездах на Монмартре и последовал за ним на Монпарнас. В отличие от Пикассо аккуратный Модильяни не использовал таз в качестве мусорного бака для книг и газет, а ежедневно совершал над ним омовения холодной водой.
Те несколько месяцев, что он прожил в Маки, не отличались особыми событиями. Он еще не стал персонажем для фильмов и комиксов, как во время войны. Пока Модильяни тоже искал себя, и эти поиски были длительными и трудными. Только с 1915 года в мастерской начнут собираться портреты и ню, которые составят основу его творчества. А в 1906 году на Монмартре он делал рисунки, писал этюды, по вечерам приводил натурщиц. И почти все уничтожал – от недовольства собой. Тот «Моди», описанный Сальмоном или Жоржем Мишелем – всегда пьяный или накачавшийся гашиша, читающий стансы из «Новой жизни», – еще не существовал, хотя алкоголь и наркотики начали свое дело. Он еще держал себя в рамках – красивый молодой итальянец в бархатном костюме с прекрасными черными локонами, обрамлявшими классические черты лица. Он еще предпочитал бегать за девочками, а не заглядывать на дно бутылок, и его чары обеспечивали ему легкий успех. Вспоминают страстную блондинку Мадо, бывшую любовницей Пикассо до Фернанды Оливье. Андре Сальмон и Артюр Плансель рассказывают, что мимолетные победы Модильяни нередко кончались стычками с парнями Холма, которые были в ярости и запрещали ему «охотиться» на их территории. Но отважный Модильяни быстро расправлялся со своими противниками, не особенно опасными на деле.








