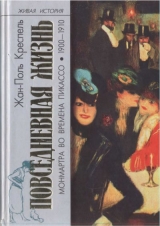
Текст книги "Повседневная жизнь Монмартра во времена Пикассо (1900—1910)"
Автор книги: Жан-Поль Креспель
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Материальные затруднения Пикассо и его сложные отношения с продавцами картин постепенно уходили в прошлое и, по сути дела, кончились в 1907 году с приездом молодого торговца Даниэля-Анри Канвейлера, посвятившего себя пропаганде творчества Пикассо и кубистов вообще. В «Бато-Лавуар» Канвейлера привел его соотечественник Вильгельм Уде, купивший «Таз» у Кловиса Саго. Вильгельм Уде сам коллекционировал картины и был посредником при перепродаже. Он особенно увлекался «наивным искусством», устроив первую персональную выставку Таможенника-Руссо, а вслед за ним открыл Серафину де Санлис, Вивена и Бонбуа. «Авиньонские девушки» сначала его ошеломили, а потом очаровали. Он видел картину в апреле 1907 года в мастерской Пикассо. Он рассказал о ней Канвейлеру, тот был заинтригован и попросил познакомить его с художником.
В начале Канвейлера в основном интересовали фовисты, и в его галерее на улице Виньон были выставлены знаменитые картины Брака фовистского периода, Вламинка, Ван Донгена, Дерена. Этот молодой немецкий еврей, на три года младше Пикассо, из семьи банкиров города Мангейм, страстно любил живопись, и ему удалось убедить родителей, надеявшихся, что он продолжит их дело, разрешить ему попробовать свои силы в картинном бизнесе. Дядюшки Канвейлера поставили жесткие условия: «Вот 25 тысяч франков, если через год ты преуспеешь, то продолжишь. Если нет – отправишься в Южную Америку».
«Авиньонские девушки» потрясли Канвейлера: он почувствовал в них новизну, которая, развиваясь, могла открыть новую эру искусства. Чутье подсказывало ему, что фовистами он увлекся уже поздно – Воллар скупал их сотнями, а в лице Пикассо, по счастливой случайности, он встретил художника в самом начале его расцвета. Он решил сделать ставку на него, а это оказалось непростым делом: многие торговцы часто подводили Пикассо, и он не был расположен доверяться такому молодому человеку, о котором Воллар с презрением говорил, что тот недавно побывал на своем первом причастии. Но благодаря упорству и убежденности Канвейлера отношения наладились.
Этот молодой ценитель живописи и уже опытный коммерсант – на заре века ценители среди коммерсантов встречались чаще, чем сейчас, когда в торговлю картинами в основном идут за выгодой – представлял совсем иной тип торговца, нежели Воллар. Он любил и живопись, и художников, с некоторыми из них умел завязывать дружеские отношения, а это приносило плоды и на поприще дружбы, и на поприще коммерции. Наперекор своим вкусам он ходил с Пикассо в цирк Медрано, а с Хуаном Грисом – на танцы, проявляя почти детскую преданность. Но он не позволял чувствам брать верх в делах. Фернанда Оливье посвятила ему целую главу мемуаров, очень злую, назвав его «настоящим евреем-купцом, умеющим рисковать, чтобы выиграть». Активный, настойчивый, он торговался часами, доводя художника до того, что тот соглашался на предложенную цену. Позднее, пытаясь оправдаться, Канвейлер объяснял: ему необходимо было быть жестоким, чтобы продержаться. Возможно, он и прав. Учитывая узость рынка современной живописи в канун 1914 года, покупателя действительно могли привлечь только низкие цены.
При всем том Канвейлер был столь безупречно порядочным человеком, что вплоть до 1972 года его деловые отношения оставались стабильными, хотя с 1914 по 1944 год они не работали вместе с Пикассо. Первая мировая война вынудила Канвейлера эмигрировать в Швейцарию: будучи подданным Германии, он не желал воевать против Франции. А Пикассо в это время подписал новый контракт с Паулем Розенбергом. И только после Освобождения Пикассо и Канвейлер вновь возобновили сотрудничество.
Знакомство с Канвейлером в 1907 году ознаменовало решительный поворот в жизни Пикассо. С этого времени у него больше не было материальных проблем, теперь ему не приходилось упрашивать маршанов Монмартра купить у него работы, чтобы пообедать. Материальная независимость открыла свободное поле деятельности для творчества.
Глава десятая
ПРОЩАЛЬНЫЙ БАНКЕТ
Монмартрская эпоха началась для Пикассо с тревоги, нищеты, неуверенности в будущем, а завершилась эйфорией символичного банкета, устроенного в честь Таможенника-Руссо в конце декабря 1908 года. Он означал, во-первых, признание наивного искусства, то есть творчества тех, кого в XX веке считали примитивистами от авангарда; а во-вторых, он знаменовал финал пребывания на Холме художников-новаторов, создателей фовизма и кубизма.
Однако было бы ошибочным утверждать, что именно с этого банкета началась слава Таможенника-Руссо. Пикассо, к примеру, искренне полагал, что сделал открытие, купив у Кловиса «Портрет Клеманс». Он и не догадывался, что Руссо задолго до него знали и ценили Реми де Гурмон, Альфред Жарри, Писсарро, Поль Синьяк. А Амбруаза Воллара деловые отношения с Руссо связывали с 1895 года. Аполлинер познакомился с Руссо в Салоне «независимых», куда его картины принял президент Салона Поль Синьяк. Именно Аполлинер познакомил Пикассо с Таможенником, удивившись интересу своего друга к «этой безвкусице» и «провинциальной пошлости». В один из ноябрьских вечеров Аполлинер повел их с Фернандой и еще несколькими членами компании «Бато-Лавуар» на вечер, устроенный художником для своих соседей по мастерской дома 2-бис по улице Перель в центре XIV округа.
Аполлинер собирался посмеяться над Анри Руссо и его гостями, торговцами квартала и клерками, столь же непритязательными, как и он сам. Но среди простого люда появились и люди искусства, с которыми Таможенник свел знакомство еще раньше: Жорж Дюамель с супругой Бланш Обан, известной актрисой, Жюль Ромен, Люк Дюртен, Робер и Соня Делоне, искренне восхищавшиеся Таможенником, а также несколько немцев, ну и сам Аполлинер с Мари Лорансен.
Вечеринки у Таможенника-Руссо были под стать его живописи, обескураживающей странноватой свежестью. Читать стихи или прозу принимались булочники, бакалейщики, пенсионеры-железнодорожники, муниципальные служащие. Некоторые пели, а Таможенник аккомпанировал на скрипке. В заключение вечера Руссо произносил здравицы всем гостям и играл польки и мазурки с восхитительными названиями: «Сесилечка», «Мечта ангела», «Полька для младенцев», «Колокольчики»…
Плененный простотой этого человека, Пикассо задумал сделать ему сюрприз. Он сговорился с Аполлинером, чей портрет в то время писал Таможенник. Друзья с Монмартра решили пропеть шуточную хвалу Таможеннику, чтобы и посмеяться, и хорошо провести время. Через пятьдесят лет Пикассо признавался Женевьеве Лапорт:
«Знаешь, это была шутка. Никто не признавал за ним ни малейшего таланта. Но только он принял все всерьез, он плакал. Путь для отступления был отрезан» [44]44
Si tard le soir… Plon, 1973.
[Закрыть].
«Портрет Клеманс» Пикассо купил потому, что он ему действительно нравился; стиль Руссо, свободный от всяких условностей, в определенной мере соответствовал направлению его собственных поисков. Больше всех хотел посмеяться Аполлинер, из разных слухов он уже слепил биографию Руссо, представив его служащим таможни (хотя тот работал в конторе по взиманию пошлин) и отправив в некую мексиканскую экспедицию. Поэта мало трогало, как было на самом деле, факты казались ему неинтересными, к тому же он абсолютно не воспринимал живопись Анри Руссо, а картину «Муза, вдохновляющая поэта», написанную Таможенником с него и Мари Лорансен, он хранил в подвале. Аполлинер больше, чем Макс Жакоб, увлекался шутками и розыгрышами.
Пикассо хорошо подготовился: вынес из своей мастерской картины и всякий хлам, а соседние мастерские Хуана Гриса и Жака Вийона предложил использовать как приемную и гардероб. На стенах висели лишь негритянские маски, недавно приобретенные Пикассо, и картина, оставленная Пако Дурио в 1904 году. Лентами, флажками и зелеными ветками мастерскую украсили, как на День взятия Бастилии. Через всю комнату протянули плакат: «Слава Руссо», а у банкетного стола – положенных на козлы досках с глиняными тарелками и большими бокалами, взятыми в бистро у Азона, – помещался мольберт, а на нем – украшенный зеленью знаменитый «Портрет Клеманс» (а не портрет Ядвиги, как писал Сальмон).
Начало празднества прошло странновато и двусмысленно. Тридцать приглашенных, среди них Жак Вийон, Брак, Ажеро, Пишо, Макс Жакоб, Рене Дализ, Стайны вместе с Алисой Токлас [45]45
Не принял приглашения только Дерен, действительно считавший Таможенника очень талантливым. Он пришел в ярость от этой выдумки с чествованием и бросил Сальмону: «Устраиваете триумф для дураков?»
[Закрыть], слишком долго ждали, потягивая аперитив в баре Фове, когда наконец Фернанда пригласит их к столу в «Бато-Лавуар». Часов около восьми молодая хозяйка вдруг поняла, что Феликс Потен, которому было заказано горячее, вовсе не собирается его подавать. Так и осталось неясным, то ли трактирщик забыл о заказе, то ли сама Фернанда неправильно назвала день, что тоже вполне возможно. Бесспорно одно: заказанное блюдо доставили на следующий день.
Звездный час Таможенника
И все-таки ни от голода, ни от жажды никто не умер. Фернанда выставила огромное блюдо риса, приготовленного по валенсийскому рецепту, разные сорта колбас и пирожные, за которыми Пикассо организовал специальный рейд к кондитерам, еще работавшим в тот поздний час. За неимением места тарелки с пирожными расставили на диване в «гардеробной», из-за чего Аполлинер разругался с Мари Лорансен и отправил ее к матери. Дело в том, что пока длилось ожидание в баре Фове, спутники все подливали и подливали Мари. Порядком поднабравшись, она уселась в «гардеробной» прямо на эклеры и шарлотки. В восторге от такого падения, она пыталась целоваться со всеми, кто к ней подходил, пачкая их кремом и вареньем. Именно в это время появились Аполлинер с Таможенником, за которым он заезжал на фиакре на улицу Перель. Увидев эту сцену, он рассвирепел так, как это бывает только с очень полными людьми, и выставил Мари за дверь. За нее никто не вступился: в компании Пикассо ее не любили, считая слишком жеманной. Никто даже не пошевельнулся и тогда, когда мальчик-официант из бара Фовэ пришел сказать, что дама упала на улице и теперь сидит на тротуаре перед баром.
Расправившись с Мари Лорансен, все пошли к столу лакомиться сардинами в масле. На возвышении, в кресле эпохи Луи-Филиппа восседал Таможенник, прибывший со своей скрипкой. Он абсолютно серьезно относился к своему звездному часу, к почестям, ради которых собрались эти молодые люди, и сохранял достоинство, стараясь не обращать внимания на капли горячего воска, падавшие ему на лысину с висевшего над ним подсвечника.
Между закусками вставлялись концертные номера. Брак играл на аккордеоне, Пишо исполнял испанский танец под аккомпанемент Ажеро, Кремниц пропел гимн во славу Руссо:
Сию живопись
Руссо сотворяет,
Его дивная кисть
Естество покоряет.
Аполлинер прочел замечательные стихи, сделав вид, будто сочинил их только что за столом, хотя, как и все остальное, они были приготовлены заранее:
Ты помнишь, Руссо, пейзажи ацтекские,
Леса, где в цвету манго и ананас,
Обезьяны смакуют крови арбузные,
А императора белого рядом ведут на казнь.
Картины свои ты вывез из Мексики,
В солнца красных лучах зреет банан,
Отважный солдат, ты китель сменил,
На бравых таможенников синий доломан.
Вся соль заключалась в этих строках: Руссо никогда не бывал в Мексике, но он не стал возражать, считая, что такая авантюрная гипербола придает ему особую значимость в глазах юных друзей.
Под конец банкета, взяв скрипку, Руссо начал наигрывать мелодии из своего репертуара, а также недавно сочиненный вальс в честь Клеманс. В душных мастерских яблоку негде было упасть: из соседних мастерских и бистро сбежались чуть ли не все художники, извещенные по «беспроволочному телеграфу». Фернанда разозлилась, увидев, как многие набивают себе карманы пирожными, не обращая внимания на ее свирепые взгляды.
Правда, Сальмон несколько нарушил плавное течение вечера. Чтобы попугать Гертруду Стайн и ее американских спутников (с ней пришли старший брат Мишель и его жена Сарра), Сальмон и Кремниц начали изображать приступ бредовой лихорадки. Они разыграли ее столь убедительно, что Гертруда, вопреки своим медицинским познаниям, и впрямь поверила в «наркотический припадок». И, хотя шутка раскрылась, в «Автобиографии Алисы Б. Токлас» она упоминает именно о болезненном припадке, может быть, сознательно, из мести за этот розыгрыш. Все участники банкета знали, что Сальмон заранее нажевался мыла, чтобы изо рта пошла пена – характерный признак подобного приступа. Но как бы то ни было – все это подтверждают – к концу вечера Сальмон так напился и так всем надоел, что его пришлось запереть в кладовке. На следующий день его нашли там спящим на том, что осталось от шляпы «Алисы Токлас»: ради развлечения он жевал с нее цветы и ленты.
Празднество длилось до зари. Таможенник-Руссо, сморенный эмоциями и алкоголем, впал в легкую дремоту, даже не заметив, что свечи над его головой разгорелись слишком сильно. Пикассо попросил Жака Вийона сбегать на площадь Анвер за фиакром, с помощью Лео и Гертруды Стайнов, ехавших в том же направлении, они посадили туда очарованного почестями виновника торжества, уверенного, что это самый прекрасный день в его жизни. Впрочем, в этом была доля истины. По маленькой стране художников слухи о банкете расползлись так быстро, что к Руссо все стали вдруг относиться с почтением, с то время как раньше над ним только насмехались. Так розыгрыш вышел боком его инициаторам, попавшим в свою же ловушку: банкет произвел впечатление настоящего триумфа недооцененного гения.
Едва кучер поднял кнут, как Руссо, придя в себя, обратился к организатору банкета со словами благодарности, оказавшимися и впрямь гениальными: «Ты и я – мы с тобой два великих художника мира. Ты пишешь в египетском стиле, я – в современном».
Все прочие детали – это уже неписаная легенда, к ней приложили руку и Аполлинер, и Сальмон, передавая россказни из уст в уста. Пока Таможенник оставался жив, никто так и не решился признаться, что все это было задумано в порядке насмешки. И теперь Пикассо приписывают открытие этого великого наивного художника, в то время как по-настоящему до Пикассо его оценили Робер Делоне, Вильгельм Уде и Серж Фера.
Вечера в «Бато-Лавуар»
Пикассо высвободился из пут нищеты лишь незадолго до банкета в честь Руссо, но зато навсегда. После «Авиньонских девушек» его жизнь в «Бато-Лавуар» день ото дня становилась все легче. Пикассо нередко засовывал толстые пачки стофранковых купюр во внутренний карман куртки и из страха потерять зашпиливал его английской булавкой. Только гораздо позднее один из поклонников его живописи, Макс Пелекер, президент банка, надоумил его завести счет в банке.
У четы Оливье-Пикассо теперь всегда был накрыт стол для друзей. Фернанда наконец смогла удовлетворить свою страсть к мотовству, в бистро Холма она производила фурор своими ошеломляющими туалетами и сопровождавшим их хмельным ароматом «Сердца Жанетты». По поводу ее страсти к духам Гертруда Стайн рассказывала, что однажды все сто франков, которые Пабло дал ей на недельный запас продуктов, Фернанда истратила сразу, купив флакон духов «Дым»: они обладали очень приятным дымчатым цветом, но абсолютно не пахли!
Воспоминания о «Бато-Лавуар» Гертруды Стайн, Сальмона и Канвейлера относятся именно к этому периоду. Для художников и поэтов Монмартра мастерская Пикассо сделалась центром притяжения, полностью оправдывая название, данное ей Максом Жакобом – «Центральная лаборатория современного искусства». Друзья, друзья друзей и привлеченные его славой абсолютно незнакомые люди постоянно приходили в мастерскую, он подпитывался их суждениями, мнениями, опытом, а они, в свою очередь, от контакта с ним становились духовно богаче. Гертруда вспоминает, что, когда Пикассо писал ее портрет, у него всегда были какие-то посетители. Часто по вечерам все усаживались в кружок в центре комнаты. Чувствуя себя совсем как дома, Макс Жакоб выступал здесь и в роли шефа протокола, и режиссера, и актера. Вечера завершались веселыми розыгрышами, где Макс поистине блистал.
Все, кто его знал, подтверждают, что он обладал особым даром мима. Он был просто гениален, копируя кого-либо. Под настроение из своих номеров он мог составить целый спектакль, выступая в роли и осветителя, и суфлера, и актера. Он декламировал, пел, танцевал, изображал свою бакалейщицу, отказывающую ему в кредите; Саломона Рейнаха, продающего фальшивую папскую тиару (напоминание о деле с тиарой Сайтафарнеса), клоуна-заику из Медрано; Амбруаза Воллара, в полусне продающего картины; Павлову в «Лебедином озере»… Он никогда не повторялся, а сюжеты черпал из уличных сценок, из сплетен кумушек, которым раскладывал пасьянс и гадал на кофейной гуще.
«Макс, – рассказывал Канвейлер, – был человеком умным и немного странным. Вспоминаются номера, какие откалывали Макс и Пикассо. Ночь напролет Макс мог на разные мотивы напевать „Курчавого красавчика“ и вальсировать по комнате со стулом».
Пикассо тоже помнил эти вечера, и в девяносто лет пел:
Курчавый красавчик, со мной танцуя,
Прижмет меня, милуя,
Я голову теряю,
Ничего не понимаю.
Актер Жемье, увидев Макса в таком спектакле, заказал ему текст скетча «Земля Бушабаль» и мечтал этот скетч поставить. Но, получив текст, он – увы! – испугался его озорного характера и оставил проект. Тогда-то поэт и превратил скетч в целый роман.
Вспоминая эти вечера, когда все изнемогали от смеха, Фернанда рассказывала: «Тысячу раз я видела, как он изображает танцующую босиком балерину, и тысячу раз все было иначе. Он семенил своими мохнатыми ногами, подвернув брюки до колен. С засученными рукавами, широко распахнув ворот, открывавший заросшую черной курчавой шерстью грудь, с непокрытой головой, почти лысый, не снимая пенсне, он танцевал, стараясь придать движениям грациозность. И этот восхитительный шарж всегда заставлял нас смеяться до упаду».
Умел он изображать и певичек из кафешантана, выводя срывающимся голоском:
Ах! Плохо женщине на свете.
Повсюду обмана сети,
Любовью мужчину встретим,
Но кто на нее ответит…
И заканчивал двусмысленными куплетами собственного сочинения:
Ах! Надменная Пандора,
Повелительница взоров;
Если холод мне в ответ
На мою любовь к тебе,
То не стану я скрывать:
Дело, собственно, пустяк,
Но тебе не миновать
Внутрь меня употреблять.
А еще замечательное развлечение – «делать Дега». Это занятие нравилось тем, что в нем могли участвовать сразу всей компанией: пытаясь имитировать менторский тон мэтра балерин, каждый говорил все, что придет в голову. Злые шутки, издевательства были в духе друзей Пикассо, не любивших говорить друг другу комплименты. Тут привыкли обмениваться колкостями, и стоило кому-нибудь уйти, на него возводили такую напраслину! В Барселоне Пикассо не имел склонности к подобному стилю, он научился ему у художников Монмартра. По словам Фернанды Оливье, ни Пикассо, ни Макс Жакоб не упускали случая поиздеваться над лучшими друзьями – неприятная привычка, сохраненная им до конца своих дней; только прежние булавочные уколы эпохи «Бато-Лавуар» позднее превратились в яростные удары шпаги.
С 1907 года компания Пикассо взяла за правило уходить из «Бато-Лавуар» на другой берег Сены, в «Клозри де Лила», на границе Монпарнаса и Латинского квартала. Аполлинер и Макс Жакоб ввели Пикассо в литературную среду: в этом кафе всегда собиралась пишущая братия во главе с Полем Фором, который в скором времени стал тестем Северини, а главное – «Принцем поэтов» (в 1911 году).
Здесь Пикассо познакомился с Жаном Мореасом, так сказать, папой символизма. Подражая актеру греческой комедии, он спрашивал его с иронией: «Скажите-ка, мсье Пикассо, как следует оценивать Веласкеса?»
Не ожидая ответа, стареющий денди разражался оглушительным хохотом: он не любил Пикассо, предпочитая ему Маноло, чьи стихи высоко ценил.
Вопрос, произносимый гнусавым голосом, оставался без ответа.
В половине первого ночи, когда кафе закрывалось, компания возвращалась на Монмартр пешком. Нередко у дверей «Бато-Лавуар», объявляя всем о своем появлении, Пикассо делал несколько выстрелов из пистолета, подаренного ему Альфредом Жарри. Разражалась буря возмущения, сыпались проклятия жильцов, чей первый сон был так грубо нарушен.
К тому времени, когда Пикассо решил оставить «Бато-Лавуар», его жизнь резко изменилась. Для работы ему требовалось все больше места, и он хотел иметь мастерскую, где бы ему не мешали ни Фернанда, ни собака, ни кошки (их было три). Со своей стороны, Фернанда мечтала о комфорте, что было вполне естественно. Ей вполне хватило пяти лет, проведенных в трущобе. В результате осенью 1909 года, вернувшись после летнего отдыха, проведенного в Испании в Хорта де Эбро, Пикассо покинул «Бато-Лавуар», где провел самый трудный и самый плодотворный период своей жизни. Он прожил на Монмартре еще три года, но великая богемная эпоха была уже позади.








