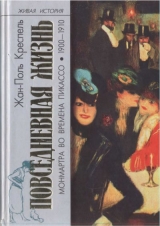
Текст книги "Повседневная жизнь Монмартра во времена Пикассо (1900—1910)"
Автор книги: Жан-Поль Креспель
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Фаланстер на улице Дельта, тесно связанный с судьбой Модильяни, единственный в своем роде, ведь это заведение на полвека предвосхитило создание домов культуры. Прибыв на Монмартр в 1906 году и съехав отсюда на Монпарнас в 1909-м, в течение трех лет Модильяни переносился с квартиры на квартиру, как метеор. Сарайчик в Маки, гостиница «Пуарье», кафе Бускара с меблированными комнатами, столярная мастерская в доме 7 на площади Жана-Батиста Клемана… Порой, оставшись совсем без денег – 200 франков, регулярно высылаемых матерью, сразу уходили на вино и гашиш, – он ночевал в зале ожидания вокзала Сен-Лазар.
Эти скитания длились до того дня, пока доктору Александру, работавшему в лечебнице Ларибуазьер, восхищавшемуся живописью Модильяни и игравшему при нем роль мецената и святого Бернара, не пришла в голову идея создать фаланстер для художников в одном из зданий улицы Дельта, купленном мэрией Парижа и предназначенном на снос. Договорившись с администрацией, он получил разрешение поселить там некоторых художников, пока дом не снесли. С помощью скульптора Друара и художника Дусе он обставил комнаты просто, но со вкусом: старые кресла с Блошиного рынка да красные занавески сделали дом не только пригодным для существования, но даже привлекательным.
Развивая идею доктора Александра, Друар и Дусе приспособили комнаты и салоны первого этажа под галерею, где пансионеры могли постоянно выставлять свои картины. По Парижу рассылались приглашения, и в определенные дни здесь собиралось множество увлеченных артистов и писателей. Поэтические и музыкальные вечера заманивали художников, они были рады хоть как-то скрасить гнетущую нищету своих мастерских.
Известно, что доктор Александр приглашал Модильяни поселиться в фаланстере, но утверждать, что тот там жил, нельзя. Считают, что в течение семи-восьми месяцев он приходил сюда работать, одна из мастерских была отдана в его распоряжение. В те годы он увлекался скульптурой и еще не сделал окончательного выбора между ваянием и живописью. Доктор Александр отсоветовал ему работать с камнем, опасаясь, что пыль повредит его слабым легким. Поэтому Модильяни в основном работал с деревом. Добывая материал для своих фигур, он крал шпалы со строящейся тогда станции Барбес-Рошешуар.
Модильяни, травящий себя алкоголем, а также, пока не было кокаина, эфиром и гашишем, не был удобным соседом для пансионеров с улицы Дельта и в конце концов вынудил их принять крутые меры. Его пьянки и эксцентрические выходки долго терпели, но когда однажды, в момент ожесточенной творческой дискуссии, он начал бить скульптуры и рвать картины, выставленные в галерее, художники решили его выгнать. Впрочем, это еще не самый худший из его «подвигов». В ночь под Рождество 1908 года в салоне, где готовились к торжественному ужину, он поджег праздничные гирлянды.
В этот раз он перешел все границы, и возмущенные и оскорбленные сотоварищи решили наконец выставить хулигана за дверь. Когда на следующее утро Модильяни, протрезвев, вернулся, чтобы принести извинения, его не стали ругать за безумную выходку, но дали понять, что чаша терпения переполнилась. Он ушел и больше на улице Дельта не показывался. Вскоре прислали бригаду для сноса дома, и единственный в своем роде эксперимент, который мог дать интересные результаты, на этом закончился. Каждый считал себя правым. Друар – увы! – был убит на Первой мировой войне, оборвавшей его многообещающее творчество.
Пожив какое-то время на Монпарнасе, Модильяни снова объявился на Монмартре. Уже совершенно без средств к существованию он присоединился к группе бродяг, захвативших заброшенные здания на улице Дуэ. Раньше здесь располагался монастырь, монашенки покинули его, когда произошло отделение церкви от государства. Двери просторных зданий, предназначенных на снос, не закрывались, и, конечно, дома заняли бездомные бродяги Холма. Среди них оказалась труппа танцоров-негров, не нашедших себе дела в Париже. Для Модильяни повторился опыт улицы Дельта, но уже на нищенском уровне. Он пробыл здесь совсем недолго, а уходя, влюбился и увел с собой попавшую в полосу невезения актрисочку. Совсем недолго пожив на улице Элизе де Бозар (улица Андре-Антуана), он окончательно переселился на Монпарнас, где встретил и свою славу, и свою смерть.
Голубая нищетаПриехав в Париж в четвертый раз в конце февраля 1904 года, Пикассо устроился в «Бато-Лавуар». Он уже бывал в этом странном сарае, когда в один из предыдущих приездов заходил к керамисту Пако Дурно.
Пако Дурио, обосновавшийся на Монмартре за несколько лет до того, дружил с Гогеном, и именно он приобщил Пикассо к живописи Гогена. Бесконечно восхищаясь этим художником-отшельником, он хранил некоторые из его картин, в частности портрет матери Гогена. Он охотно комментировал картины своей коллекции, и можно предположить, что именно под влиянием этих встреч Пикассо создал несколько полотен в гогеновской технике «клуазоне», в частности «Девочку с голубем».
Пако, живший в «Бато-Лавуар» с 1901 года, собрался переселиться как раз в момент приезда Пикассо. Он нашел квартиру в тупике Жирадон возле Маки, больше подходившую для керамических работ, и предложил Пикассо занять его мастерскую.
Из всех парижских испанцев Пако Дурио чаще других помогал Пикассо. Надо сказать, что дни, проведенные Пикассо в Париже, который он еще только открывал для себя, вовсе не были окрашены в розовый цвет. В течение нескольких лет над ним словно висело проклятие: его картины практически не продавались с тех пор, как он перестал писать в духе Тулуз-Лотрека и перешел к манере «голубого периода». Отзывы на картины Пикассо, выставленные в галереях Воллара, Берты Вейл и Серюрье, были сплошь негативные; исключение составляли статьи Фелисьена Фагюса и Гюстава Кокьо. Очутившись на самом дне, без денег, страдая от голода и холода, а еще больше – от одиночества, он искал приюта у своих родителей в Барселоне. Поселившись в Париже в третий раз, Пикассо пережил настоящую трагедию: Маньяк, которому не удавалось продать ни одной из работ «голубого периода», навевавших грусть и отчаяние, отказался опекать его. Кто знает, может, и Пикассо, как Касахемас, наложил бы на себя руки, если бы не горячая преданность Макса Жакоба, с которым он познакомился в свой второй приезд. Жакоб вернул ему уверенность в себе. «Мы были как потерянные дети», – вспоминал поэт те дни нищеты, умалчивая, однако, о том, что именно его чувство юмора и пристрастие к розыгрышам отогнали от Пикассо призрак смерти.
Словно наперекор судьбе, и в Париже, и в Барселоне Пикассо все писал и писал свои картины «голубого периода» – по три полотна в день. Никто не хотел их покупать. И коллекционеры, и продавцы устали от этих тягостных сюжетов: измученные, на грани гибели матери, больные дети, источенные голодом арлекины, нищие – мир отчаяния, одиночества, физического и нравственного упадка. В дни третьего посещения Парижа Пикассо предложил Воллару «Мальчика с лошадью», тот хмуро спросил:
– Сколько?
– Я прошу 20 франков.
– Да вы с ума сошли!
– Ну 15 франков.
– Еще чего! Идите прочь!
Аполлинер посоветовал показать картину непосредственно продавцу. Тот мельком взглянул на нее:
– Сколько вы хотите?
– Я прошу за нее 150 франков, – уверенно произнес Пикассо.
– Хорошо, вы их получите.
Несмотря на все неудачи, в феврале 1904 года Пикассо решил остаться в Париже. Возвращаться в Барселону побежденным он больше не хотел. Пикассо не сомневался, что дома его ждет судьба посредственности; лучше уж было голодать в возбуждающем климате Парижа, чем увязнуть в скучном уюте семейного дома. «Я как будто в окно выпрыгнул», – объяснял он позднее.
Первые годы «Бато-Лавуар»В доме «Бато-Лавуар», который Пикассо сделал навсегда знаменитым, он написал последние полотна своего «голубого периода», всю серию сентиментальных и претенциозных полотен «розового периода», окрашенных любовью к Фернанде Оливье, и, наконец, картину, решившую его судьбу, – «Авиньонские девушки», прелюдию кубизма.
И все-таки нельзя сказать, что «Бато-Лавуар» приобрел известность только с приездом Пикассо. Здание, в которое он вошел, уже обладало богатой историей. Но и до сегодняшнего дня в его прошлом остается еще немало белых пятен. Считается, что около 1860 года здесь была фабрика музыкальных инструментов. Жанина Варно в посвященной этому дому книге [15]15
J. Wamod. Le Bateau-Lavoir. Presses de la Connaissance, Paris, 1975.
[Закрыть]указывает, что в 1867 году здесь жил мастер Франсуа-Себастьян Майяр, его инициалы еще долго сохранялись на входной двери. В этом доме родился Поль Ланжевен, отец которого работал у Майяра.
В 1889 году владелец дома нанял архитектора Поля Вассера, который должен был перестроить помещение и сделать в нем десять мастерских. Сдача их в аренду сулила большие доходы в эпоху, когда Монмартр начал привлекать художников. Архитектор не стал утруждать свое воображение и попросту перегородил этажи деревянными стенами, устроив настоящий лабиринт из коридоров и никчемных лестниц.
Это странное здание озадачивало тех, кто входил сюда в первый раз. С фасада дом 13 был одноэтажным. Площадь, названная в честь отца Равиньяна, духовника Наполеона III, позднее стала носить имя Эмиля Годо, создателя уже закрывшегося к тому времени «Черного кота» и клуба Гидропатов. Поскольку дом стоял на склоне, со стороны двора (улица Гарро) у него было еще три нижних этажа. Нетрудно догадаться, сколько недоразумений могло тут возникать.
Все здесь было странным и несуразным. Несколько вентиляционных труб. Одна из них стала причиной гибели художника из Германии. Поднявшись на крышу, чтобы сбросить снег со стеклянного потолка мастерской, он рухнул в эту дыру и сломал позвоночник.
Консьержка, мадам Кудрэй, жила рядом, в третьем корпусе дома 13, в бывшей мастерской Альфонса Карра. Попутно отметим, что на заре века консьержки сыграли определенную роль в развитии искусства. Например, мадам Кудрэй всегда помогала художникам. Макс Жакоб вспоминал: «Вся сгорбленная, выглядевшая то старой, то молодой, бывавшая то неприветливой, то веселой, большая умница, она по-настоящему нас любила».
Для голодных у нее всегда находилась миска наваристого овощного супа. Покровительствуя Пикассо, по утрам она иногда барабанила в его дверь: «Мосье Пикассо, вставайте скорее, покупатель серьезный!» Она заставляла его подняться, одеться и принять раннего покупателя.
О другой консьержке, мадам Саломон, вещает монпарнасская сага. В ее доме 3 по улице Жозеф-Бара жили Паскен, Кислинг, Зборовский и Модильяни. Пожилая, растрепанная бретонка, она когда-то была натурщицей у Бугеро, любившего изображать ню в цветах алтеи. Попозировав в наряде наяды, она превращалась в ведьму и, оседлав свою метлу, быстро наводила порядок. Она отчитывала Кислинга за то, что он слишком шумит в мастерской, гнала Модильяни, если тот бывал слишком пьян, и не раз одалживала сотню франков Зборовскому, чтобы он мог поужинать «У Максима».
Еще одна благодетельница царила в сообществе художников на улице Вожирар – мадам Сегонде. Довольно часто Сутин, Кремень и другие бедные русские евреи только благодаря ее доброте ложились спать не на голодный желудок.
Странная двусмысленность таилась и в самом названии «Бато-Лавуар» (в переводе «Плавучая прачечная»). Пикассо и его друзья называли этот дом не иначе как Дом охотника. Это имя подходило ему больше: сарай, разгороженный деревянными стенками, скорее напоминал охотничью хижину, нежели плавучую прачечную. Теперь уже трудно установить, кто – Макс Жакоб или Андре Сальмон – придумал это странное имя приземистому дому, взгромоздившемуся на самую вершину Холма. В начале века у «Бато-Лавуар» уже была своя биография. С 1892 года здесь жил неоимпрессионист Максим Мофра, создатель серии бретонских пейзажей. Те, кто занимается историей Холма, утверждают, что он принимал там Гогена, которого встретил в Понт-Авене после возвращения из первого путешествия на Таити. Говорят, Гоген даже жил у Мофра.
У Мофра, довольно известного художника, собиралось блестящее общество писателей, художников и даже политических деятелей. На заре своей карьеры на встречах часто присутствовал Аристид Бриан. Общество получалось довольно пестрым, а посещение дома анархистами из группы Альмерейды принесло «Бато-Лавуар» дурную славу, бытовавшую и во времена Пикассо. Когда в 1908 году Андре Сальмон решил переселиться сюда с улицы Сен-Венсан, друзья, помогавшие ему переезжать, предупреждали: «Если уж вы туда переберетесь, остерегайтесь тех, с кем лучше не заводить знакомства. Это относится, например, к компании Пикассо». Милые воспоминания о временах анархистов!
Подобное утверждение следует признать ложным и возникшим по недоброжелательности: на самом деле сообщество «Бато-Лавуар» было довольно мирным. Шоран-Норак, хоть и увлекался фовизмом, не обладал ни зубами, ни клыками; а художники Фавро и Армбюстер были очень даже обходительны. Ван Донген вел трудную жизнь молодого отца семейства, почти без средств, как и Хуан Грис, снявший впоследствии эту же мастерскую. Жак Вайян, последователь академической школы и донжуан, как и Гаварни, любил шутки и розыгрыши, но на них у него почти не оставалось времени, которое поглощала охота на девочек.
Что касается Пикассо, то для него это был период красивой любви к Фернанде Оливье, можно сказать, первой женщине в его жизни. До этого он общался только с проститутками. Он или предавался страсти с неистовством андалузца, или работал. А работал он много, иногда до самого утра.
Если верить Ролану Доржелесу, жил в «Бато-Лавуар» чудак, прикрепивший на своей двери дощечку со словами: «Сорьель, земледелец». Этот пансионер решил переехать сюда, чтобы быть поближе к природе и своим детям. Доржелес, мастер розыгрышей, нарядил его в голубую бретонскую шляпу, дал в руки узловатую дубину и попросил позировать у грядки с овощами на одном из пригородов Холма. Он опубликовал фотографию с подписью, извещавшей, что это последний крестьянин Монмартра. На самом же деле их оставалось еще много, но они не носили ни голубых блуз, ни бретонских шляп.
Самоубийство ВигеляК концу пребывания здесь Пикассо произошла трагедия, укрепившая дурную славу этого дома. В конце 1908-го покончил с собой немецкий художник Вигель: он повесился на балке в своей мастерской. Он не оставил никакой записки, где бы объяснялись причины самоубийства; предположили, что это произошло в момент ломки – он был наркоманом.
Этот чувствительный человек прибыл на Монмартр, исповедуя доктрины декаденства и мюнхенского югендстиля, и оказался совершенно «сбит с толку» художниками-фовистами и предшественниками кубистов. Эти группы отрицали все, чему он поклонялся, так что депрессия, вызванная таким открытием, наверняка стала одной из причин его решения расстаться с жизнью.
По странному совпадению Жак Вайян, занявший его мастерскую, тоже покончил с собой, причем по тем же мотивам, ровно через двадцать пять лет. Этот самоуверенный художник, мечтавший расписать купол Пантеона портретами богов и героев, вернувшись с Первой мировой войны, где он вел себя, говоря трафаретно, как герой, очутился на Монмартре в полном одиночестве. Осознав, что время академической живописи прошло, видя, как революционеры «Бато-Лавуар», над работами которых он смеялся, стали ведущими мастерами современного искусства, Вайян пришел к выводу, что жизнь лишена смысла, а он – лишь статист фольклорного празднества, разыгрываемого на Монмартре. Ранним утром 1934 года из табельного револьвера, привезенного с фронта, он пустил себе пулю в лоб. Как и Вигель, он не счел нужным оставить какие бы то ни было объяснения.
Странные, экстравагантные похороны Вигеля, достойные кисти Ансора, остались в анналах Холма. Потрясенные этой смертью жители «Бато-Лавуар» и другие художники деревни решили пышно похоронить несчастного. Это была своеобразная бурлескная репетиция похорон Модильяни, который умер одиннадцать лет спустя. Помня любовь Вигеля к ярким краскам, художники и их подружки вырядились в самые кричащие цвета и отправились за гробом к кладбищу Сент-Уан. Некоторые даже купили себе у старьевщиков карнавальные костюмы. Только Паскен, шедший впереди вместе с Фреде, был, как обычно, в черном.
Следовавшая за траурным кортежем какая-то пьяная до беспамятства девица, приоткрыв дверцу фиакра, посылала всем воздушные поцелуи. Видя, что мужчины снимают шляпы, а полицейские отдают честь, она вообразила себя королевой Испании, которую приветствует народ.
После похорон все отправились в кабаре «Проворный кролик» и о Вигеле больше не вспоминали. Вместо слов прощания остались лишь воспоминания Фернанды Оливье: «Поведение его было странным, да и внешне он производил какое-то двойственное впечатление».
«Красавица Фернанда» забыла добавить, как потрясенный этой смертью Пикассо решил покинуть «Бато-Лавуар». Будучи суеверным (с годами эта черта усиливалась), он посчитал, что это место проклято, и через какое-то время осуществил свой план, обосновавшись на бульваре Клиши.
После отъезда Пикассо, хоть он и оставил за собой мастерскую в «Бато-Лавуар», где хранил картины, фаланстер продолжал свое существование, уже опираясь на его славу, и дал приют еще многим художникам, ставшим вскоре известными: скульптору и прекрасному гитаристу Ахеро Отто Френдлиху, который был депортирован тридцать пять лет спустя; руанскому экспрессионисту Пьеру Дюмону, поэту и основателю журнала «Норд-Сюд»; Жану-Луи Барро, начинавшему у Дюллена… Жили здесь и Хуан Грис, и Огюст Эрбен, первый – 16 лет, второй – 21 год. Во время пожара 12 мая 1970 года «Бато-Лавуар» буквально за несколько минут превратился в пепел. Чудо, что он не сгорел раньше, ведь его жильцы, вопреки правилам пожарной безопасности, пользовались огромным числом обогревателей и множеством самодельных электроприборов. К моменту пожара здесь еще жили известные художники и разные колоритные личности, возможные только на Монмартре. Например, едва не погибла в огне Жанна де ля Бом, пытавшаяся спасти тридцать кошек и собак, которых она держала в своей мастерской. Это здание без удобств привлекало не только дешевизной комнат, его обитатели испытывали некую ностальгию по прошлому. Живя в его стенах, где до них обитало столько знаменитых людей, они чувствовали себя причастными к их славе и примеряли ее на себя. Среди них – скульптор-анималист Гюйо, художники Арман Лоренсо и Даниэль Мийо, сын композитора.
За несколько месяцев до пожара Андре Мальро заявил о намерении правительства внести «Бато-Лавуар» в список зданий, охраняемых государством, как памятник архитектуры. «Если бы нам это сказали, когда мы там жили!» – воскликнул, узнав об этом, Пикассо.
Трущобы гениевВ течение пяти лет, проведенных Пикассо в «Бато-Лавуар», многие останавливались там совсем ненадолго. Всего несколько месяцев прожили здесь Ван Донген, Сальмон, Мак-Орлан. Для некоторых это была ступенька к успеху, то есть – к более комфортабельной квартире. Переезд не представлял проблемы, хватало одной повозки, чтобы перевезти кровать и еще какие-нибудь пожитки постояльца. Довольно часто жильцы съезжали тайком от бедной мадам Кудрэй, хотя цены у нее были очень скромными. Пикассо платил 15 франков в месяц. Под конец войны, в 1918 году, Хуан Грис платил всего 35 франков.
Надо признать, что даже для самых молодых художников условия жизни на площади Равиньян становились большим испытанием: ни газа, ни электричества, ни водопровода. Единственный кран располагался на втором этаже, и по утрам там выстраивалась очередь желающих наполнить кувшины для умывания. Электричество провели только в 30-е годы. Пикассо освещал помещение огромной керосиновой лампой. Работая ночью, он пользовался свечой, поднося пламя к самой картине, чтобы разглядеть детали.
Перегородки в здании были так тонки, что всем все было слышно. Зимой там замерзали, и в холодные дни, если угольщик не доставлял брикеты для печки, Пикассо и Фернанда не вылезали из-под одеяла. Летом там можно было задохнуться, несмотря на сквозняки. Пикассо работал голый, лишь обернув чресла шейным платком. Дверь мастерской оставалась открытой, так что все могли любоваться его мускулатурой. Обнажался он охотно, потому что ему нравилось выслушивать комплименты из уст восхищенных женщин.
В мастерских практически отсутствовала мебель. Гертруда Стайн, Андре Сальмон, Даниэль-Анри Канвейлер, Ролан Доржелес, Фернанда Оливье – все дают сходные описания мастерской Пикассо, и это заставляет ужаснуться. Квартира, расположенная на втором этаже, то есть на уровне подвала со стороны площади Равиньян, состояла из крошечной прихожей, маленькой комнаты, целиком занятой диваном, которую друзья звали «комнаткой прислуги», и просторной мастерской – серые стены в плесени и с осыпавшейся штукатуркой. «Комнатку прислуги» в 1906 году Пикассо превратил в алтарь любви. На ящике, покрытом красной тканью, он расположил все, что связано с Фернандой: шарф, который был на ней в день первой встречи, искусственную розу темно-красного цвета, ее портрет, написанный им, и две вазы, выигранные ими в лотерею на бульваре Клиши.
Свет в мастерской казался холодным из-за стекол, покрытых голубой краской для того, чтобы лучи солнца падали более равномерно. Стены были абсолютно голыми, если не считать картины, шутя оставленной Пако Дурио с советом ее продать. Позднее, когда у Пикассо стали водиться деньги, к этой картине присоединились маски и барельефы с океанических островов.
Беспорядок царил неописуемый: картины, рамы громоздились у перегородок и даже на постели, из папок вываливались наброски, сделанные гуашью или синей тушью, и лежали на полу, среди окурков и раздавленных тюбиков краски. В тазу грудой громоздились рисунки и журналы. Из мебели – только колченогий стул, к которому была привязана Фрика, помесь сторожевой овчарки и бретонского спаниеля. Круглый столик черного дерева на одной ножке в стиле Наполеона III служил и обеденным, и туалетным. В одном из ящиков стола Пикассо поместил белую мышку, ее отвратительный запах перебивал даже запах псины и скипидара. Пикассо, обожавший животных, в разное время держал здесь трех сиамских котов, черепаху и мартышку.
Рядом с диваном, покрытым куском репсовой ткани гранатового цвета, находился маленький испанский сундучок, служивший стулом, и проржавевшая печь, вокруг которой всегда лежали кучки остывшей золы. Среди этой мебели, доставшейся Пикассо от его друга Гаргалло, стояли мольберты и бесчисленные консервные банки с отмокающими в них кистями… «Вид ужасный!» – полвека спустя восклицал Даниэль-Анри Канвейлер.
Но у Пикассо было не хуже, чем у других. Мак-Орлан, проведший в «Бато-Лавуар» одну зиму, не имел ни мебели, ни посуды – ничего! Взяв из редакции кипы нераспроданных газет, он соорудил из них кровать. Такие же пачки служили ему столом и стульями. Это, конечно, крайности, но в мастерской, например, Хуана Гриса тоже почти не было мебели. Со злой иронией Пикассо говаривал, мол, у Гриса развелась единственная порода клопов, способных питаться железом. Грис, абсолютно равнодушный к комфорту, довел свою мастерскую до невообразимого упадка. Невозможно представить себе, как он мог жить здесь в течение шестнадцати лет с женой и ребенком. Не имея средств на покупку прогулочной коляски, малышу давали подышать воздухом, соорудив из пеленки гамак и подвесив его у раскрытого окна.
Когда в конце 1920 года у Гриса начался плеврит, над его кроватью пришлось натянуть простыню, чтобы во время дождя на него не капала вода.
До Гриса в этой мастерской жил Ван Донген, вход к нему был слева от парадной двери. Поэтому к нему всегда обращались за справками и даже прозвали его в шутку «консьерж „Бато-Лавуар“». В этой узкой комнате он тоже жил с женой и ребенком. Мольберт вдвинут между окном и колыбелью; на столе – удивительная роскошь! – швейная машинка, а на единственный диван ложились натурщицы. Жизнь не баловала этого высокого мужчину с рыжей бородой, и даже добившись успеха, он долго продолжал рисовать для журнала «Асьет де Бер», чтобы получать 100 франков в месяц и кормить семью. В самые мрачные дни ему приходилось торговать на улицах газетами и выполнять роль швейцара, открывая у ресторана дверцы фиакров. Растить в этих условиях ребенка становилось неразрешимой проблемой. Пикассо и Макс Жакоб вспоминают, как они сбрасывались вскладчину, чтобы мама могла купить тальк для малышки Долли…
Нетрудно понять, почему голландец прожил в «Бато-Лавуар» всего несколько месяцев зимы 1906/07 года. Получив небольшую сумму по контракту с Волларом, он сразу снял для жены и ребенка удобную квартиру на улице Ламарк, а себе, чтобы спокойно работать, мастерскую поблизости, в переулке Солнье за Фоли-Бержер. У него была легкая рука, и он легко уговаривал девушек из мюзик-холла позировать ему бесплатно. Для него «Бато-Лавуар» служил лишь ступенькой к более светлым дням. И в отличие от Пикассо он никогда не сожалел, что покинул это место.
Можно считать чудом, что «Бато-Лавуар», при полном отсутствии комфорта и крайней бедности, стал колыбелью самых значительных художественных течений нашего времени, отголоски которых слышатся еще и сегодня. Это оказалось возможным благодаря редкостному соединению гениальности и динамизма увлеченной молодежи, верившей в свои силы.
Пикассо появился здесь в 1904 году, будучи непризнанным художником, а покинул «Бато-Лавуар» в 1909-м, окрепнув и физически и нравственно. Он был уже знаменит в кругах авангарда и почти богат; а с ним – роскошная женщина Фернанда Оливье, которая навсегда останется «Красавицей Фернандой», запечатленной для потомков своим любовником, а также Ван Донгеном, который писал с нее типичных для своих полотен женщин – с горящими черными глазами и чувственным ртом, ставших своеобразной «маркой» его творчества.
Хуан Грис, едва приехав в Париж, направился прямо к Пикассо, величая его «Мэтром». Потом из Мадрида явился Эухенио д’Орс, передавая ему поклон от молодых испанских художников и пророчествуя, что «когда-нибудь вы войдете в Прадо». В 1909 году Пикассо исполнилось 28 лет, многолетняя карьера «священного чудовища» началась.








