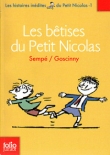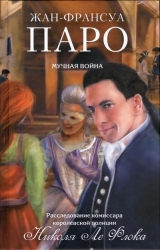
Текст книги "Мучная война"
Автор книги: Жан-Франсуа Паро
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
Умолкнув, король в задумчивости уставился на Николя. Неловко наклонившись, словно высокий рост мешал ему, он взял письмо, прочел его и подписал. Опираясь кулаками о стол, он приблизил свое лицо к лицу Николя и со слезами на глазах произнес:
– Совесть наша чиста, и в этом наша сила. Ах, если бы я был столь же красив, как мой братец граф Прованский, и обладал бы таким же красноречием! Я бы обратился к народу, и все было бы прекрасно! Но я начинаю мямлить, и это все портит.
Николя ощутил, как у него сжалось сердце. Внезапно он отдал себе отчет, что в глазах короля он принадлежал к старшему поколению, к тем, кто служил его деду в то время, когда он был еще ребенком. Закивав головой, словно разгоряченная лошадь, сверху вниз, он с трудом подавил охватившее его волнение. Чтобы выразить всю свою преданность, ему ужасно захотелось сделать что-нибудь необыкновенное. Но он не мог себе этого позволить. Его внутренняя борьба не ускользнула от короля; Людовик улыбнулся, и между ними возникло молчаливое согласие, о котором он никогда не забудет. Выпрямившись, король негромко сказал, чтобы он докладывал лично ему, и никому другому, обо всех беспорядках, происходящих за пределами Версаля.
Выйдя из дворца, Николя пешком отправился в особняк д’Арране. Там его ждал взволнованный Триборт. По его старческому, изборожденному шрамами лицу то и дело пробегала судорога.
– Мадемуазель вернулась из путешествия…
Наконец-то хорошая новость, с облегчением вздохнул Николя; глядя на лицо дворецкого, он успел подумать, что его настигла очередная неприятность.
– …и тотчас уехала.
– Как уехала?
Триборт застенчиво переминался с ноги на ногу.
– Как бы вам сказать… Уехала! Узнав о вашем прибытии, она приказала поворачивать. Короче говоря, кучер стегнул коней, ну и вот!
Видимо, на лице Николя отразилось столь великое изумление, что Триборт дерзнул пуститься в объяснения.
– Не берите в голову, я совершенно уверен, что когда они вот так убегают, то это потому, что очень уж им хочется остаться.
Пожав старику руку, Николя заскочил к себе в комнату, переоделся; затем отправился на конюшню и, вскочив на лошадь, галопом помчался в Париж. Всю дорогу он старался убедить себя, что слепа не любовь, а самолюбие. И пытался сосредоточиться на поручении, доверенном ему королем. Письмо, адресованное Тюрго, свидетельствовало о чистосердечии его величества и его доброжелательности. Тем не менее он задавался вопросом, не слишком ли суверен нарушил субординацию в отношениях с генеральным контролером, ибо подобные нарушения свидетельствовали об излишней наивности, что не могло не беспокоить. Однако хладнокровие, проявленное им при встрече с опасностью, подтверждало, что король, перестав быть робким и застенчивым подростком, не намеревался ни следовать чьим-либо влияниям, ни позволить поработить себя. Это умозаключение приободрило его. Каждому уготованы свои испытания: королям, влюбленным, отцам семейства, ибо все они всего лишь марионетки в руках провидения, дергающего за ниточки, пробуждая в них страсти и желания. На подъезде к столице царило спокойствие, однако он не обольщался: как только слух о версальских событиях дойдет до Парижа, волнения вспыхнут с новой силой, ибо заинтересованные люди, без сомнения, представят эти события в искаженном виде. Аферисты не преминут преувеличить опасность создавшегося положения.
К генеральному контролеру, чье ведомство находилось на улице Нев-де-Пти-Шан, он прибыл после полудня. Его тотчас проводили в кабинет премьер-министра; они не раз видели друг друга при дворе; сейчас министр писал; его правая нога, окутанная повязкой, покоилась на покрытой ковром квадратной подушке. Подняв голову, Тюрго с не слишком любезным видом уставился на посетителя. Министр отличался полнотой, его красивую голову украшали густые, завитые крупными кольцами волосы, глаза были голубые, левый чуть меньше правого. Приятное лицо выглядело напряженным, скорее всего, из-за нравственных терзаний. Представившись, Николя передал записку короля. Во время чтения на бледном от природы лице генерального контролера отражалась вся гамма обуревавших его чувств. Когда же он приступил к повторному, более внимательному, прочтению, щеки его пошли пурпурными пятнами. Он поднял свой кроткий и отстраненный взор на Николя, и тот немедленно задался вопросом, не был ли министр столь же близорук, как король.
– Сударь, кто поручил вам поехать в Версаль? Вы ведь из приближенных Сартина, не так ли?
Тон был испытующим и оскорбительным.
– Сударь, я ездил в Версаль передать посылку от императрицы Марии Терезии нашей государыне и принять участие в королевской охоте. Случаю было угодно, чтобы сегодня утром я очутился в самой гуще мятежников; став свидетелем известных событий, я отправился доложить о них его величеству. Я служу нынешнему королю так же, как служил прежнему королю, моему покойному повелителю.
Подобное заявление не смягчило Тюрго, и он надменным тоном продолжил его расспрашивать, а исчерпав вопросы, без всяких церемоний выпроводил его.
Улица Нев-де-Капюсин находилась совсем рядом, и он решил отправиться к Ленуару с отчетом о событиях сегодняшнего утра. Начальника полиции обуревали мрачные предчувствия. Едва увидев Николя, он принялся с возмущением жаловаться на распространившийся слух, что полиция якобы приказала продать все имевшиеся запасы зерна для скорейшего возмещения ущерба булочникам. Слух о волнениях в Версале, неизбежное следствие так называемого обещания короля вернуть прежнюю цену на хлеб – два су за фунт, – распространился со скоростью огня по пороховой дорожке. Ленуар уже знал, что Николя принимал король и Тюрго, равно как и о расследовании, начатом на улице Монмартр; по его словам, последствия волнений могут оказаться весьма плачевны.
– Предчувствую наступление тяжелых дней, – произнес Ленуар. – Нас заставляют принимать решения, не думая о последствиях. Необдуманные, неподготовленные реформы превращаются в злоупотребления, а те, кто жестко их проводит, слывут разрушителями, хотя намеревались стяжать славу созидателей. Но… коготок попался – всей птичке увязнуть. Франция – это давным-давно запущенный механизм, настолько дряхлый, что развалится при первом же ударе! На всякий случай я отдал приказ охранять завтрашний зерновой рынок. Постараемся, чтобы версальские беспорядки не повторились в Париже. На подмогу городской охране я вызвал драгунов и мушкетеров, но велел ни под каким видом не открывать огонь, даже если чернь начнет оскорблять их и швырять камни. Как вы нашли его величество?
– Встревоженным и безмятежным одновременно; он полностью полагается на первого министра.
– В этом-то и весь вопрос! Господин де Сартин считает, что надобно пробудить в короле интерес к делам. Увы! К сожалению, единственной областью, где самому господину де Сартину нет необходимости подстегивать свои мыслительные способности, является коллекционирование сплетен, пересудов и клеветы, собранной в злачных местах. Он слишком увлекается чтением чужих писем, которые господин д’Уани приносит ему из черного кабинета. Действительно, нет ничего проще, чем просеивать сведения, а потом придумывать интриги, пятная грязью всех вокруг. Из-за перлюстрации почтовых отправлений письмам нельзя доверять ни тайн, ни секретов, даже самых безобидных. Печально, мой дорогой Николя, что наш юный монарх, подобно покойному королю, думает обо всех дурно: от этого он становится излишне подозрительным и мрачным.
Крайне взволнованный размышлениями своего начальника, Николя расстался с Ленуаром. Чреватое риском смятение начальника полиции могло иметь непредсказуемые последствия. Возможно, Ленуар также считал, что в борьбе с Тюрго и его реформами хороши все средства, в том числе и провокации. Уже в кабинете у Сартина он заподозрил двойственное отношение вышестоящих лиц к происходящим беспорядкам. Разница заключалась в том, что разглагольствования Сартина отличались циничной иронией, а слова Ленуара звучали неуверенно, а порой даже жалко. Честолюбивый, обладавший большими связями, министр морского флота был достаточно ловок, чтобы казаться честным человеком, но он никогда не был настолько глуп, чтобы являться таковым на самом деле. Сартин часто упрекал Николя за прямоту. Слава Богу, кажется, он все же сумел сохранить ее! И хотя за пятнадцать лет работы в полиции он утратил остатки иллюзий о порядочности сильных мира сего, преданность своему бывшему начальнику он сохранил. Зная о неприятных сторонах его характера, он делал все, чтобы не позволять себя обманывать. Не исключено, что Ленуара, оказавшегося честным человеком, подхватил ураган, справиться с которым у него не нашлось сил; в отличие от вышестоящих лиц он, похоже, являлся противником чрезвычайных мер.
Отведя лошадь в конюшню полицейского управления, Николя взял фиакр и поехал в Шатле. Там уже собрались Бурдо, Семакгюс и палач Сансон, оживленно спорившие, начинать ли вскрытие тела мэтра Мурю или подождать Николя. Появление комиссара положило конец дискуссии. У подножия большой лестницы толпились люди, жаждавшие попасть в мертвецкую, дабы вволю поглазеть на снесенные туда со всего города трупы.
– Объект сегодняшнего любопытства, – сказал Семакгюс, – выловленное в Сене тело красивой девушки.
– Увы, в этом нет ничего необычного, – отозвался Николя. – Здесь каждый день выставляются для опознания останки утопленников.
– Согласен. Но сегодня народ привлекает не столько само тело, сколько чудо, с помощью которого его сумели обнаружить. Семья, подозревавшая, что дочь их утонула, спустила на речные волны деревянную чашу с зажженной свечой и кусочком хлеба, освященного в часовне Святого Николая Толентинского в монастыре августинцев. Старинное поверье гласит, что чаша останавливается там, где находится тело; в нашем случае она остановилась напротив садов Инфанты в Лувре.
– М-да, а я думал, что эти суеверия давно забыты, – проговорил Бурдо. – Уж очень они опасны. В 1718 году какая-то старуха в поисках тела сына чуть не подожгла город. От свечи загорелась спускавшаяся вниз по течению баржа с мукой, а от нее занялись дома на Пти-Пон; сгорел целый квартал.
Не переставая разговаривать, они спустились в подвал, где обычно производили вскрытия, именуемые Сартином «похоронным промыслом». К великому удовольствию Сансона, Николя расспросил его о госпоже Сансон и детях; внимание комиссара всегда умиляло палача. Семакгюс и Сансон разложили инструменты. Вопреки своим привычкам, Бурдо не стал раскуривать трубку, а вытащил привезенную Николя из Вены табакерку и, прежде чем взять понюшку самому, предложил Николя. Последовала долгая и звонкая череда чиханий. Анатомы подошли к трупу, а Николя достал маленькую черную записную книжку.
– Итак, дорогой собрат, – церемонно проговорил Сансон, – поверхностный осмотр не выявляет никаких подозрительных следов или повреждений.
– Позвольте мне не во всем согласиться с вашим высказыванием, – ответил Семакгюс, – ибо на ладони правой руки я вижу небольшую царапину в окружении некротических тканей.
Наклонившись, Сансон приступил к дальнейшему осмотру.
– Незалеченная царапина, припухлость, откуда вылилось немного экссудата. Я бы сказал, что тело начало разлагаться; что ж, холода закончились…
– Не смею сомневаться в вашей правоте.
С помощью металлического инструмента анатомы исследовали рот.
– Совершенно очевидно, удушье от погружения в тесто не является причиной смерти, – вымолвил корабельный хирург. – Хотя…
– Что «хотя»? – спросил Николя.
– Полагаю, – проговорил Сансон, – доктор хотел сказать, что смерть наступила не от удушья, однако все сделано так, чтобы именно это и подумали.
Замечание удивило Николя. Вскрытие, процедура, свидетелем которой он становился уже не раз, всегда вызывала у него нервное потрясение; признавая ее необходимость, он болезненно переносил скрежет инструментов, рассекающих плоть, треск костей и чавкающие звуки переворачиваемого тела, протестующего против столь варварского обращения. К сожалению, без этих неуклюжих попыток разгадать тайны трупа многие преступники остались бы безнаказанными.
Закрыв глаза, он принялся вспоминать мелодию, некогда услышанную им от старого учителя коллегиала в Геранде, наигрывавшего ее на свирели. Потом он узнал, что это был мотет, обычно исполняемый на органе в сопровождении бретонской свирели. Негромкий разговор Семакгюса и Сансона вернул его к делам сегодняшним. Придав телу привычное положение, анатомы обмыли руки в тазу, принесенном подручным палача, и молча повернулись к обоим полицейским.
– Господа, – произнес Николя, – мы слушаем ваши выводы.
Сансон с бессильным вздохом воздел руки к небу.
– Честно говоря, нам кажется почти невозможным определить причины смерти и, как следствие, утверждать, идет ли речь об убийстве или же мы имеем дело с естественной смертью.
Семакгюс поддержал его молчаливым кивком.
– Я вас понимаю, – сказал Николя, – однако, зная вашу привычку к точным определениям, отмечу, что вы употребили выражение «почти невозможным». Разумеется, между «невозможным» и «почти невозможным» расстояние крайне незначительное, и правосудие вряд ли сможет удовлетвориться такой малостью. И все же я спрашиваю вас: что кроется за этим «почти»?
Сансон обернулся к невозмутимо взиравшему на него Семакгюсу.
– Есть основания полагать, – неуверенно начал он, – что мы обнаружили внутренние повреждения, появляющиеся в тех случаях, когда причиной прекращения жизнедеятельности организма становится сильное потрясение.
– Прекращение жизнедеятельности? – насмешливо переспросил Бурдо.
– Феномен прекращения жизнедеятельности по неизвестной причине или, скорее, по ряду неизвестных причин. Все подталкивает нас к тому, чтобы рассматривать отмеченные явления как противоречивые, однако сыгравшие решающую роль в processus mortis. [29]29
Наступление смерти (лат.).
[Закрыть]Сердце и сосуды никуда не годятся, а легкие являют картину остановки дыхания в результате асфиксии, или прекращения работы сердечной мышцы, или обоих нарушений сразу!
– Значит, вы подтверждаете, что тесто тут ни при чем?
– Нет, совершенно ни при чем, – ответил, прервав, наконец, молчание, Семакгюс. – Он упал в чан, или его туда столкнули. Я подтверждаю выводы, сделанные нашим другом. Тут есть какая-то загадка.
Торопясь вернуться к семье, Сансон, передав друзьям приглашение на ужин, откланялся. Семакгюс, все еще пребывавший в задумчивости, знаком попросил Николя и Бурдо задержаться. Прислушиваясь к шагам на лестнице, он подождал, пока палач покинул подвал. Его поведение удивило обоих полицейских.
– Не смотрите на меня такими удивленными глазами. Я прекрасно отношусь к Сансону и ценю его дружбу. Поэтому мне не хотелось лишний раз подчеркивать поверхностный характер его познаний; не приведя ни к чему, это бы лишь вызвало у него раздражение. У него есть все качества, необходимые практику, но его познания в медицине ограниченны. У меня перед ним преимущество в двадцать лет хождения по морям и океанам обоих полушарий в качестве корабельного врача, и мне есть чем подкрепить свое мнение.
– Так вот, господа, – внушительным тоном продолжил Семакгюс, – ранка на руке сначала не привлекла моего внимания, я вспомнил о ней только после вскрытия, так как при виде внутренностей мне показалось, что однажды я уже встречался с подобными симптомами.
– Ваши слова полны загадок. Какое они имеет отношение к господину Мурю?
– Пока не знаю; однако уверен, что изменение состояния внутренних органов указывает на отравление очень сильным ядом. Вспомним о странной царапине. Я не хотел опровергать Сансона в вашем присутствии, но эта некрозирующая ранка не оставляет меня в покое.
– И о чем, же, по-вашему, идет речь?
– Пока ум мой блуждает в потемках.
– Ваше замечание о царапине на ладони заинтриговало меня, – произнес Бурдо. – Неужели вы полагаете, что яд в организм Мурю ввели через руку?
– Возможны еще более неожиданные способы. Во времена Борджиа во Флоренции существовали перчатки со скрытыми шипами; уколов палец, они вводили в него яд. Мне кажется, что сейчас мы имеем дело с чем-то подобным.
– У меня даже мороз по коже, – поежился Бурдо.
– А можно ли определить яд? – спросил Николя.
– И полностью ли вы в этом уверены?
– Готов отдать палачу руку на отсечение. Странный цвет крови в совокупности с другими феноменами внутреннего разложения красноречиво свидетельствуют именно об отравлении; у меня больше нет сомнений.
– А как это можно доказать?
– Надо найти убийцу и посмотреть, чем он воспользовался.
– Иными словами, – проговорил Бурдо, – надо схватить змею за хвост! Однако будет весьма затруднительно убедить в этом судью по уголовным делам. Господин Тестар дю Ли артачится из-за любого пустяка, а уж про яд Борджиа и говорить нечего!
Бросив на инспектора странный взор, Семакгюс что-то пробормотал, но быстро закусил губу.
– Давайте сохраним наше открытие в секрете. Рассмотрим отравление неизвестным ядом как исходную гипотезу. Господин Тестар дю Ли не станет расспрашивать подробности. Что касается нашего друга Сансона, то по дороге на улицу Пуассоньер я шепну ему, что кое-какие мелкие детали окончательно убедили нас в том, что это убийство.
Все согласились с Николя, однако Семакгюс продолжал еще о чем-то размышлять. Выходя из мертвецкой, Николя спросил Бурдо:
– Все говорят, что супруги Мурю не ладили между собой. Жену булочника недолюбливали; подмастерья осуждают ее за надменность. Муж, как я слышал, вел себя безжалостно по отношению к беднякам, с должников драл три шкуры, а когда речь заходила о прибыли, озверевал окончательно. Соседи считали его рогоносцем. Предполагают, что булочница водила шуры-муры с учеником, смазливым прощелыгой, сорившим деньгами во всех злачных местах Парижа.
– А что наши двое подмастерьев?
– О них отзываются по-разному, одни их защищают, другие поносят. Они всегда вместе, вот люди и судачат об их нравах. Тем более что старший всегда оберегает младшего. В общем, они рискуют попасть на костер; везде есть охотники нацарапать донос.
– Среди посетителей садов Тюильри немало тех, кто предпочитает греческую любовь, – возмущенно начал Семакгюс, – но я не уверен, что ко всем Ленуар относится столь неблагосклонно. Впрочем, обвинить несчастных детей, попавших в жернова большого города, гораздо проще, ибо если с нуждой они еще кое-как борются, то правосудию явно противостоять не смогут. Таких легко отправить на костер. В 1720-е годы одного подмастерья, действительно, сожгли.
– …из-за пристрастий, которые с милой улыбкой терпят при дворе, где бардашей можно встретить в каждом коридоре! – возмущенно подхватил Бурдо. – Увы, к несчастью, репутация обоих учеников булочника, действительно, вызывает подозрения. Возможно даже, хозяин грозился вышвырнуть их на улицу…
– Третий ученик насмехался над ними. Кстати, какого черта он не объявляется? Где его искать?
– Ума не приложу. Я оповестил всех наших осведомителей. Что касается записки, найденной у Мурю, то, как заверил меня Рабуин, речь идет о Гурдан, по прозвищу Графиня. Это своего рода суперинтендантша удовольствий, недавно она приобрела новый дом на улице Де-Пон-Сен-Совер.
– В ее прежнем заведении на улице Сент-Анн, – игривым тоном подхватил Семакгюс, – вы могли вкусить самых изысканных наслаждений. К сожалению, надо признать, иногда ее клиенты получали пинки Венеры.
– Не стоит ворошить неприятные воспоминания, – насмешливо произнес Николя.
– О чем вы говорите, сударь. У меня дома есть все, чего только можно пожелать, и хотя моя нынешняя кухня без перца, зато с огоньком, следовательно, я чувствую себя прекрасно.
– Мне кажется, Николя, – начал Бурдо, – что, прежде чем встречаться с Графиней, неплохо бы нанести визит нашей давней знакомице Полетте. Она знает этот мир и все его секреты.
– Поход к ней не доставит мне удовольствия. Может, вы к ней сходите?
От их последней встречи у него осталось крайне неприятное воспоминание. Из-за отъезда Сатин в Лондон ему пришлось выслушать немало едких упреков, разбередивших в нем чувства, близкие к угрызениям совести, о чем он до сих пор не мог забыть.
– Убежден, – бесстрастно продолжал Бурдо, – для вас она охотно запоет, ведь вы знакомы столько лет! По-моему, от вас она ничего не скроет.
– Хорошо, я пойду. Делать нечего. Учитывая возраст, наша давняя подруга вряд ли захочет встречаться с нами по доброй воле, а значит, будет либо изливать желчь, либо липко сюсюкать. Но, надеюсь, она предложит мне своего ликера! У нее он всегда превосходный! А госпожа Мурю?
– По-прежнему под домашним арестом.
– Надо внушить ей, что придется сидеть в четырех стенах до тех пор, пока она не будет с нами откровенна. А ученика надобно отыскать, сообщите об этом всем, кому следует. Во что бы то ни стало найдите его. Господа, уже поздно…
К великому удивлению комиссара, Бурдо и Семакгюс заговорщически переглянулись.
– Надо признаться, дорогой Николя, мы составили заговор, – произнес Семакгюс.
– Нам хотелось немного отвлечь вас от одолевающих вас забот.
– Господин де Лаборд, чье пристрастие к музыке и изящным искусствам вам хорошо известно, предложил нам билеты…
– Я не слишком доверяю нашему другу в том, что касается театра. Куда вы хотите меня вести? В заведение Гурдан?
– Пьер, – промолвил Семакгюс, – не кажется ли вам, что со временем характер нашего друга начал портиться? Он во всем видит только подвох. Разве можно сомневаться в благих намерениях таких друзей, как мы? Какое оскорбление! Идемте, дорогой, предоставим ему самому справляться со своей черной меланхолией.
И он с нарочито серьезным видом взял Бурдо под руку.
– Полно, господа, успокойтесь, я весь внимание. Я просто не могу упустить возможность посмеяться над заговорщиками.
– Благодарим покорно, – ответил Бурдо. – Теперь это называется «посмеяться». Меня, отца семейства и образцового супруга, записали в распутники!
– А что тогда говорить обо мне, – подхватил Семакгюс, – об отшельнике из Вожирара, полностью посвятившего себя ботанике и облегчению страданий наших ближних? Я так возмущен, что вряд ли мне еще раз захочется перекинуться словом с этим желчным насмешливым магистратом.
– Довольно! Я слагаю оружие к стопам дружбы.
– Вот наконец разумная речь. Тогда слушайте. Сегодня вечером мы приглашены в Оперу на премьеру «Серфаль и Прокрис» Гретри, на либретто господина Мармонтеля. В свое время спектакль был показан в Версале на свадьбе графа д’Артуа с Марией Терезией Савойской.
– О, Гийом заговорил языком Меркурия! [30]30
Речь идет о газете «Меркюр де Франс» («Mercure de France»).
[Закрыть]– заметил Николя.
– Однако этот малый снова нас подкалывает! Ладно, Серфаль, Прокрис и Лаборд, двор и город ждут нас!
При этих словах у Николя промелькнула мысль, что в доме уже начался пожар, а двор и город по-прежнему бегут в Оперу, не думая о том, что будет завтра. В дежурной части, где Николя хранил дополнительный комплект одежды, все кое-как привели себя в порядок и, втиснувшись в фиакр, пойманный Николя, отправились на улицу Сент-Оноре. Николя так и не решился спросить Бурдо, нет ли новостей о Луи, полагая, что, если бы таковые были, он бы без промедления рассказал ему. Следовало также как-то затронуть еще одну деликатную тему.
– Пьер, у нас появилась возможность воспользоваться бесценной помощью, – произнес он робко, не зная, куда может завести его этот разговор.
– О какой помощи вы говорите?
– О помощи шевалье де Ластира; Сартин хочет, чтобы он вместе с нами занимался этим делом, а также помогал нам наблюдать за развитием событий.
Ответ был сравним с залпом картечью.
– Ну и куда сует нос наш морской министр? Разве мы помогаем ему вертеть ворот лебедки и опустошать гальюн на его кораблях?
– О! – совсем не к месту примирительно воскликнул Семакгюс. – Ластир – самый веселый спутник на свете, вдобавок у него есть еще одно большое достоинство: он сохранил нам Николя. Не будь его, мы бы сейчас оплакивали нашего друга.
– Ну, по этой части Пьер давно и далеко обогнал шевалье.
Несмотря на последнюю фразу, призванную успокоить собственнический эгоизм инспектора, зло свершилось: Бурдо молча кусал губы. Уговоры могли лишь усилить его возмущение. На протяжении оставшегося пути Семакгюс, не понимая, отчего настроение друга столь стремительно испортилось, постоянно отпускал жизнерадостные реплики. Чтобы войти в здание Оперы, как обычно, пришлось пробираться сквозь шумную толпу, кишевшую при входе. Все оставалось по-прежнему: лакеи суетились, бросаясь открывать дверцы карет, размахивали факелами, забрызгивая всех каплями стекавшего с них воска. Быстро взбежав по лестнице, они наконец почувствовали себя в безопасности. В углу фойе Николя поджидал сюрприз. Опираясь на руку Лаборда, в роскошном парике времен Регентства, при виде которого побледнел бы от зависти сам Сартин, в богато расшитом серебром фраке цвета сухих листьев и галстуке из валансьенских блондов, друзьям улыбался господин де Ноблекур. Тотчас посыпались восхищенные возгласы и поздравления.
– Вот Юпитер под руку с Меркурием! – воскликнул Семакгюс.
– Разве у моих башмаков выросли крылья?
– Разве я когда-нибудь метал молнии? Неужели за мной такое водится?
Тон благородных отцов, какими их представляют на сцене театра Бургундского отеля, почтенный магистрат передавал превосходно. Какой-то человек в черном бросился к Лаборду.
– Мой дорогой собрат, какая честь видеть вас сегодня в этом зале! Я был уверен, что хотя бы один знаток услышит меня и поймет мой замысел!
– Не верьте ему, Гретри! – произнес Ноблекур. – Он всегда поддерживал Глюка!
Улыбка тотчас сползла с лица композитора. Он собрался ответить, как вдруг рядом возникло разъяренное чудище в женском платье.
– А, вы здесь, чудовище без сердца и души, – уперев руки в бедра, заголосила мегера.
– Что это значит, мадемуазель? Немедленно вернитесь к себе в оркестровую яму!
– А вот и нет! Вы мне смешны! Знайте, сударь, у вас в оркестре зреет мятеж!
– Какой мятеж, мадемуазель, в оркестре Королевской академии музыки? Что это значит? Мы все на службе у короля и должны служить ему в меру наших сил.
– Я тоже хочу ему служить, сударь, но ваш оркестр сбивает меня с толку и мешает мне петь!
– Однако ритм полностью выдержан.
– Вы в этом уверены? Зарубите себе на носу, что ваша музыка – всего лишь смиренная служанка актрисы, исполняющей речитатив. За мной, сударь, и…
– Когда вы исполняете речитатив, я слежу за вами, мадемуазель, но когда вы исполняете арию, вам надлежит следить за мной… Так что умолкните и исчезните! – и он топнул ногой.
Раскрасневшаяся актриса удалилась, громко шелестя юбками, а композитор, вытащив из кармана большой платок, утер потное лицо.
– Она огорчает меня, убивает, вытягивает из меня все соки. Подумайте только, что за трещотка!
Ложа Лаборда располагалась рядом с ложей королевы. Перегнувшись через барьер, Николя привычным взором окинул зрительный зал. Морепа сидел вместе с супругой, чей картавый выговор был слышен во всех концах зала. В ярко освещенной ложе величественно восседал принц де Конти. Лаборд проследил за взглядом друга.
– Принц, как всегда, при деле: изображает из себя арбитра. К сожалению, его мнение очень важно для актеров, ибо оно является решающим. Слово, слетевшее с его уст, может как возвысить, так и бесповоротно погубить спектакль.
– Сегодня риска никакого, Гретри и Мармонтель – это та упряжка, что борозды не испортит.
– Не скажите. Эта опера напоминает о старой ссоре. Гретри следует традиции Рамо: увертюра, речитатив, балетный дивертисмент и балет в антрактах.
Обернувшись к Ноблекуру, он улыбнулся, увидев, с каким интересом почтенный магистрат лорнирует зал.
– Полагаю, сегодняшний спектакль понравится нашему другу, цепляющемуся за старую оперу не меньше, чем за старую кухню!
– Не собираюсь отвечать на ваши насмешки… Если пьеса провалится, Мармонтель расстанется с Гретри. Помните, что он нам сказал до прихода Николя, когда мы в первый раз встретились с композитором: «Меня попросили протянуть руку молодому человеку, который от отчаяния готов утопиться, если я не спасу его!» Но дважды он ему руку не протянет.
Спектакль шел ровно: публика не ликовала, но и не гневалась, наблюдая перипетии весьма условного сюжета. Серфаль, супруг Прокрис, питает страсть к Авроре, убедившей его прогнать жену. Диана примиряет супругов, однако муж во время охоты случайно убивает жену. Внимательный хозяин, Лаборд все предусмотрел: в перерыве им принесли заливное из дичи, шампанское, миндальное печенье и засахаренный миндаль. Семакгюс с трудом умерил пыл Ноблекура, полными горстями метавшего в рот угнетающие желудок обжаренные сладости.
Опера завершилась под вежливые аплодисменты публики. Но на выходе языки развязались. Чувствуя себя неудовлетворенными, большинство любителей утверждали, что худшая из комических опер автора, поставленных в театре Итальянской комедии, гораздо лучше сегодняшнего лирического опуса. Наиболее снисходительные хвалили балет, оказавшийся самой приятной частью представления. С блуждающим взором Гретри переходил от одной группы к другой и всюду твердил, что Глюк его задушил. Лаборд обратил внимание Николя на высокую красивую женщину, Софи Арну, исполнившую главную партию в «Ифигении в Авлиде». Она поссорилась с Глюком, и теперь ее намеревались заменить на Розали Левассер, дурнушку, однако опытную интриганку, любовницу австрийского посланника Мерси-Аржанто, усердно помогавшего ей делать карьеру.
Приветствуя принца Конти, певица неожиданно возвысила голос и изрекла:
– Музыка этой оперы, хотя и написана бельгийцем, гораздо более французская, чем либретто!