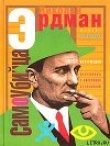Текст книги "Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности"
Автор книги: Жан-Филипп Жаккар
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Так же можно проанализировать следующие выражения:
– «новичок»:слово годится скорее для писателя, чем для убийцы, но все же относится к двум выявленным нами планам значения: первое преступление = первый роман (то, что он гениален, – его убеждение; может быть, это и правда, но главное для нас то, что это слово в его сознании связано и с преступлением, и с написанным романом);
– то же можно сказать о слове «слава»:напомним последнюю сцену, в которой изображена толпа (зевак, стало быть, – читателей), собравшаяся под окном гостиницы, где Герман ждет ареста;
– такое же переплетение планов звучит в словах: «чтобы скорее мое произведение…было оцененолюдьми», – как известно, «произведение» будет оценено отрицательно и полицией, и литературными критиками. Метафора дальше полностью раскрывается: «Вбив себе в голову, что это не мой труп (т. е. поступив как литературный критик, который при одном виде книги неприятного ему писателя решает, что книга бездарна, и уже дальше исходит из этого произвольного положения), вбив себе это в голову, они <полиция. – Ж.-Ф. Ж.>с жадностью накинулись на те мелкие, совсем неважные недостатки нашего с Феликсом сходства, которые при более глубоком и даровитом отношении к моему созданию прошли бы незаметно, как в прекрасной книге не замечается описка, опечатка» (515);
– именно по этой логике «авторские»права оплачиваются страховой компанией;
– наконец, в выражении «художник бескорыстный»первое слово относится к метанарративному плану романа, тогда как второе – к нарративному.
В свете этих примеров видно, как в самом языке переплетаются прямой смысл произведения и метафорический. Все это довольно очевидно, но надо отметить, что смесь двух планов иногда выражена сложнее, как, например, во фразе: «я не сомневался, <…> что в черно-белом лесулежит мертвец, в совершенстве на меня похожий». Речь идет, конечно, о темном лесе («черно– ») с остатками мартовского снега на месте преступления («белый»). Но это на уровне Означаемого 1. На самом деле слово «черно-белый» здесь ужеобозначает другое, а именно: черные буквы на белой бумаге. И именно в этом и только в этом контексте «лежит мертвец, в совершенстве на меня похожий»,поскольку мы теперь ужезнаем, что протагонисты на самом деле, наоборот, совершенно не похожидруг на друга. И только в этом бумажном контексте обман становится реальностью, то есть конкретным произведением, правдивее, чем жизнь [137]137
Об этом же пишет Р. Лахман: «В качестве оболочки труп принадлежит сфере обмана – сам Герман сомневается в „подлинности покойников“. „Демон-мистификатор“ Герман разрывает аутентичную связь между умершим и его трупом, присваивает мертвое тело себе, превращая его в знак сходства. Именно в этом превращении мертвого тела в чистую знаковость заключается двуступенчатый план Германа-автора» ( Лахман Р. Семиотика мистификации: «Отчаяние» Набокова // Hypertext Отчаяния. Сверхтекст Despair. S. 48).
[Закрыть]. Это художественное кредо ясно изложено в романе раньше, в седьмой главе, то есть до промаха:
Ошибка моих бесчисленных предтечей <убийц/писателей. – Ж.-Ф. Ж.> состояла в том, что они рассматривали самый акт как главное и уделяли больше внимания тому, как потом замести следы <убрать палку из машины/вычеркнуть эту деталь из текста романа. – Ж.-Ф. Ж.>, нежели тому, как наиболее естественно довести дело до этого самого акта, ибо он только одно звено, одна деталь, одна строка, он должен естественно вытекать из всего предыдущего, – таково свойство всех искусств. Если правильно задумано и выполнено дело, сила искусства такова, что, явись преступник на другой день с повинной, ему бы никто не поверил, – настолько вымысел искусства правдивее жизненной правды.
(471).
То, что Герман промахнулся (или что его недооценили!), ничего не меняет – Набоков же не промахнулся.
Итак, скрытая зеркальная структура всего романа проявляется во всем своем изяществе в немецком «глухом лесу», описание которого можно изобразить следующим образом (и распространить на весь роман):

Как мы видели, эта зеркальная структура распространяется на лексику, которая требует двойного чтения и расшифровки метафоры для перехода к литературному плану:

Этот список, конечно, можно продолжить. Структура определяет главным образом статус Германа («Я»), проникая даже в семантику и в построение самых простых групп слов:

Теперь понятна ключевая фраза: «всякое произведение искусства обман».В следующем абзаце, после очередной скрытой цитаты из Пушкина («Что пройдет, то будет мило» – последняя строка стихотворения, начинающегося словами: «Если жизнь тебя обманет»),в качестве доказательства Герман начинает писать ложный эпилог: «В один прекрасный день наконец приехала ко мне за границу Лида» и т. д. (506) – то, что произошло бы, если бы обман удался. Как в начале десятой главы (с подменой рассказчика), Герман обманывает читателя и потом показывает ему, что обманул, и так – без конца.
Правдивость, «Правда или правдоподобие»
Разбор романа «Отчаяние» дает возможность сделать некоторые выводы.
Во-первых, можно утверждать, что один из главных вопросов, поставленных Набоковым, это вопрос о роли рассказчика и о его отношениях со своими персонажами, с одной стороны, и с автором с другой. Это один из главных вопросов современной нарратологии. Понятно, что сложность этих отношений обостряется в случае повествования от первого лица. Мы имели возможность убедиться в том, что Герман показывает, насколько рассказчик пользуется абсолютной свободой по отношению к персонажам и ко всему построению своего рассказа. Но эта его свобода второстепенна и только иллюстративна: она ограничена тем, что рассказчик сам является персонажем, значит – куклой в руках высшей инстанции, которую представляет собой Автор. За этой свободой кроется определенный обман, присущий всякому литературному произведению (даже если эта идея не нравится Толстому). Не было бы такого обмана, автор и рассказчик выступали бы как одно и то же лицо и Набоков после «Лолиты» отсидел бы срок за совращение несовершеннолетней девушки, так же как Герман отсидит срок за жульничество и убийство. Можно сказать, что скандал, разразившийся после публикации «Лолиты», развернулся вокруг прочтения романа на уровне Означаемого 1, а на уровне Означаемого 2 такие моральные предрассудки не имеют никакой силы.
Построенный таким образом новый мир романа, конечно, «выдуманный», значит – обманчивый, но, как было уже сказано, «вымысел искусства правдивее жизненной правды», потому что развивает свою собственную логику: произведение искусства правдиво по отношению к самому себе. Маленький пример из «Отчаяния»: когда в начале четвертой главы Герман получает письмо от Феликса, он указывает дату (9 сентября 1930). Чуть дальше он объясняет, что читателю неважно знать, когда написано письмо, что читатель даже и не замечает эти даты, но, говорит Герман, «эти даты нужны для поддержания иллюзии»(431). Мир вымышленный, но правдивый – вот главное художественное кредо Набокова. В лекции о Достоевском он пишет:
В сущности, подлинная мера таланта есть степень непохожести автора и созданного им мира, какого до него никогда не было, и что еще важнее – его достоверность. Предлагаю вам оценить мир Достоевского с этой точки зрения.
Затем, обращаясь к художественному произведению, нельзя забывать, что искусство– божественная игра. Эти два элемента – божественность и игра – равноценны. Оно божественно, ибо именно оно приближает человека к Богу, делая из него истинного полноправного творца. При всем том искусство – игра, поскольку оно остается искусством лишь до тех пор, пока мы помним, что в конце концов это всего лишь вымысел, что актеров на сцене не убивают, иными словами, пока ужас или отвращение не мешают нам верить, что мы, читатели или зрители, участвуем в искусной и захватывающей игре; как только равновесиенарушается, мы видим, что на сцене начинает разворачиваться нелепая мелодрама, а в книге – леденящее душу убийство, которому место скорее в газете. И тогда нас покидает чувство наслаждения, удовольствия и душевного трепета – сложное ощущение, которое вызывает у нас истинное произведение искусства [138]138
Набоков В. Лекции по русской литературе. С. 185.
[Закрыть].
Очень важна здесь идея «равновесия». Речь идет о равновесии между Означаемым 1 и Означаемым 2. От этого равновесия читатель получает «удовольствие», «наслаждение». Это всегда верно для настоящего искусства, и здесь Набоков не первый. Совершенно ново другое: Набоков своими приемами заставляет читателя осознать(или хотя бы сильно ощутить)механику построения этого правдивого обмана. Он придумал тот новый «пакт с читателем» (pacte de lecture),который убедительно описал французский набоковед М. Кутюрье [139]139
Об этом см.: Couturier М. Nabokov ou la tyrannie de l’auteur. Paris: Seuil, 1993.
[Закрыть], взамен старого «пакта неискренности» (pacte de mauvaise foi),о котором говорит Ж. Блен в знаменитой книге «Стендаль и проблемы романа» [140]140
Blin G. Stendhal et les problèmes du roman. Paris: Corti, 1990.
[Закрыть]. Но мы затрагиваем здесь обширный и уже довольно серьезно исследованный вопрос, который оставляем в стороне. Добавим только, что именно на основе осознания или же ощущения этого равновесия,о котором говорит Набоков, и можно заключить, во всяком случае отчасти, этот новый «пакт с читателем». Более того: благодаря адекватности обоих планов романа – нарративного и метанарративного – Набоков создает новый тип романа, где все темы и мотивы (преступление, обман, зеркало и т. д.) входят в обширную метафорическую сеть, которая в силу своей автореференциальности становится новым, вполне реальным и правдивым и к тому же свободным миром. Так же как и отражение в зеркале, по определению своему не имеющее никакой материальной реальности, становится метафорой искусства, рассказанные в романе события не имеют никакого конкретного референта в реальной жизни. Зато роман как таковой становится реальным миром, где внутри собственных границ он правдивее жизни [141]141
О том, что зеркала у Набокова не только отражают, но и «деформируют» и «создают», см.: Perosa S. Nabokov’s Uncanny Portraits, Mirror Images, and the Value of Humor // Набоков / Nabokov. Un’eredità letteraria / A cura di A. Cagidemetrio, D. Rizzi. Venezia: Cafoscarina, 2006. P. 20.
[Закрыть]. В конце повести «Соглядатай», когда погибший герой наблюдает себя в других персонажах, мы читаем:
Все это значит, что обман, который представляет собой произведение искусства, становится эквивалентом правды.Эта правда проистекает из гармонии созданного нового предмета. Поэтому можно сказать, что следующие слова Германа, вспоминающего о том, как он в детстве «сочинял стихи и длинные истории», прекрасно смог бы произнести и сам Набоков (этот отрывок идет сразу после того, как Герман предлагал несколько возможных вариантов!):
Дня не проходило, чтобы я не налгал. Лгал я с упоением, самозабвенно, наслаждаясь той новой жизненной гармонией, которую создавал.
(423)
Цитата, кажется, уже не нуждается в комментарии.
* * *
Сартр сказал по поводу «Отчаяния», что получился «курьезный труд – роман самокритики и самокритика романа» и что Набоков «далек от того, чтобы изобретать новую технику: высмеивая ухищрения классического романа, он не пользуется при этом никакими другими» [143]143
Цит. по: Набоков В. В.: Pro et Contra Т. 1. С. 270.
[Закрыть]. И добавляет: «Где же роман? Собственный яд разъел его» [144]144
Там же. С. 271.
[Закрыть]. Удивительно, до какой степени искусный романист ничего не понял!
На самом деле этим романом Набоков прощается с так называемой миметической иллюзией,т. е. с попыткой классического и, в особенности, «реалистического» романа внушить читателю идею, будто то, что он читает, действительно произошло. Этим он продолжает линию, начатую Флобером и Прустом. Другими словами, он применяет теорию, которую предложил Уайльд, знаковая фигура эпохи модерна, в уже упомянутой работе «Упадок искусства лжи» о «правде искусства». Согласно этой теории, изображаемый в искусстве предмет правдивее,чем реальный предмет, поскольку искусство придает этому предмету некое совершенство связности и построения, которого он лишен в реальности.
Обширной mise еп abymeи радикальному обнажению всех приемов построения сюжета Набоков противопоставляет правду реальности и изобретает новый тип романа, который осуществляет старую мечту модернизма – создание автономной системы изображения, то есть системы автоизображения(« auto-représentation», термин Ж. Рикарду в его работах о Новом романе [145]145
Ricardou J. Problèmes du nouveau roman. Paris: Seuil, 1967; Id. Pour une théorie du nouveau roman. Paris: Seuil, 1971.
[Закрыть]), избегая при этом тех ловушек и тупиков, в которые то и дело попадали представители авангарда и их последователи.
Причина этого успеха состоит в том, что Набоков не отказался от повествования на уровне Означаемого 1, от нарративности, и даже от привлекательного сюжета – историю преступления Германа можно прочесть как детектив. Сохраняя таким образом прочную сюжетную линию (в отсутствие которой уже нельзя говорить о «романе», что стало очевидным намного позже, как раз после экспериментов Нового романа), Набоков разрешил старый эстетико-идеологический спор об искусстве. Своим творчеством он спас самые главные изобретения модернизма, обошел опасности утопии, связанные с ним, взял из классического романа то, что ему было нужно, заранее миновал также будущие тупики деконструкции постмодернизма, организуя деконструкцию реальности в конструкции нового прочного универсума. И стал одним из самых значительных прозаиков XX века, способным дать наперед, в период создания Союза советских писателей, свой блестящий ответ рождающемуся в насилии так называемому «социалистическому реализму».
II. ПОЭТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ОПАСНОСТИ
От футуризма – к формализму: В. Шкловский в 1913 году
(«Воскрешение слова») [*]*
Статья написана в 2005 году для специального номера парижского журнала «Europe», посвященного «Русским формалистам».
[Закрыть]
Пути нового искусства только намечены.
Не теоретики – художники пойдут по ним впереди всех.
Виктор Шкловский
Как-то раз в конце 1913 года художник Н. И. Кульбин, известный организатор футуристических выставок и диспутов, с сияющими глазами объявил Б. К. Пронину, основателю знаменитого литературного кабачка «Бродячая собака», где собирался весь цвет петербургской культуры, что он встретил в трамвае «необычайного юношу», это настоящий «человек искусства», студент 1-го или 2-го курса, и он согласен выступить в кабачке с докладом [147]147
Из воспоминаний Б. Пронина; цит. по: Шкловский В. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). С. 486.
[Закрыть]. Так впервые в литературной среде прозвучало имя этого двадцатилетнего студента – Виктор Шкловский. Надо сказать, что, хотя один из курсов тогда читал И. А. Бодуэн де Куртенэ, отделение филологии Санкт-Петербургского университета в целом не удовлетворяло молодого литературоведа-энтузиаста.
Шкловский выступил в «Бродячей собаке» с докладом «Место футуризма в истории языка» 23 декабря 1913 года. Доклад стал событием: Пронин вспоминает, с какими «восторженными лицами» М. А. Кузмин и Н. С. Гумилев слушали молоденького «Витю», «полугимназиста, полустудента» [148]148
Там же.
[Закрыть]. Поэт-символист В. А. Пяст в книге «Встречи» описывает эти события чуть менее мажорно: он вспоминает атаки, которые пришлось, как водится, выдержать Шкловскому, когда он впервые появился в «Собаке»: его обвинили в полном невежестве, «и футуризм с ним вкупе» [149]149
Пяст Вл. Встречи. М.: Новое литературное обозрение, 1997. С. 183–184.
[Закрыть]. Но как бы там ни было, 23 декабря 1913 года произошла историческая встреча футуризма и формализма, хотя формализма, как такового, конечно, еще не было, но путь для него был уже намечен. Важность этой встречи не всегда осознают в полном объеме, не всегда понимают ее масштаб и логику – как исторического события и как события в теории литературы. Шкловский, который в те времена занимался также скульптурой – он писал, что из этих занятий узнал, «что такое форма» [150]150
Шкловский В. Гамбургский счет. СПб.: Лимбус Пресс, 2000. С. 101.
[Закрыть], – в «Третьей фабрике» (1926) скажет, чему научился благодаря футуризму:
После того как доклад был прочитан, Шкловский подготовил его печатный вариант – он вышел в феврале следующего года под заголовком «Воскрешение слова». Это была брошюра в 32 страницы, некоторые экземпляры были проиллюстрированы О. В. Розановой, другие – А. Крученых; это ставило книгу на одну доску с многочисленными публикациями футуристов того времени, но одновременно было и первым шагом на пути формализма. Со своей брошюрой Шкловский пришел к Бодуэну де Куртенэ, который, сказав, что «сам не понимает этого вопроса» [152]152
Неопубликованные главы «Третьей фабрики», цит. по изд.: Шкловский В. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе. С. 487.
[Закрыть], отправил его к другому своему ученику, Л. П. Якубинскому. Через несколько месяцев к ним присоединился Е. Д. Поливанов. Таким образом «Общество по изучению теории поэтического языка» (ОПОЯЗ) вот-вот должно было появиться на свет.
Шкловский впоследствии не отказался от своего первого текста. В предисловии к сборнику произведений 1990 года он писал: «Семьдесят лет теперь этой книге. Но она, мне кажется, не постарела. Она и теперь моложе меня» [153]153
Там же.
[Закрыть]. По этому заявлению можно судить, какого внимания она заслуживает.
* * *
Тесная связь между футуризмом и формализмом, конечно, ни для кого не секрет. И все-таки проще получить об этом представление, если читаешь по-английски и можешь познакомиться с первыми книгами о формализме, выходившими уже с 50-х годов, – начиная с классических работ: «Russian Formalism» В. Эрлиха [154]154
Перевод на русский яз.: Эрлих В. Русский формализм: история и теория. СПб.: Академический проект, 1996.
[Закрыть](1955, 1965), «Russian Formalist Theory and its Poetic Ambiance» К. Поморска (1968) – эти книги не были переведены на французский язык. Та же тема поднимается и в книгах, посвященных футуризму, в том числе в классической работе В. Ф. Маркова «Russian Futurism – a History» [155]155
Перевод на русский яз.: Марков Вл. История русского футуризма. СПб.: Алетейя, 2000.
[Закрыть](1968) – тоже на английском и тоже не переведенной на французский. Среди книг, в которых хорошо проработана связь футуризма и формализма, нужно упомянуть исследование О. А. Ханзен-Лёве «Der russische Formalismus» (1978) [156]156
Перевод на русский яз.: Ханзен-Лёве О. А.Русский формализм. М.: Языки русской культуры, 2001.
[Закрыть]. На французском языке этой теме посвящено несколько страниц, написанных Ц. Тодоровым в журнале «Tel Quel» в 1968 году [157]157
Todorov Т. Formalistes et futuristes // Tel Quel. 1968. № 35. P. 42–46.
[Закрыть], потом о связях футуризма и формализма скажет Ж. Конио [158]158
Le formalisme et le futurisme russe devant le marxisme / Пер., коммент. и предисл. G.Conio. Lausanne: L’Age d’Homme, 1975.
[Закрыть], много позже к этой же теме обратится в своей работе о русском футуризме А. Сола [159]159
Sola A. Le futurisme russe. Paris: P.U.F., 1989.
[Закрыть], а М. Окутюрье начнет свою книгу о формализме из серии «Que sais-je?» [160]160
Aucouturier M. Le formalisme russe. Paris: P.U.F., 1994. P. 4–6.
[Закрыть]с упоминания об этом первом докладе Шкловского. Но, как правило, эти работы известны в основном русистам, и нельзя сказать, что они укоренились в сознании теоретиков литературы, у которых нет других контактов с русской культурой того времени.
Бесспорно, всем известен интерес формалистов к модернистским экспериментам начала века. Он проявляется и в статье Тынянова «О Хлебникове», произведения которого Тынянов опубликовал в конце двадцатых годов (1928). Конечно, сюда же надо отнести соответствующие исследования P. O. Якобсона: его статью 1919 года «Новейшая русская поэзия» (тоже о Хлебникове) и написанную позже статью о В. В. Маяковском. Но оба они написали эти работы по следам уже прошедших, хоть и очень недавних, событий. То же самое можно сказать и о работах Шкловского, последовавших за «Воскрешением слова» и опубликованных в сборниках ОПОЯЗа в 1916 и 1919 годах [161]161
Шкловский В. О поэзии и заумном языке // Сборники по теории поэтического языка. I. Пг., 1916. С. 1–15 (то же: Поэтика. Пг., 1919. С. 3–26). Перепеч.: Шкловский В. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). С. 45–58.
[Закрыть]. В 1919 году он скажет в статье «Об искусстве и революции»: «мы, футуристы, связываем свое творчество с Третьим Интернационалом», там же он утверждает, что «футуризм был одним из чистейших достижений человеческого гения» [162]162
Шкловский В. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). С. 79.
[Закрыть]. Сказанное выше относится также и к сотрудничеству формалистов в двадцатые годы с журналом «ЛЕФ» (Левый фронт искусств) Маяковского и О. М. Брика.
Более важное значение имеют, бесспорно, поэтические эксперименты Якобсона в 1914–1915 годах, его «заумные» стихи, опубликованные под псевдонимом Р. Алягров в маленькой «Заумной книге» (так!) (1915) в соавторстве с Крученых [163]163
Об этом см.: Якобсон – Будетлянин: Сборник материалов / Сост., подг. текста, предисловие и ком мент. Б. Янгфельдт. Stockholm, 1992.
[Закрыть]. История этой публикации, не слишком известная, хотя Якобсон с удовольствием упоминал о ней в интервью, наглядно демонстрирует сближение молодых филологов и футуристов, которые не просто эпатировали публику, но и действительно совершали революцию в поэтическом слове. Мы говорим здесь о тех материалах, которые доступны французской публике [164]164
См., в частности: Chklovski V. La troisième fabrique / Пер. V. Posener, P. Lequesne. Paris: L′Esprit des Péninsules, 1998; Todorov T. Formalistes et futuristes // Tel Quel. 1968. № 35. P. 42–46; Tynianov You. Sur Khlebnikov // Le formalisme et le futurisme russes devant le marxisme. P. 118–131; Jakobson R. La nouvelle poésie russe / Jakobson R. Questions de poétique. Pads: Seuil, 1973. P. 11–24; Jakobson R. Maïakovski // Jakobson R. Russie folie роésie. Paris: Seuil, 1986. P. 123–156; Jakobson R. Réponses // Jakobson R. Russie folie poésie. P. 19–47; Jakobson R., Pomorska K. Dialogues. Paris: Flammarion, 1980; Vallier D. Jakobson poète // Poétique 1984. № 57. P. 26–36.
[Закрыть].
Но даже если все это нам известно, трудно утверждать, что сближение, о котором мы говорим, в полной мере осознано исследователями, особенно на Западе и, в частности, во Франции. Здесь интерес к главным текстам формализма развивался очень поздно (в 60-е годы) и независимо от восприятия (заново) русского авангарда – ведь знакомство с ним, по вполне понятным причинам, происходило скорее через искусства визуальные (живопись, фотография, кино), а не через тексты, относящиеся к течению, важность которого трудно оценить, не зная русского языка. Часто начало школы формализма датируют 1916 годом, по первым публикациям ОПОЯЗа, созданного в 1914 году. А знаменитая статья Шкловского, которую сегодня считают основополагающим текстом и платформой формализма, «Искусство как прием», была опубликована во втором томе «Сборников по теории поэтического языка» в 1917 году. И тем не менее основные тезисы, провозглашенные в этой статье, звучали уже в докладе, прочитанном в «Бродячей собаке».
В то время футуристическая революция в основном осуществилась: футуристы ввели в обиход понятие «зауми» – заумной поэзии, свободной от логики и рамок значения. Крайней ее формой станет фонетическая поэзия. Очевидно, что было совершенно необходимо познакомить с первой статьей Шкловского – хотя бы как с явлением в истории литературы – всех, кто интересуется теорией формализма. И вот наконец в 1985 году она опубликована по-французски, а в качестве приложения напечатан один из самых важных теоретических текстов, характеризующих поэтическую революцию, которая происходила в 1913 году, – манифест «Новые пути слова», подписанный А. Крученых [165]165
Chklovski V. Résurrection du mot // Пер. A. Robel. Paris: Lebovici, 1985.
[Закрыть]. Со времени этой публикации прошло уже больше двадцати лет, но кажется, все еще не оценено по достоинству соприкосновение двух движений, которые накануне Первой мировой войны вывели Россию в авангард формалистических поисков – как в литературе, скульптуре и живописи, так и в области теоретических наработок. Именно на перекрестке этих двух движений стоял в тот декабрьский вечер 1913 года студент Шкловский.
Чтобы лучше понять природу «воскрешения», о котором он говорил, будет полезно вернуться на несколько месяцев назад, ведь футуризм представляет собой не что иное, как заключительную стадию процесса, приведшего к тому, что все литературные движения начала века полностью переосмыслили природу поэтической речи, которая одна способна, как утверждал Андрей Белый в «Магии слов» (1910), оживить слово, усилить его [166]166
Белый А. Магия слов // Белый А. Символизм. М., 1910. С. 429–448. Некоторые тезисы, выдвинутые в этой статье, в точности совпадают с базовыми понятиями футуристов, например идея о том, что, «когда я называю словом предмет, я утверждаю его существование»; «творческое слово создает мир» (цит. по: Белый А. Символизм как миропонимание. М.: Республика, 1994. С. 131, 134).
[Закрыть].
* * *
В декабре 1912 года, то есть ровно за год до того вечера в «Собаке», в Москве была опубликована «Пощечина общественному вкусу» – сборник, объединивший имена, которые войдут в историю литературы как «кубофутуристы» (Д.Д. и Н. Д. Бурлюки, Крученых, Маяковский, Хлебников, Б. К. Лившиц и, по случайности, В. В. Кандинский). Некоторые тексты, вошедшие в сборник, весьма удивили тогдашнюю публику, сегодня же внимание привлекает одна только хлесткая декларация, которая их сопровождала. Авторы декларации нападали и на классиков и на символистов, а кроме того, объявляли о новых «правах поэтов», в числе которых: право «на увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами (слово – новшество)», а также право «на непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку» [167]167
Пощечина общественному вкусу // Литературные манифесты: От символизма до наших дней. М.: Издательский дом XXI век; Согласие, 2000. С. 142.
[Закрыть]. Кончалась декларация так:
И если пока еще и в наших строках остались грязные клейма ваших «здравого смысла» и «хорошего вкуса», то все же на них уже трепещут впервые Зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова [168]168
Пощечина общественному вкусу // Литературные манифесты: От символизма до наших дней. М.: Издательский дом XXI век; Согласие, 2000. С. 143.
[Закрыть].
Футуристы вводят здесь основополагающее понятие «самоценного» или «самовитого» слова, чуть позже его назовут еще: «слово как таковое» – то есть свободное, не связанное взаимоотношениями с окружающими словами. Таким образом, футуристы произвели беспрецедентную эстетическую революцию, подготовленную, между прочим, не кем иным, как символистами, над которыми этот манифест потешается весьма жестоко, а причина этой жестокости – скорее близость двух этих течений, чем их антагонизм. И если эта близость не проявляется в поэтических произведениях, то уж по крайней мере видна в эстетических теориях.
Конечно, футуризм не родился одновременно с этой декларацией. Хлебников уже в 1908–1909 годах исследовал возможности языка по части морфологических производных одного и того же слова, например в знаменитом «Заклятии смехом»:
Существуют и другие тексты и сборники, которые можно считать предтечами футуризма, но «Пощечина общественному вкусу» остается первой декларацией футуристов как сложившейся группы, и сложившейся как раз вокруг проекта «воскрешения слова», о котором годом позже напишет Шкловский. Между прочим, через ту же метафору «оживления» языка Лившиц, один из авторов декларации, опишет свои впечатления от рукописей Хлебникова: «то, что нам удалось извлечь из хлебниковского половодья, кружило голову, опрокидывало все обычные представления о природе слова» [170]170
Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения, переводы, воспоминания. Л.: Советский писатель, 1989. С. 335.
[Закрыть]. Заметим, что голову кружила не отважная новизна Хлебникова, а что-то куда более глубокое, что, по словам Лившица, сковало его «апокалиптическим ужасом». И дальше идет это необыкновенное свидетельство:
Исследование ресурсов языка, включавшее интерес ко всем возможным ритмическим и фонетическим сочетаниям (в том числе, как следствие, и к детскому языку, и к экстатическим молитвам некоторых религиозных сект), совершенно естественно привело к изобретению поэзии абстрактной, то есть не имевшей определенного заранее семантического содержания. Пример можно найти у Крученых, который в том же 1913 году опубликует в сборнике «Помада» (на самом деле это крохотная брошюрка с иллюстрациями М. Ф. Ларионова, тираж которой составил несколько экземпляров) первое стихотворение, полностью составленное из выдуманных слов:
С этим стихотворением родилась заумь – язык запределами ума,представляющий в поэзии окончание маршрута, сходного с тем, что привел живопись к абстракции: известно, что супрематизм Малевича называли аналогом заумной поэзии Крученых, только в живописи. Последний осуществил на практике главное требование, выдвинутое в «Пощечине общественному вкусу», – создать настоящее самодостаточное слово, слово «как таковое». За 1913 год теоретические основы тех первых манифестов формализуются, в частности, в сборнике «Садок судей II», в котором демонстрируются новые принципы словотворчества футуристов (расшатывание синтаксиса и метрики, выход на первый план графического образа текста и фонетики, семантического наполнения букв, изобретение свободного ритма, оправдание произвольной лексики и т. д.).
Автономное слово, освобожденное от всех обычных ограничений и готовое, следовательно, ожить, станет главной идеей Крученых, который в 1913 году напишет в форме трактата свою знаменитую «Декларацию слова как такового» [173]173
С интересом заметим, что Шкловский опирается на положения этой декларации в своей второй статье о зауми: «О поэзии и заумном языке».
[Закрыть]. Этот текст состоит из восьми пунктов, перечисленных в беспорядке и представляющих собой программу футуристов:
4) Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определенного значения (не застывшим), заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее [174]174
Крученых А. Декларация слова как такового // Крученых А. К истории русского футуризма: Воспоминания и документы. М.: Гилея, 2006. С. 287.
[Закрыть].
Итак, заумь – это способ выразиться полнее, а главное, вернуться к первоначальной чистоте языка, эта идея развивается в следующем положении декларации:
5) Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому и, как Адам, дает всему свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно слово лилия, захватанное и «изнасилованное». Поэтому я называю лилию еуы – первоначальная чистота восстановлена [175]175
Там же. О «вечной юности» мира см. статьи: «Велемир I – поэт становлянин» и «Кризис „текучести“ в конце Серебряного века» в этой же книге.
[Закрыть].
Именно благодаря этой восстановленной чистоте возникает то, что Крученых, как и Хлебников, называет «вселенским языком». Но если «слово как таковое» – это слово доВавилонского столпотворения, Крученых идет дальше, замечая, что с этим новым языком поэт сможет не только выразить мир во всей его полноте, но и создать мир. Таким образом заумь приобретает реальную телеологическую силу:
Так поэт, теург, становится создателем новых миров, что позволяет Крученых объявить в заключение, что «искусство не суживается, а приобретает новые поля» [177]177
Там же.
[Закрыть].
В том же 1913 году Крученых подписывает еще два текста, в которых его идеи представлены более полно. В первом, подписанном также Хлебниковым, объявляется, что «будетляне речетворцы» превзошли всех остальных и что в «Дыр бул щыл» Крученых – «более русского национального, чем во всей поэзии Пушкина» [178]178
Крученых А., Хлебников В. Слово как таковое // Литературные манифесты: От символизма до наших дней. С. 144.
[Закрыть]. Презрительно перечисляются требования к языку, предъявлявшиеся поэзией раньше: «ясный, чистый, честный, звучный, приятный (нежный) для слуха, выразительный (выпуклый, колоритный, сочный)» [179]179
Там же. С. 145.
[Закрыть], – качества, которые кажутся больше приложимыми к женщине, чем к языку:
Эта атака направлена на символистов и «сливочную тянучку» [181]181
Там же. С. 144.
[Закрыть]их поэзии, в особенности на поэзию А. А. Блока, который, по их мнению, воспевая вечно женственное, «Прекрасную даму», в результате делает юбку мистической, но важно, что он остается в рамках «фигуративного» течения, а язык должен существовать сам по себе:
И значит, нужно любыми средствами освободить язык от всего, что мешает ему быть тем, что он есть, освободить его от Психеи «страстей и чувств», чтобы он стал языком(то есть языком как таковым):
будетляне речетворцы <любят пользоваться> разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумный язык). Этим достигается наибольшая выразительность и этим именно отличается язык стремительной современности, уничтоживший прежний застывший язык [183]183
Там же С. 146.
[Закрыть].
Все эти идеи будут представлены в такой же агрессивной манере, но с большей обстоятельностью, в статье, которая вышла в том же 1913 году в сборнике «Трое», объединившем Крученых, Хлебникова и Е. Г. Гуро, которая умерла незадолго до того – сборник посвящен ее памяти. Заголовок статьи Крученых из этого сборника уже дает представление о ее содержании: «Новые пути слова» (с подзаголовком: «язык будущего – смерть символизму»). После выпада против критиков футуризма, этих «вурдалаков питающихся кровью „великих покойников“» и «гробокапателей станичников паразитов» [184]184
Крученых А.Новые пути слова // Манифесты и программы русских футуристов / Сост. В. Марков. München: Wilhelm Fink Verlag, 1967. С. 64. Дальше цитируем по более доступному изданию, в котором отсутствуют эти первые строки: Крученых А. Новые пути слова // Русский футуризм: Теория. Практика. Критика. Воспоминания / Сост. В. Н. Терехина, А. П. Зименков. М.: Наследие, 1999. С. 50–54. Здесь и далее пунктуация оригинала.
[Закрыть], Крученых заявляет:
<…> до нас не было словесного искусства
были жалкие попытки рабской мысли воссоздать свой быт, философию и психологию (что называлось романами, повестями, поэмами и пр.) были стишки для всякого домашнего и семейного употребления, но
искусства слова
не было [185]185
Крученых А. Новые пути слова. С. 50.
[Закрыть].
И хуже того, говорит Крученых, «делалось все, чтобы заглушить первобытное чувство родного языка, чтобы вылущить из слова плодотворное зерно, оскопить его и пустить по миру как „ясный чистый честный звучный русский язык“ хоть это был уже не язык, а жалкий евнух не способный что-нибудь дать миру» [186]186
Там же.
[Закрыть]. Самая низкая точка падения русской поэзии со времен «Слова о полку Игореве», по его мнению, – стихи Пушкина, которого в «Пощечине общественному вкусу» совершенно логично было предложить «бросить <…> с парохода современности» [187]187
Пощечина общественному вкусу. С. 142.
[Закрыть].

![Книга Письма: Николай Эрдман. Ангелина Степанова, 1928-1935 гг.[с комментариями и предисловием Виталия Вульфа] автора Николай Эрдман](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pisma-nikolay-erdman.-angelina-stepanova-1928-1935-gg.s-kommentariyami-i-predisloviem-vitaliya-vulfa-257202.jpg)