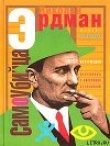Текст книги "Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности"
Автор книги: Жан-Филипп Жаккар
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Если в «Домике в Коломне» все это на поверхности, то в других произведениях такие приемы часто ускользают от взглядов критики. Анализ «Руслана и Людмилы» (1821) оказывается очень показательным в этом отношении и демонстрирует, что всего Пушкина, начиная с самых первых текстов, имеет смысл рассматривать под представленным нами углом зрения. Этой поэме мы посвятили статью, где хотим доказать, что «Руслана и Людмилу» не следует давать читать детям. О поэме написано немало глупостей, например в самом серьезном французском литературном справочнике читаем: «Скажем сразу, что это произведение дебютанта, и в нем прослеживаются многочисленные влияния» [18]18
Le nouveau dictionnaires des œuvres de tous les temps et de tons les pays: En 6 Vol. Paris: Laffont – Bompiani, 1994. T. 5. P. 6476.
[Закрыть]. Тот, кто написал эти строки, очевидно, ничего не понял в поэме: он считает влияниями, и, соответственно, грехом молодости, тот волшебный калейдоскоп из отблесков других произведений, которые Пушкин, несмотря на свой юный возраст, не только прочел, но и усвоил до такой степени, что смог составить из них, прибегая к искуснейшему пародированию, нечто совершенно новое. Мы покажем еще, что, кроме рассказа о Руслане, главное занятие которого – вздыхать по своей возлюбленной, и о Людмиле, фривольность которой иногда приводит в замешательство, эта поэма также говорит о себе самой и о литературе, она с бесспорным кокетством отражает саму себя в непрестанной игре отражений и автоотсылок. То же касается и прозы Пушкина: запутанность повествования, которую можно заметить, например, в «Метели» или в «Капитанской дочке», играет все ту же роль метадискурса, так же как в последнем из этих двух произведений – зеркальная структура, которая определяет его композицию.
Проза Гоголя тоже очень хорошо подходит для такого анализа, поскольку в этой прозе сама фактурасвоим богатством привлекает внимание читателя к принципам ее построения даже больше, чем рассказываемая история, которая, как в свое время заметил Юрий Тынянов, сводится к нескольким словам (как человек потерял свой нос и как он его нашел; как человек, которого принимают за «ревизора», умудряется запугать целый город, а потом уехать; как другой мошенник сколачивает себе воображаемое состояние, скупая «мертвые души» у помещиков, которые с радостью от них избавляются, и так далее). И так же, как у Пушкина, это свойство проявляется в гоголевских текстах с самого начала: в 1832 году писатель вставляет в свой украинский цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» странную историю «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Во-первых, возникает вопрос, что в ней, собственно, украинского? Но главным образом, конечно, задумываешься, о чем же на самом деле рассказывается в этой истории. Она пересыпана бесконечной болтовней соседа Сторченко, которая перемежается бормотанием Шпоньки, не способного, совсем как потом Акакий Акакиевич, закончить фразу (для нас это выливается в очередное, тоже метадискурсивное, отступление от хода рассказа: «Не мешает здесь и мне сказать, что он вообще не был щедр на слова» [19]19
Цит. по изд.: Гоголь Н.Собр. соч.: В 8 т. М.: Правда, 1984. Т. 1. С. 246.
[Закрыть]). Тут же следуют непропорциональные описания, вроде описания обеда, где начинает воплощаться «новый замысел тетушки», который дает название пятой главе и о котором мы так ничего и не узнаем, или описание допотопной брички, в котором уже улавливаются некоторые пассажи будущих «Мертвых душ» или «Коляски». Помимо того, являются всякие «наросты» в повествовании, связанные в первую очередь с полной неспособностью героя совершить хоть малейшее действие: этот самый герой в критический момент, когда решается вопрос о его будущей жизни (и женитьбе), впал в крайнее смущение, «ободрился, и хотел было начать разговор; но казалось, что все слова свои растерял он на дороге», и после четверти часа молчания он наконец выдавливает из себя слова: «Летом очень много мух, сударыня!» [20]20
Цит. по изд.: Гоголь Н.Собр. соч.: В 8 т. М.: Правда, 1984. Т. 1. С. 261.
[Закрыть]Его несостоятельность абсолютна и распространяется даже на отношения с противоположным полом: когда тетушка говорит, что он должен жениться (ему 38 лет), он в панике отвечает: «Как, жена! <…>…я еще никогда не был женат… Я совершенно не знаю, что с нею делать!» [21]21
Там же.
[Закрыть]Но эта несостоятельность героя, составная часть фабулы, в конце концов становится метафорой неспособности самого текста двигаться дальше. Как это получается?
Повествование начинается вполне традиционно с упоминания о детстве героя и о годах его становления. Но это лишь видимость. На самом деле фрагменты его биографии, которые нам сообщаются, не дают о нем практически никакой информации. Каждый раз, как начинается какая-нибудь линия, которая могла бы быть информативна, если бы имела продолжение, она сейчас же обрывается и теряется во множестве отступлений, которые переходят в детальные описания, и, в конце концов, отдаешь себе отчет, что в этом тексте нет вообще ничего, что могло бы составить правдоподобную фабулу. Наоборот, любой детали, которая в «нормальном» повествовании появилась бы «между делом», уделяется непропорционально много внимания, это тормозит движение рассказа, и в результате повествование вовсе не может продолжаться. Получается, что Гоголь показывает не столько бессвязную историю жизни Шпоньки, сколько механизм функционирования повествования, а точнее, механизм его не-функционирования, что, впрочем, одно и то же. Его игра с читательскими ожиданиями и их обман – это способ привлечь внимание читателя к механизмам повествования. Тут не скажешь «так вот что он описывает» (это была бы история Шпоньки), а скорее, «вот как он пишет» (соответственно, история истории). Поэтому нам уже не так важно знать, что произойдет дальше, и текст может оборваться где угодно: повествование выдыхается, теряется под грузом отступлений и стилистических изысков и наконец заканчивается молчанием, речь обессиливается, так же как и сумбурные, всегда неоконченные высказывания героя.
Это объясняет конец рассказа: как и принято в классическом повествовании, глава заканчивается на фразе, которая должна пробудить интерес читателя и подтолкнуть его, не мешкая, продолжить чтение следующей главы («Между тем в голове тетушки созрел совершенно новый замысел, о котором узнаете в следующей главе» [22]22
Цит. по изд.: Гоголь Н.Собр. соч.: В 8 т. М.: Правда, 1984. Т. 1. С. 263.
[Закрыть]) – Но никакой следующей главы нет, и рассказ резко обрывается на этом месте. И что самое примечательное, читатель знал об этом с самого начала. Ведь еще перед тем, как начать рассказ о жизни Шпоньки, повествователь предупредил, что конца он не знает, потому что его «старуха» использовала последние листки тетради, чтобы печь пирожки (между прочим, очень вкусные), а память у него слишком скверная, чтобы вспомнить, о чем там шла речь. Ясно, что, в отличие от читателя конца XX века, привыкшего к таким ходам, поскольку для постмодернизма это дело обычное, читатель XIX века не мог считать это нормальным, и его, еще больше, чем нас сегодня, должен был занимать вопрос, ради чего ему рассказали эту историю. А ответ на этот вопрос, вполне, кстати, правомерный, дается в самом начале повествования, в первой фразе рассказа: «С этой историей случилась история» [23]23
Там же. С. 238.
[Закрыть]. Сюжет рассказа – не история Шпоньки, а история самой истории.
В этом произведении, относящемся, между прочим, к самому началу его писательской карьеры, Гоголь достигает отчаянной новизны: по своей металитературной составляющей, доведенной до предела, по своей радикальной автореференциальности, по игре с читательскими ожиданиями, по обнажению приемов, которые определяют его структуру, по своей искусно подчеркнутой незавершенности этот текст больше напоминает некоторые эксперименты в духе модерна, абсурда или постмодерна XX века, чем украинскую историю в фольклорном стиле. И поэтому неудивительно, что у Гоголя и дальше обнаруживается множество приемов, схожих с теми, что мы будем анализировать в этой книге, – например, в статьях о Хармсе, у которого в начале одного незавершенного текста читаем: «В два часа дня на Невском проспекте или, вернее, на проспекте 25-го Октября ничего особенного не случилось» [24]24
Цит. по изд.: Хармс Д.Полн. собр. соч. Т. 2. С. 34.
[Закрыть]– этот зачин до странности напоминает начало второй главы из истории Шпоньки: глава называется «Дорога», и ее первые слова: «В дороге ничего не случилось замечательного» [25]25
Гоголь Н. Собр. соч. Т. 1. С. 243.
[Закрыть]. В результате мы можем по-новому взглянуть и на проблему незавершенности того или иного текста, например «отрывок» «Рим» (1842), и вообще другими глазами перечитать петербургские повести Гоголя, воспринимая их как главы одной книги, составленной по зеркальному принципу и содержащей развернутый и богатый дискурс об искусстве.
Как мы показали, уроки, преподанные модерном, дают хорошую базу для того, чтобы по-иному проанализировать написанное классиками. Именно по этой причине мы намеренно выбрали произведения самых известных писателей. Мы считаем, что этот метод можно обобщить. Очевидно, что с Достоевским он также срабатывает. Часто творчество этого писателя разделяют на два периода: до каторги и после. До каторги мы имеем дело с писателем одновременно социалистического и романтического толка, произведения которого вписываются в традицию той «натуральной школы», из принадлежности к которой Белинский сделал абсолютный критерий оценки и к которой он немного поторопился причислить Гоголя. После каторги и после окончания переходного периода, который завершается «Записками из подполья» (1864), Достоевский писатель, обновивший свои убеждения. Для одних он реакционер, для других – религиозный писатель, третьи считают, что он обновляет эстетику романа (и создает такие разновидности, как «роман-трагедия», «полифонический роман» и так далее). Все это, конечно, соответствует реальности, но не отвечает на вопрос о том, что же объединяет оба эти периода. Нам кажется, что ответ на этот вопрос можно найти в той металитературной составляющей, которую обнаруживаешь на каждой странице его книг, причем с самых первых произведений (как у всех новаторов). Взять хотя бы его первый роман «Бедные люди». Можно, конечно, вместе с Белинским порадоваться появлению нового писателя, озабоченного социальными проблемами, но действительно ли это самое важное? Не интереснее ли увидеть в «Бедных людях» (1846) диалог с Гоголем, причем не только на уровне сюжета, который напоминает «Шинель» (трагическая судьба существа, лишенного того, о чем оно мечтает, история, в которой, как заметил в свое время К. В. Мочульский, замена шинели на женщину выглядит особенно значимо: «<…> вместо вещи (Шинель) поставил живое человеческое лицо (Вареньку) <…>» [26]26
Мочульский К. Достоевский: Жизнь и творчество. Париж: YMCA-Press 1980. С. 29.
[Закрыть]); интересно также упоминание самим героем писателя, против которого он восстает и которого противопоставляет… Пушкину – им он восхищается (вспоминается текст Хармса, цитированный выше). Сравнение Девушкина и Акакия Акакиевича на первый взгляд кажется логичным, но при внимательном прочтении понимаешь, что они различны абсолютно во всем: по существу, Достоевский выворачивает детали гоголевской повести, прежде всего очеловечивая героя, который у Гоголя остается механической куклой; кроме того, Достоевский наделяет своего героя даром слова – у Акакия было только косноязычие; и, наконец, дает ему возможность в ясной форме выражать свои взгляды на литературу, какими бы они ни выглядели наивными. Можно пойти еще дальше и сказать, что одна из задач, поставленных Достоевским в своем первом романе, а потом и в следующих, – это воспроизвести типы личности, относящиеся к определенной литературной традиции, а потом, перенося их в другой контекст, превзойти те жанры, из которых он заимствует принципы построения своих текстов. Так в «Бедных людях» Достоевскому удалось связать (контрастно их сочетая) принципы «натуральной школы» («психологический очерк»), сентиментализм (который просматривается в лирических порывах влюбленного Девушкина, в чистоте и самоотверженности, которыми отмечено его чувство) и социальный роман, не говоря уже о модном в то время эпистолярном романе: ситуация, когда корреспонденты переписываются, находясь в нескольких метрах друг от друга, выглядит пародией на эту моду.
Проблема жанра останется важной темой и в следующих произведениях Достоевского. Часто она даже подчеркивается, например, в первом романе, где герой считает, что сам знает, какнужно писать. Ясно, что в манере письма молодого Достоевского заметны следы книг, которые он прочел, но было бы некорректно видеть в ней лишь систему различных влияний. На самом деле производит впечатление именно та смесь, из которой вырастает новая манера письма: Достоевский связывает разнообразные влияния друг с другом, включает их в диалог и таким образом возвышает каждое из них и создает собственную манеру. Тынянов в знаменитой книге 1921 года о Достоевском и Гоголе [27]27
Тынянов Ю.Достоевский и Гоголь: (К теории пародии). Пг.: Опояз, 1921.
[Закрыть]первым стал размышлять в этом направлении и показал, как Достоевский «играл» гоголевским стилем, особенно в 1840-е годы, пока не отошел от этой линии. Тынянов также показывает, что, хотя присутствие Гоголя совершенно очевидно, это присутствие следует рассматривать не столько как влияние, сколько как взаимодействие и отталкивание.
Во многих произведениях Достоевского есть пародийная составляющая, которую не всегда оценивают по достоинству. А она тем не менее имеет важнейшее значение, и не обязательно объектом пародирования становится какой-то конкретный писатель, скажем Гоголь, который в это время заметен во всех произведениях Достоевского (особенно в «Двойнике», но так же и в «Хозяйке», где смесь фантастического и фольклорного устроена совсем как в рассказе Гоголя «Страшная месть», но пародийно переплетается с чертами авантюрного романа: разбойниками, выстрелами и т. п.). Эти произведения становятся сценой настоящей дискуссии о литературных жанрах, в которой определенный жанр подчеркивается иногда даже слегка преувеличенно, а потом исчерпывается: так история безумного музыканта и договора с дьяволом в первой части неоконченного романа «Неточка Незванова» напоминает романтизм Э.-Т.-А. Гофмана (или В. Ф. Одоевского), но эти жанровые признаки подчеркиваются даже слишком, а потом продолжение первой части уводит нас совсем в другую сторону. В очередной раз это оказывается скорее экспериментом с жанром произведения (и попыткой подвергнуть этот жанр сомнению), чем использованием на практике традиционных приемов. Следовательно, писательская манера Достоевского строится на преодолении существующих моделей, и Гоголь – не единственный пример из молодости, который он таким образом оркеструет: перед нами проходят все модные в то время жанры, от романа-фельетона до социального романа, от сентиментальной мелодрамы до приключенческого романа и романа с тайной, О. де Бальзак, Ч. Диккенс, Э. Сю, Ф. Сулье, В. Гюго, Гофман и многие другие.
С точки зрения изучения жанров анализ первого большого романа Достоевского «Униженные и оскорбленные» (1861), о котором часто пишут как о переходном и достаточно слабом произведении, оказывается весьма продуктивным. Роман состоит из двух линий, почти совершенно независимых друг от друга. Первая линия – любовь Наташи – явственно восходит к сентиментальной мелодраме, а вторая – история маленькой Нелли – напоминает Гофмана и в то же время в ней есть переклички с «Лавкой древностей» (1840) Диккенса. Противники романа обрушивались на эти черты сходства с английским романом, даже усматривали плагиат: они не поняли, что эти созвучия – составная часть замысла романа. Так же как имя Гофмана явно названо, роман Диккенса тоже упоминается с помощью весьма красноречивых деталей: Достоевский дает своей героине то же имя, что и у героини английского романа, заключает такой же странный секретный союз между ней и стариком, как и у Диккенса, – таким образом Достоевский делает сходство весьма заметным, и даже слишком заметным.
При этом нужно констатировать, что ключевые сцены со слезами, которые сопровождают мелодраматическую линию повествования, отмечены такой чрезмерностью, что подозреваешь их в пародийности.
Итак, привлекает к себе внимание прежде всего не то, что писатель по-разному обходится с этими линиями своего повествования, а то, что эти жанры представлены вместеи в одном и том же произведении. Если понять это, сосуществование двух интриг, разделенных почти искусственно и объединенных, что весьма показательно, с помощью фигуры повествователя, представляется исполненным особого смысла, а вовсе не недостатком архитектурного устройства романа. Более того, архитектура романа как раз и оказывается в центре внимания.
Игра с ультракодифицированными жанрами встречается и во всех последующих произведениях Достоевского, независимо от их содержания.
Еще один хороший пример – «Записки из подполья» (1864). С точки зрения содержания это произведение подводит итог прошлому, готовя одновременно почву для следующих романов. Но то же самое можно сказать и о литературно-эстетической стороне: тут к полемике против организаторов принудительного счастья и социальных утопий, унаследованных от Ж.-Ж. Руссо, добавляется чисто литературная полемика – во второй части романа, той самой, за которую Достоевского ругали те, кто не понял его замысла, или не захотел понять, в том числе и Набоков.
Часто можно прочитать, что вторая часть романа, повествовательная, служит плохой иллюстрацией к первой, теоретической, части и что их соединение искусственно. Это, конечно, не верно ни в психологическом, ни в философском плане, которых мы, однако, касаться не будем. Но это столь же неверно и в чисто литературном плане. Во второй части история чистосердечной проститутки Лизы – ситуация, типичная для социального романа с примесью романтизма. Но названный жанр имеет свои обязательные черты: юная проститутка должна оказаться спасенной героем, который также должен быть чист, а здесь ее унизили и оскорбили, а потом еще и выгнали. Рассуждение о природе повествования мы обнаруживаем и в речах героя, который комментирует собственный стиль («…я тут зарапортовывался в какой-нибудь такой европейской, жорж-зандовской неизъяснимо благородной тонкости» [28]28
Цит. по изд.: Достоевский Ф.Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990. Т. 5. С. 167.
[Закрыть]) и отвергает чувства, которые мог бы испытывать, если бы не происходил из подполья: «И таков проклятый романтизм всех этих чистых сердец! О мерзость, о глупость, о ограниченность этих „поганых сантиментальных душ“!» [29]29
Там же. С. 166.
[Закрыть]Пародийность очевидна, и она даже подчеркивается в начале второй части, эпиграфом к которой поставлены строки Н. А. Некрасова:
Когда из мрака заблужденья
Горячим словом убежденья,
Я душу падшую извлек,
И, вся полна глубокой муки,
Ты прокляла, ломая руки.
Тебя опутавший порок.
Когда забывчивую совесть
Воспоминанием казня,
Ты мне передавала повесть
Всего, что было до меня,
И вдруг, закрыв лицо руками,
Стыдом и ужасом полна,
Ты разрешилася слезами,
Возмущена, потрясена…
Трудно было бы придумать что-то более язвительное, тем более что в подписи сказано только: «Из поэзии Некрасова», как будто эти стихи могли быть взяты из любого его произведения! Что касается «и т. д.», здесь ясно показывается, что мы можем угадать продолжение, где говорится о прощении, которое получает падшая женщина, и все кончается словами (саркастически произнесенными героем дальше в повести): «И в дом мой смело и свободно / Хозяйкой полною войди!» [31]31
Там же. С. 167.
[Закрыть]Налицо обилие литературных штампов, и Достоевский высмеивает все это не только своим «и т. д.», но также историей, где герой унижает и выгоняет из дома проститутку, готовую раскаяться, которую в шаблонном произведении, вроде стихотворения Некрасова, обязательно бы спасли и приютили. Следовательно, в «Записках из подполья» в дополнение к ощутимой сложности на уровне психологической структуры, а также идеологической и философской организации текста со всей очевидностью присутствует еще и металитературная (автореференциальная) составляющая.
Удивительно, что Набоков не заметил этой стороны творчества Достоевского: он видит только смесь западных «готических романов» с «религиозной экзальтацией, переходящей в мелодраматическую сентиментальность» [32]32
Набоков В.Лекции по русской литературе / Пер. А. Курт. М.: Независимая газета. 1996. С. 181.
[Закрыть]. Еще он упрекает Достоевского в безвкусице – его сентиментальность нужна только для того, чтобы вызвать сочувствие читателя, и не преследует никаких художественных целей. Все держится только на интриге, и Достоевский оказывается «прежде всего автором детективных романов» [33]33
Набоков В.Лекции по русской литературе / Пер. А. Курт. М.: Независимая газета, 1996. С. 188.
[Закрыть], умеющим «мастерски закрутить сюжет и с помощью недоговоренностей и намеков держать читателя в напряжении» [34]34
Там же. С. 189.
[Закрыть], но его книги не выдерживают повторного прочтения.
«Записки из подполья» (это, по мнению Набокова, заметки «маньяка», причем такие «посредственные подражатели Достоевского, как французский журналист Сартр, продолжают пописывать в том же духе и по сей день» [35]35
Там же. С. 196.
[Закрыть]) он критикует за «назойливое повторение слов и фраз», за «стопроцентную банальность каждого слова» и за «дешевое красноречие…» [36]36
Там же. С. 197.
[Закрыть]. Удивительно, что Набоков совсем не задумывается о смысле именно такого устройства произведения: из двух частей, которые кажутся автономными только на первый взгляд. Для него только после первой части, которую он называет «прологом», со второй главы второй части «начинается действие» [37]37
Там же. С. 200.
[Закрыть]. Набоков имеет в виду только историю Лизы, но он мог бы вспомнить фразу Гоголя из «Ивана Федоровича Шпоньки и его тетушки»: «С этой историей случилась история».
Так же близоруко разбирается «Преступление и наказание» (1866): Набоков в нескольких строках уничтожает роман, ругая его за банальность. По мнению Набокова, банальностью является сцена чтения Евангелия Раскольниковым и Соней, в ней начало раскаяния Раскольникова отмечено фразой, «не имеющей себе равных по глупости во всей мировой литературе» [38]38
Там же. С. 189.
[Закрыть]. Набоков считает, что нет никакого смысла в треугольнике «убийца и блудница» и «вечная книга», это просто набор литературных клише: этим двум персонажам нечего делать вместе уже потому, что «Христианский Бог <…> простил блудницу девятнадцать столетий назад», а «убийцу следовало бы прежде всего показать врачу», «убийца и блудница за чтением Священного Писания – что за вздор! Здесь нет никакой художественно оправданной связи. Есть лишь случайная связь, как в романах ужасов и сентиментальных романах. Это низкопробный литературный трюк, а не шедевр высокой поэтики и набожности». И в отношении ремесла Сони: «Перед нами типичный штамп. Мы должны поверить автору на слово. Но настоящий художник не допустит, чтобы ему верили на слово» [39]39
Там же. С. 190.
[Закрыть].
Как правило, никогда не бывает совершенно очевидным, что литература преимущественно говорит о самой себе, но это как раз то самое, что выставляется напоказ литературой модерна, иногда даже весьма настойчиво, например… у самого Набокова. Этот дискурс кроется в мельчайших деталях произведений, порой – в самой незначительной метафоре. Тут как раз и требуется второе прочтение, которое бы учитывало такой двойной смысл текста. Совсем как метафора, любое литературное произведение развивается в двух планах: один – открытый, эксплицитный, это – «содержание», другой – скрытый, имплицитный, и его смысл нужно искать в формальной организации текста. Без этой двойственности нет литературы, как нет литературы без метафоры. В каком-то смысле «форма» всегда является частью «содержания», и она всегда, только в разной степени, является его метафорой. Это объясняет, почему в каждом произведении всегда есть некоторая степень зеркальности, обеспечивающая ему структуру еп abyme,«текста в тексте», без которой никогда не удается обойтись. Этого и не захотел увидеть Набоков у Достоевского (трудно поверить, что он правда этого не видел). Если перечитать «Преступление и наказание» и задаться вопросом, откуда появляется Свидригайлов, можно, конечно, ответить, что возникает из бреда Раскольникова, двойником которого сам же и является. Но можно также доказать, что он возникает из самой структуры текста: появляется в конце третьей части, произносит свое имя, представляясь, и эта же сцена повторяется в начале четвертой части, где он снова произносит свое имя. С первого взгляда может показаться, что это просто классический прием романа-фельетона, нужный только для того, чтобы читательский интерес не ослабевал до выхода следующей части (очередного номера журнала). Но мы находимся точно в середине романа (он состоит из шести частей), и этот повтор добавляет тексту новое измерение, а зеркальная структура становится метафорой раздвоенности героя.
Известно, что Достоевский писал свои романы достаточно быстро, так что можно предположить, что он создал эту устойчивую зеркальную структуру случайно. Но это совершенно неважно, а важно, что она там есть. Сознательно это было сделано или нет – ничего не меняет. Точно так же как совершенно не важно, сознательно ли Хармс, когда писал «Старуху», построил текст по схеме, напоминающей «Преступление и наказание», структурировав его тремя диалогами: первый – с самой старухой, главный диалог с Сакердоном Михайловичем (который стоит в центре произведения, так же как Свидригайлов) и, наконец, диалог с самим собой, который напоминает внутренние монологи Раскольникова со своим двойником.
Если пересмотреть под этим углом зрения историю литературы, понимаешь, что привычные категории (романтизм, реализм, модернизм и т. д.) не слишком хорошо работают, а иногда могут даже и помешать восприятию произведения. Творчество Достоевского приходится на период в истории русской литературы, который называют «реалистическим». По сути, это был период, когда интерес к форме был выражен слабо (это объясняет также упадок поэзии, наблюдавшийся в то время) и от литературы ждали представления реальности, про которую нас, с одной стороны, хотят заставить поверить, что это – «правда», а с другой стороны – что она единственный сюжет произведений, о которых идет речь. Но это, как мы видели, не совсем так. Иначе говоря, это было время упадка автореференциальной системы, которая действует независимо ни от чего в любом произведении искусства.
Исторически это было логическим продолжением использования самого понятия «натуральная школа», так же как и способ восприятия литературы, который эта школа навязала современникам. Эта тенденция сохраняла свои позиции в литературе и критике до конца XIX века, она была к тому же подкреплена идеологическими шаблонами, изобретенными критикой шестидесятых годов, которую формальные проблемы совершенно не интересовали. Главная идея состояла в том, что у литературы есть миссия: она должна «идти в народ». Для этого она должна быть «реалистической» – единственный способ описать социальную реальность, которую полагалось обличать. К тому же это надо было делать так, чтобы стало понятно «народу». Надо было стремиться к «искренности», к «простоте», а эти две характеристики идут вразрез с самой сутью литературы. Такая политизация литературы, а также «утилитаристские» идеи, которые из нее следуют, имели довольно серьезные эстетические последствия. Тому виной, в частности, и совершенно искусственное и антиисторическое увековечение, которое обеспечила этим идеям советская критика, когда были уничтожены все «формалистские» тенденции, сеявшие сомнения в правильности единственного назначенного пути.
Но, как было уже сказано, разговор литературы о себе самой никогда окончательно не прекращался, потому что вместе с ним умерла бы и сама литература, и у всех больших писателей эта составляющая берет верх, иногда вопреки воле самого писателя. Л. Н. Толстой может служить хорошим примером противоречий той эпохи, ведь он изо всех сил боролся против усложнения формы и старался в своих статьях об искусстве построить эстетические концепции именно на понятиях «искренности» и «простоты». Это было в конце XIX века, то есть во время грандиозных перемен, которые непосредственно и подвели к обновлению, принесенному модернистскими течениями начала XX века.
Толстой умер в том же 1910 году, когда Андрей Белый напечатал сборник статей «Символизм». Эта работа подводит итоги течению, господствовавшему в русской литературе в первом десятилетии нового века, и одновременно констатирует его закат. Совпадение значимо в том смысле, что теории великого романиста, иногда весьма пугающие, вошли в резкое противоречие с эстетической революцией, которая одновременно разворачивалась и была не чем иным, как очередным утверждением в своих правах модерна: ему все-таки удалось выжить, несмотря на несколько десятилетий приоритета «реализма» и в литературе, и в критике.
Символизм проложил дорогу более радикальным изменениям: сразу после него мы наблюдаем великий переворот, связанный с авангардом и затронувший не только литературу, но и пластические искусства, а также критику. В основе этой яркой вспышки лежал обновленный интерес к «форме» «как таковой», который связан с подчеркиванием – иногда весьма радикальным и даже агрессивным – автореференциальной составляющей произведения в такой степени, что стали появляться произведения, как, например, у беспредметников, которые говорят лишь о себе самих и полностью находятся в области чистого метадискурса (но сам он между тем абсолютно «реален»).
Дальше в истории русской литературы XX века будет, как мы знаем, происходить то же чередование двух тенденций, но в гораздо более политизированном контексте, чем прежде: после революции авангард и формалистов атакуют «пролетарские» писатели, которых поддержит власть, и в тридцатые годы установится примат социалистического «реализма».А между тем наблюдается более органическое развитие авангарда к деградированным формам, в том смысле что он (авангард) постепенно лишается своей утопической подоплеки и приближается к тому, что получило название «абсурда», – явление, которое можно констатировать по всей остальной Европе в это время. Одновременно делались попытки объединить эти две вечные для литературы тенденции.
Выдающимся примером такого стремления к синтезу можно назвать Набокова. Толстой хотел искоренить «запутанные завязки» и рассказывать «простые» истории; его противники-авангардисты были не менее радикальны и возвещали смерть романа, культ формы и обнажение автореференциального дискурса; Набоков же в своих романах устанавливает абсолютную гармонию притягательного содержания (на уровне нарратива, истории) и не менее значимого метанарративного содержания (истории истории), причем второе у него никогда не занимает такого положения, чтобы упразднялся первый уровень прочтения. И течение, которое потом назовут постмодернизмом,является более или менее удачной, иногда игровой и всегда – крайне свободнойреализацией такого сплава.
Очевидно, самый ценный урок, который можно извлечь из этих литературных процессов, – неизменность свободы творчества, которую на самом деле невозможно ущемить. «Освобождение слова», которое столь громко проповедовали футуристы, было освобождением в эстетическом плане, но XX век показал, что такая свобода может быть орудием борьбы, потому что она очень внятно утверждает свое существование, а еще в силу той чрезвычайной автономии, которую такая свобода предоставляет литературе. Можно сказать, что вся область, свободная от внелитературного содержания, оказывается, как видно из наших построений, залогом свободы и становится средством мощного сопротивления, если какая-нибудь внешняя сила хочет навязать литературе конкретное содержание. XX век в России оказался крайне подходящим временем для проявлений такой свободы. Именно им посвящена последняя часть нашей книги. Замятин, Эрдман, Булгаков, Ахматова, Хармс и многие другие литераторы, вышедшие еще из Серебряного века и из того самого авангарда, представителей которого начнут уничтожать с конца двадцатых годов, – сколько из них пошли наперекор власти, желавшей навязать литературе свои требования! Каждый на свой лад показал, что в политических условиях, когда малейший протест, выраженный прямо, приводил к немедленному аресту, утверждение «автономии» (а значит, и свободы) поэтического слова происходило в той области, где оно могло происходить свободно, в самых разных формах: смысл порождался самим текстом.

![Книга Письма: Николай Эрдман. Ангелина Степанова, 1928-1935 гг.[с комментариями и предисловием Виталия Вульфа] автора Николай Эрдман](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-pisma-nikolay-erdman.-angelina-stepanova-1928-1935-gg.s-kommentariyami-i-predisloviem-vitaliya-vulfa-257202.jpg)