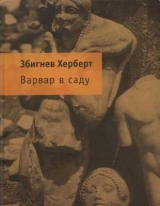
Текст книги "Варвар в саду"
Автор книги: Збигнев Херберт
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Кто эту бездну придумал
и ввысь ее зашвырнул.
Юлиан Пшибось{248}
Санлис – город, через который прошла история. Она пожила в его стенах несколько веков, а потом удалилась. Осталась заросшая травой арена, разорванное кольцо римско-галльских стен, которые штурмует дикий виноград, остатки королевского дворца, аббатство Сен-Виктор, преображенное ныне в гомонящий интернат, и собор, один из самых старых в большой веренице готических соборов Иль-де-Франса.
И тем не менее про Санлис отнюдь не скажешь, что это унылый город, что это город безнадежно печальный, как корона, извлеченная из гробницы. Он подобен серебряной монете с изображением некогда грозного императора, которое сейчас можно без всякой опасности вертеть в пальцах, как орех. Город стоит на невысоком холме перед лицом вечных лесов и опоясан Нонеттой.
Мы упомянули, что в Санлисе один из самых ранних готических соборов, и тут требуются определенные пояснения, поскольку хронология в этой сфере ненадежна и вводит в заблуждение. Инициатором – если можно так выразиться – готики был Сугерий, министр и регент Французского королевства, который, будучи назначен настоятелем коронационного собора Сен-Дени (нынче он находится в рабочем предместье Парижа и стал черным от заводских дымов), приступил к реконструкции старой каролингской церкви, расширив ее портал, хоры и подняв свод. При этом были использованы стрельчатые арки и крестово-нервюрный свод, что, по мнению некоторых исследователей, и составляет сущность готики. 19 января 1143 года над городом пронесся сильнейший ураган, выворачивавший деревья и разрушавший дома. Собор же, который еще пребывал в процессе строительства, не был поврежден, что святоши сочли за чудо, а архитекторы – за доказательство конструктивной прочности сводов нового типа. Так была открыта новая эпоха в архитектуре.
Однако вопрос достаточно спорный, имеют ли арки, перекрещивающиеся в форме буквы X в крестово-нервюрном своде (изобретение которых, кстати сказать, ошибочно приписывают строителям готических соборов), такое важное функциональное и конструктивное значение, как это считали Виолле-ле-Дюк, Шуази{250} или Ластерри. Инженер Сабуре и архитектор Пол Абраам в результате своих исследований высказали поразительное утверждение, что этот тип сводов является всего-навсего декоративным элементом, и вывод этот был основан на обследовании соборов, подвергшихся бомбардировкам в 1914 году, и на лабораторных исследованиях прочностных характеристик тогдашних строительных материалов. Проблема не так проста, как могло бы показаться с первого взгляда. Вдобавок историки искусства с эстетическими склонностями делают упор скорей на стиль, чем на конструкцию, на совершенно новую систему пропорций готики.
В соответствии с широко распространенным взглядом новый стиль в искусстве возникает тогда, когда отцветает старый. Однако, если речь идет о смене романского стиля готикой, ботаническая эта теория не находит подтверждения. В середине XII века, когда появилась готика, никаких примет упадка романского стиля не удается обнаружить. Его вытеснение не обосновывалось и желанием строительства еще больших церквей, так как собор в Везле немногим меньше парижского Нотр-Дам, к тому же и сама планировка соборов не претерпела никаких принципиальных изменений. Некоторые связывают рождение готики с политической экспансией Капетингов, борьбой духа Севера с духом Юга, что нашло свое кровавое выражение в крестовом походе против альбигойцев. Но совершенно определенно и несомненно можно сказать, что появление нового стиля отвечало новой духовной позиции. Сосредоточенным, созерцательным романским соборам было противопоставлено динамичное и порывистое сооружение, в котором свет, «эссенция божественности», начал играть доминирующую роль. И это сошлось с любовью Сугерия к пышности, богатству интерьеров и витражам, подобным при тысячах горящих свечек соцветиям драгоценных камней.
Сугерий – фигура живая и безумно интересная. В этом сыне слуги, наперснике королей, политике, незаурядном организаторе и строителе крылись под сутаной священнослужителя могучие страсти. Многих современников он раздражал своей любовью к роскоши. Когда он пишет о золоте, хрустале, аметистах, рубинах и изумрудах, неожиданно принесенных ему тремя аббатами для инкрустирования креста, просто чувствуешь, как в глазах у него вспыхивает вполне мирской блеск. Да и скромность тоже была не самой сильной его чертой. В расходах по аббатству он предусматривает суммы, которые пойдут на устройство после его кончины тризны по нему, что до той поры было привилегией только королей. В соборе он приказал поместить тринадцать надписей, оповещающих о его личных заслугах. На одном из витражей мы видим его у ног Девы Марии. Он благоговейно преклонил колени, но руки его полны движения. Вдобавок имя его написано такими же большими буквами, что и имя Пресвятой Девы.
Сугерий был утонченным писателем и обладал живым умом; его связь с учением неоплатоников несомненна. Он безмерно возмущал святого Бернарда Клервоского, представителя суровой цистерцианской ветви ордена бенедектинцев, и спор этих двух столпов Церкви исполнен такой же страстности, как спор классицистов и романтиков.
Впрочем, перестройка аббатства Сен-Дени производилась не только по причине амбиций и эстетических вкусов Сугерия, но и по необходимости. Вот как с темпераментом писателя XIX века описывает он праздничный день в базилике:
«Часто можно было видеть возмутительную вещь, когда плотная толпа людей, двигаясь к выходу, сталкивалась с теми, кто пытался войти в храм, чтобы почтить и поцеловать священные реликвии, Гвоздь и Венец Господа нашего, и при этом все оказывались так стиснутыми, что никто не мог и ногой шевельнуть. Людям не оставалось ничего другого, кроме как стоять на месте, подобно мраморным изваяниям, и единственной их возможностью было поднять крик. Огромен и нестерпим был страх женщин; у них, стиснутых, как в давильне, плотной массой сильных мужчин, лица казались обескровленными масками смерти; они пронзительно кричали, словно в родовых муках; некоторые из них оказывались затоптанными, иных на головах несли мужчины, из жалости оказывавшие им помощь; многие из последних сил выбирались в монастырский сад, где старались отдышаться, и больше уже ничего не хотели. Порой и братья, которые показывали верующим орудия Страстей Господних, выведенные из терпения злобностью и сварами людей и не имея иного выхода, убегали вместе с реликвиями через окно».
Торжественное освящение новых хоров в Сен-Дени происходило во вторую неделю июня 1144 года. То был не только большой день для Сугерия, но и переломная дата в истории архитектуры. В торжествах участвовали король Людовик VII, королева, сеньоры, архиепископы и епископы. А уж прелаты, когда вернулись в свои темные церкви в Шартре, Суассоне, Реймсе, Бове и Санлисе, наверное, не могли спокойно уснуть.
Уже в 1153 году санлисский епископ Тибо получает от короля рекомендательное письмо квесторам, которым предстоит разъехаться по Франции для сбора средств, необходимых, чтобы начать строительство нового собора. Работы продвигались медленно, и торжественное освящение произошло только в 1191 году. Но окончательно строительство завершено еще не было.
В середине XIII века был пристроен поперечный неф, а южную башню увенчали великолепным шпилем. Это красивейшая часть собора. От полета восьмидесятиметровой башни перехватывает дыхание. Фасад собора скудный, строгий, нагой. Шпиль Санлисского собора раскачивается в тучах, как дерево. Здесь безымянные строители прикоснулись к тайне органичной архитектуры.
Пожар развязал руки незадачливым обновителям. Южный фасад составляет резкий контраст с лицом собора, весь являя собой густое сплетение линий пламенеющей готики. Ничто не может соперничать с простой архитектурой великого XIII века, и изощренные гримасы готики последующих столетий предвещают смертельную усталость.
В собор ведут три портала; у двух боковых тимпанов редкий архитектонический мотив (колонны и арки, то есть абстракция, а не анекдот), а вот тимпан над главным входом открывает новую эпоху в истории иконографии. Именно в Санлисе вместо романского Страшного суда – могучий Христос во славе, сонм апостолов и святых, праведники, тяжеловесно взлетающие в небеса, и грешники, низвергаемые в адские бездны, – впервые появляется тема Девы Марии, подхваченная потом Шартром, парижским Нотр-Дам, Реймсом и другими соборами.
Иконографы воздерживаются от рискованных гипотез, но очень похоже, что внезапное появление темы Марии в монументальной готической скульптуре было ответом на любовную поэзию трубадуров, культ женщины и теорию куртуазной любви, которую Церковь сочла желательным сублимировать.
Успение, Воскресение и триумф Марии рассказаны просто и с темпераментом. Прекрасней всего «Воскресение». Шесть ангелов поднимают с ложа Марию, завернутую в кокон из сурового холста. Ангелы толстощекие, молодые, и играют они эту сцену с таким подъемом и таким размахом, словно на спинах у них не крылья, а ранцы.
Зов готики так же неодолим, как зов гор, и долго оставаться пассивным зрителем просто не получится. Это вам не романские соборы, где с полукруглого свода стекают капли утешения. Готический собор апеллирует не только к глазам, но также и к мышцам. Головокружение перемешивается с эстетическими впечатлениями.
Начинаю подъем на башню. Сперва лестница с отчетливыми еще ступенями, как каменистая дорога. Вскоре выхожу на широкую платформу трифория. Впечатление такое, будто тут пронеслась каменная лавина. В беспорядке валяются маскароны{251}, обломанные головы святых. Взгляд вниз и вверх. Я посередине между каменным сводом и плитчатым полом нефа.
Дальше подъем идет гораздо трудней. Ступени стерлись, часто приходится искать, за что ухватиться. Наконец добираюсь до очередной платформы – не слишком широкой галерейки, находящейся прямо над главным порталом. По обеим сторонам две вершины – башни со стройными остриями шпилей. Позади – словно огромный шалаш из еловых лап – крыша центрального нефа.
Восемь веков превратили это строение в некое образование, близкое к природному. Шапки мха, трава между камнями и ярко-желтые цветы, вырастающие из расселин. Собор подобен горе, и никакой стиль позднейших эпох – ни ренессанс, ни, само собой, классицизм – не вынес бы такого симбиоза архитектуры с растительностью. Готика, она естественна.
Есть здесь и животные. Из-за каменного выступа на меня смотрит выпуклыми золотыми глазами большущая ящерица. На недоступных каменных уступах греются на солнышке псоглавые чудища. Сейчас весь этот зверинец спит. Но, наверное, когда-нибудь (возможно, то будет день Страшного суда) все они сойдут по каменным ступеням в город.
Галерейку украшают четыре изваяния. Адам и Ева и двое святых обладают очарованием народной скульптуры. Особенно хороша Ева. Крупнозернистая, волоокая, приземистая. Тяжелый поток густых волос сплывает на ее широкие теплые плечи.
Надо двигаться дальше вверх. Легкий подъем кончается, начинается верхняя часть. Это вертикальная труба. Иногда становится совсем темно, я карабкаюсь вслепую, цепляясь обеими руками за стену. На многих участках вместо ступеней каменистая осыпь. Останавливаюсь все чаще, жадно хватаю ртом воздух. Иногда скальную стену разрывает маленько окошечко, в которое врывается яркий свет, и на какой-то миг от него слепнешь. Сквозь эти прорывы из темноты видны облака и небо. Я нахожусь высоко в каменной горловине, открывающейся в пространство.
Ступени кончились. Передо мной стена, на которой я должен искать упора. Будь она чуть понаклонней, являла бы собой типичный скальный навес. Подниматься приходится вертикально, балансируя всем телом. И вот круговая платформа – конец подъема. В висках стучит кровь. Я вжался в маленькую скальную нишу. Подо мной обрыв в несколько десятков метров. Спокойно дышат далекие поля. Они плывут к глазам как успокоение.
«Каменщик Абрахам Кнупфер поет, держа в руке кельму, поет, повиснув в воздухе на лесах, устроенных так высоко, что перед глазами его готические буквы стихов на большом колоколе, а под ногами и церковь со своими тридцатью стрельчатыми арками, и город со своими тридцатью церквями.
Он видит, как каменные пасти водостоков отрыгивают потоки шифера в запутанную бездонность галерей, окон, балконов, звонниц, башенок, крыш и деревянных связей, к которым прильнуло серым пятном ощипанное, недвижное крыло ястреба».
Вниз спускаюсь так же долго, как поднимался. И наконец со сложенными крыльями и памятью полета выхожу в узкую улочку.
Напротив собора остатки королевского дворца, прислонившегося к мощным галло-римским стенам. Дворец этот охотно посещали короли двух первых династий, пока вкусы их не изменились и они не переместились в Компьень и Фонтенбло. Камни накладываются друг на друга, как геологические пласты: римская база колонны, следы меровингской постройки, романская и готическая арки.
Рядом Musée de la Venerie (музей охоты), который путеводитель расхваливает, объявляя единственным в Европе, и рекомендует обязательно посетить. По сути, это унылый склад труб, охотничьих рогов, чучел животных, закрепленных на деревянных дощечках копыт вместе с заплетенной косичкой снятой шкурой, а также портреты герцогов, виконтов и собак. Все это размещено достаточно методично, в стремлении дать максимально полное знание об охоте; пример тому циклы рисунков, изображающих разнообразные падения с лошади – на голову, спину и т. д. или этапы охоты на оленя. Я узнал, что красивое слово «аллали» означает всего-навсего, что подраненное животное приканчивают. В расположенном поблизости небольшом очаровательном дворце, к которому спускаешься по узким улочкам, находится музей археологии и скульптуры.
Ближний лес Алатт в римские времена был чем-то вроде священного курорта. Каменные люди на бывших вотивных{252} барельефах задирают каменные рубахи и демонстрируют стыдные части тела. Не знаю, исследовались ли эти барельефы историками науки, в особенности медицины, но в любом случае они представляют поистине бесценный научный материал. В Дижоне в лапидариуме находятся каменные легкие, принесенные в дар богу каким-то античным чахоточным. На первый взгляд, изваянные головы выглядят как портреты курортников. Но, право, стоит наклониться и внимательней к ним приглядеться. Да. Это лица идиотов, меланхоликов, дебилов, и вырезавший их, даже не скульптор, а, скорей, каменщик, ставил диагноз с четкостью психиатра.
На втором этаже музея, где выставлена монументальная готическая скульптура, взгляд привлекает голова «Сумасшедшего». Вероятней всего, это голова одной из соборных скульптур, и владелец ее занимал на лестнице существ{253} место неподалеку от пресмыкающихся. Нет, это не безумец, а безобидный дурачок, посмешище города, из тех, кто ходит в красном колпаке и кукарекает. Глаза у него пустые, как скорлупа куриного яйца, рот полуоткрыт словно бы в извиняющейся улыбке. Рядом один из шедевров ранней готической скульптуры, так называемая «Голова пророка» – этюд благородной мудрости и человеческого достоинства. Да, ваятелям эпохи готики был хорошо ведом диапазон людского рода.
Блокнот и тетрадь для эскизов отправляются в карман, и начинается самая приятная часть программы – фланирование, а именно:
я брожу без всякого плана, то есть иду куда глаза глядят, а не куда велит путеводитель,
разглядываю экзотические лавки и мастерские, как-то: слесаря, бюро путешествий, похоронное бюро, глазею по сторонам, поднимаю камешки, разбрасываю камешки,
попиваю вино в самых скромных кафе «У Жана», «Малыш Ватель»,
заговариваю с людьми, улыбаюсь девушкам,
прижимаюсь лицом к стенам, стараясь уловить запахи,
задаю традиционные вопросы лишь для того, чтобы проверить, не иссякла ли людская благожелательность, посматриваю на людей с иронией, но и с любовью, наблюдаю за игрой в кости,
захожу в антикварную лавку и спрашиваю, сколько стоит музыкальная шкатулка черного дерева и можно ли ее послушать, а потом ухожу – без нее,
изучаю меню дорогих ресторанов, которые обычно вывешиваются на улице, и погружаюсь в сладострастные размышления: с чего начать – с омара или с устриц; кончается же все посещением кафешки «Удачно на углу»; хозяйка – милая женщина, у нее больное сердце, и она угощает напитком, именуемым «Рикар» и имеющим отвратительный анисовый привкус; проглотить его можно только из уважения к пристрастиям туземцев,
самым подробнейшим образом прочитываю программу праздника и список призов, которые можно выиграть в вещевой лотерее для солдат,
а также все прочие объявления, особенно рукописные.
Тень движется по диску солнечных часов. В плотном осеннем воздухе Санлис дремлет, как пруд под пленкой ряски.
Пора ехать дальше. По дороге на вокзал прохожу мимо церкви Сен-Пьер и церкви Сен-Фрамбюр. Строительство обеих было начато на переломе XI и XII веков. Сейчас обе не действуют.
В первой располагается рынок, во второй гараж. Богатый народ эти французы.
ШаалисВ этом старинном прибежище императоров уже нечем восхищаться, разве что руинами монастыря с аркадами в византийском стиле; их последний ряд выходит на заброшенные пруды.
«Сильвия»
На вокзале в Санлисе, что находится рядом с памятником погибшим солдатам, шедевром патетического уродства, я сел в дребезжащий автобус, который идет в Шаалис. По этой же дороге трясся в одноколке Жерар де Нерваль вместе с братом Сильвии, отправившись на представление, где он в последний раз увидел Адриенну, одетую ангелом.
В литературной географии французского романтизма Валуа занимает такое же почетное место, какое у англичан занимает Шотландия. Жерар де Нерваль посвятил этим местам «Сильвию», написанную за два года до смерти, когда для него угасали огни Востока и он после эпохи энтузиазма и любви вступал в эпоху отчаяния. Круг его путешествий сузился до окрестностей Парижа, маленьких забытых городков, бедных, как голубятня, захолустий, где за зелеными ставнями в окне, увитом розами и виноградом, покачивается клетка со славками-завирушками. Нет ничего более успокоительного, чем провинциальная ночь в гостинице «Образ св. Иоанна», в комнате со старомодными ткаными обоями и зеркалом-трюмо. Вечерами на лугах девушки в белом пели и плели венки, а ночью лодки с флажками везли молодежь на Киферу. В сырых лесах Валуа среди развалин монастырей и замков «Вертер, но за вычетом пистолетов» охотится на химер.
Художники и поэты-романтики вовсю славили руины аббатства. Остается только пожалеть, что до нашего времени сохранилось так мало, поскольку церковь в Шаалисе принадлежит к первым готическим сооружениям цистерцианцев. Размеры ее были весьма впечатляющие – 81х27 метров, а оба крыла мощного трансепта заканчивались пятью лучеобразными капеллами. Сохранились стебли колонн с чистыми, как музыкальные знаки, капителями. Аббатство подобно покинутому гнезду под высоким сводом небес. Мощно напряженные арки, контрфорсы, пилястры, освобожденные от давления камня, отражают натиск бесконечности.
Слева от руин дворец XVIII века, построенный Жаном Обером, тем самым, который строил Большие конюшни в Шантийи. А в нем коллекция, носящая имя Жакмара-Андре. Этому много сделавшему для искусства семейству в Париже принадлежали еще одна коллекция и особняк на бульваре Османна (ныне прекрасный музей). Один художник, находящийся в родстве с аристократией, рассказывал мне, как во времена, когда нынешний музей еще был частным особняком, он присутствовал на обеде, во время которого хозяйка дома язвительно выговаривала мужу за то, что тот упрямо держит в столовой «этого ужасного Тициана».
Коллекции в Шаалисе далеко до парижской, это типичный bric à brae, то есть лавка старьевщика, очаровательная, но немножко раздражающая. Античные бюсты XVIII века, тяжелые, как кухонные запахи, натюрморты голландцев, вазы, барометры, ширма с обезьянками, самовары, копия мраморного трона Великого Могола{254} и Джотто. Джотто этот не понравился мне с первого взгляда. Два сухих, традиционных панно, тусклые цвета. Я поделился своими сомнениями с одним из музейных сторожей в темно-синем мундире с серебряными пуговицами. Он стоял у стены, ведя, как это свойственно лицам его профессии, таинственное существование полувещи-получеловека. Медленно-медленно подняв змеиные веки, он выслушал мои соображения, после чего прошипел, что в музее Жакмар-Андре нет подделок. Не было, нет и не будет. Я оставил его в покое у стены. Когда он окончательно иссохнет, его заменят алебардой или стулом.
На втором этаже в двух маленьких комнатках экспонаты, напоминающие о Жане Жаке Руссо. Несколько портретов, писанных явно не с натуры, на одном из которых изображен юноша, спящий на скамейке в парке (J. J. sans argent, sans asile, a Lyon et pourtant sans souci surl’avenir passe souvent la nuit a la belle étoile[100]100
В Лионе Ж. Ж. без денег, без жилья и, однако же, без тревог о будущем частенько проводит ночи под звездным небом (фр.).
[Закрыть] – поясняет комментарий). В стеклянной витрине воротничок – не слишком чистый, что отрицательно характеризует спутницу жизни философа{255}, которую и без того терпеть не могут его биографы. Имеются также шляпа, перо и кресло, в котором автор «Исповеди» испустил последний вздох. Кресло, так сказать, гипотетическое, но до сих пор не найдено контркресло, и посему выставленный предмет мебели совершенно законно пользуется славой. На стене гравюра, представляющая последние минуты Жана Жака. Иллюстратор поместил на ней также и последние слова философа, в которых тот возглашает хвалу зелени, природе, солнечному свету и Богу, а также говорит о своей жажде вечного покоя. Ария длинная и неправдоподобная, как в опере.
Природные достопримечательности находятся неподалеку от дворца и носят романтически гиперболизированные названия Море песка и Пустыня. У моря диаметр чуть меньше километра. Выглядит оно так, словно в лес упал метеорит и выжег землю. Лес красивый, густой, березово-дубовый и буковый, то есть снизу медноцветный. Он представляет собой дикую часть эрменонвильского парка. Через лес проходит асфальтовое шоссе. По нему беспрерывно проносятся автомобили. Я единственный пешеход. Несколько машин снижают скорость – водители внимательно приглядываются ко мне.








