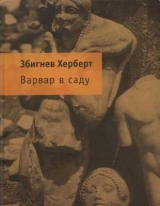
Текст книги "Варвар в саду"
Автор книги: Збигнев Херберт
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
Близится неминуемая расправа с графом Тулузским, поскольку крестоносцам ясно, что Раймунд VI – союзник сомнительный. Он делает все, чтобы спасти страну от войны, однако папский легат непреклонен. Монфор осаждает сердце страны, столицу Лангедока Тулузу, но в свой черед сам оказывается осажден в Кастельнодари. Под стенами этого города происходит кровопролитное, но ничего не решившее сражение.
Амбиции Монфора беспокоят папу до такой степени, что он даже на время приостанавливает крестовый поход и неожиданно жалует своему легату Арнауту Амаури титул герцога Нарбонского, что стало причиной многолетних раздоров этих двух людей, дотоле действовавших рука об руку.
Но тут в войну вступает арагонский король Педро II{169}, связанный с Лангедоком феодальными узами и к тому же свояк графа Тулузского, а также вождь крестового похода против мавров, которым он недавно нанес сокрушительное поражение под Лас Навас де Толосой. Уже неоднократно, правда без всякого результата, он пытался играть роль посредника в войне своих соседей с французами, а теперь, осененный славой победителя мавров, старается объяснить папе, что война против еретиков превратилась в варварское завоевание и колонизацию христианской страны.
Аргументы его не подействовали, и тогда Педро II с лучшими рыцарями Арагона и Каталонии в сентябре 1213 года перешел через Пиренеи и присоединился к Раймунду VI. Когда обе армии близ города Мюре готовились к сражению, соотношение рыцарей составляло 2000 к 900 не в пользу Монфора. На военном совете Раймунд VI предлагал дождаться атаки, после чего контратаковать и оттеснить противника в замок, где он вскоре вынужден будет капитулировать. Испанцам этот разумный план показался недостаточно живописным и рыцарственным. Тем временем Симон де Монфор с чисто наполеоновской стремительностью и удалью бросается на арагонцев, и обе армии схватываются в смертельном бою. «Грохот стоял, как будто высокий лес валился под ударами топоров». Педро II, тридцатидевятилетний могучий воин, силой не уступавший тигру, не руководил сражением, а находился в самом центре хаоса, какой являла собой средневековая битва. Он гибнет, и весть о смерти короля сеет панику в его армии. Внезапная атака Монфора с фланга обращает противника в бегство, в том числе и многочисленное войско графа Тулузского, которое даже не успело вступить в сражение. Лангедокская пехота, уже штурмовавшая Мюре, понесла большой урон; двадцать тысяч человек поглотила стремительная и глубокая Гаронна. А через полтора года Монфор, не потеряв ни одного воина, вступает в Рим катаров – Тулузу. Раймунд VI и его сын укрываются при дворе английского короля.
Монфор становится владыкой страны, которая больше, чем домен короля Франции. Судьба Лангедока кажется решенной окончательно и бесповоротно, однако на самом деле завоеватель владеет только той землей, что под ногами французских воинов.
16 июля умирает папа Иннокентий III, и при этом известии девятнадцатилетний Раймунд VII высаживается в Марселе, восторженно встреченный населением. Он немедленно осаждает Бокэр и вынуждает оборонявшего этот город брата Симона де Монфора капитулировать. Жители Тулузы возводят на улицах баррикады и изгоняют французов. Раймунд VI вместе с арагонцами переходит через Пиренеи и вступает в свою столицу, где люди приветствуют его со слезами радости на глазах. Монфор, впервые потерпевший поражение, безуспешно, несмотря на постоянно подходящие подкрепления, осаждает город. Побитый «лев крестовых походов» уже не тот, что был, и папский легат кардинал Бертран брюзжит, что великий воитель неожиданно стал бездеятельным и «лишь просит Бога, чтобы Тот ему даровал покой и после стольких страданий излечил смертью». На девятом месяце осады во время вылазки жителей Тулузы был ранен брат Симона Ги де Монфор. Полководец выбегает из шатра, где он слушал мессу, и тут камень, выпущенный из камнеметной машины защитников Тулузы, попадает «в стальной шлем графа, так что его глаза, мозг, зубы, лицо, челюсть разлетелись вдребезги, а сам он, мертвый, окровавленный и черный, рухнул наземь».
такой клич радости разнесся от Альп до самого океана.
Сын Симона де Монфора Амори лишь бледная тень отца. Еще дважды потерпев поражения, он отдает завоеванные земли королю Франции. 15 января 1224 года Амори де Монфор навсегда оставляет Каркасон, увозя с собой зашитое в бычью шкуру тело отца.
Так завершился первый акт трагедии; следующим стал поход Людовика VIII{170}, в который он отправился по наущению своей деятельной и амбициозной супруги Бланки Кастильской, делавшей все, чтобы не дать Раймунду VI договориться с папой. Новая экспедиция была для крестоносцев, несмотря на героическую оборону Авиньона, легкой военной прогулкой, однако их армия страдает от эпидемии, и на обратном пути умирает король Людовик VIII. Дело Монфора энергично продолжает новый королевский наместник в Каркасоне Юмбер де Божё, который отвоевывает утраченные крестоносцами замки и применяет новую тактику в борьбе с непокорившейся страной. «На рассвете, отслушав заутреню и позавтракав, – пишет историк Гильом де Пюилоран, – крестоносцы выступили, поставив в авангарде лучников… пока жители еще спали, они принялись уничтожать виноградники, расположенные рядом с городом; затем они переместились на окрестные поля, уничтожая все по дороге». Окрестности невзятой Тулузы и других городов превратились в пустыню. Продолжается война замков.
Наполеон Пейра в «Истории альбигойцев» определяет потери Юга за пятнадцать лет этой войны в миллион убитых. Другим исследователям цифра эта кажется завышенной, однако все соглашаются с тем, что страна была обескровлена. Хроники, как обычно, описывают смерть рыцарей и героев, но, следуя гомеровской традиции, равнодушно проходят мимо груд безымянных жертв.
Только перспективой окончательной гибели страны и смертельной усталостью можно объяснить то, что Раймунд VII, победитель Монфора, человек, не склонившийся перед королем Франции, в 1228 году подписывает в Мо договор, содержащий условия, какие обычно навязывают противнику, потерпевшему постыдное поражение. Суверен Лангедока не только принес присягу на верность Римской церкви и королю Франции, но и обязался бороться с ересью (особенно издевательским было обещание выплачивать по две марки серебра всякому, кто донесет на еретика). Было также постановлено разрушить стены Тулузы и тридцати других замков и передать королю большинство крепостей. Установлены были новые границы графства, причем от прежней территории осталась едва ли треть. Свою дочь Раймунд VII отдавал в жены брату Людовика IX{171} Альфонсу де Пуатье, а поскольку сына у графа Тулузского не было, это означало, что судьба Лангедока решена.
Торжественное скрепление договора присягой происходило в новопостроенном соборе Нотр-Дам в Великий четверг 1229 года. После победы над германским императором под Бувине{172} Капетинги{173} начали верить в свою миссию. Церемония во всех смыслах выглядела как унижение победителя Монфора и совершалась в присутствии молодого короля Людовика IX, королевы-матери, прелатов и народа Парижа. Легат Польши и Англии подвел Раймунда VII в одной рубахе и с веревкой на шее к ступеням алтаря, где его ждал кардинал-легат с розгой. «Горестно было смотреть, – пишет Гильом де Пюилоран, – как великого этого государя, который столь долго противостоял стольким народам, босого, в одной рубахе и штанах ведут прямиком к ступеням алтаря». Предание гласит, что граф, преклонив колени перед прелатом, разразился безумным смехом. Быть может, он вспомнил, как двадцать лет назад его отца вели под розгами к алтарю в Сен-Жиле. Когда он возвратился в Тулузу, там уже действовали комиссары короля и Церкви, вводя свое управление на землях, которые Раймунд VII утратил отнюдь не в сражении. Трубадур Сикар де Марвежольс горестно сетует:
* * *
Кардинал-легат Ромен де Сент-Анж, королевский советник и один из вдохновителей договора, подписанного в Мо, собрал в Тулузе Синод, которому предстояло заняться методами борьбы с альбигойцами. Были приняты сорок пять принципов выслеживания, допросов и наказания еретиков. Так родилась инквизиция, ставшая куда более эффективным оружием, чем мечи крестоносцев, а ее развитие и влияние в будущем на другие организации в значительной мере превосходит описываемые события.
Установления, принятые съездом в Тулузе, вполне достойны того, чтобы привести их хотя бы частично:
«В каждом приходе епископы назначают священника и трех мирян (или же больше, ежели возникнет необходимость) с безупречной репутацией, которые обязуются неутомимо и неусыпно выискивать живущих в приходе еретиков. Они будут тщательно обыскивать подозрительные дома, комнаты, подвалы и даже самые сокровенные тайники. Обнаружив еретиков или же лиц, оказывающих таковым поддержку, предоставляющих жилье либо опеку, они обязаны предпринять необходимые меры, дабы не допустить бегства подозреваемых, и одновременно как можно скорей оповестить епископа, сеньора или его представителя».
«Сеньоры обязаны старательно выискивать еретиков в городах, домах и лесах, где оные встречаются, и уничтожать их укрытия».
«Тот, кто позволит еретику пребывать на своей земле – будь то за деньги или по какой другой причине, – навсегда утратит свою землю и будет покаран сеньором в зависимости от степени вины».
«Равно покаран будет и тот, на чьей земле часто встречаются еретики, даже если это происходит без его ведома, а лишь вследствие нерадивости».
«Дом, в котором обнаружат еретика, будет разрушен, а земля конфискована».
«Представитель сеньора, ежели он усердно не обыскивает места, на которые пало подозрение, что в них обитают еретики, утратит свою должность без всякого возмещения».
«Каждый может искать еретиков на землях своего соседа… Также король Франции может преследовать еретиков на землях графа Тулузского и наоборот».
«Hereticus vestitus[70]70
Здесь: скрытый еретик (лат.).
[Закрыть], который сам отойдет от ереси, не может оставаться жить в том же самом городе или селении, если места эти почитаются пораженными ересью. Он переселяются в местность, которая известна как католическая. Обращенные эти будут носить на одежде два креста – один с правой, другой с левой стороны – иного цвета, нежели одежда. Им не дозволяется отправлять общественные должности и заключать правовые акты вплоть до восстановления в правах, полученного из рук папы или его легата, после соответствующего наказания».«Еретик, желающий вернуться в католическую общину не по убеждению, а из страха смерти либо по какой другой причине, будет заключен епископом в тюрьму, дабы отбыть там наказание (со всеми мерами предосторожности, дабы он не смог склонить других к ереси)».
«Все совершеннолетние прихожане обязуются под присягой епископу блюсти католическую веру и всеми доступными им средствами выискивать еретиков. Присяга возобновляется каждые два года».
«Подозреваемый в ереси не может быть врачом. Когда больной получит от священника Святое причастие, следует старательно стеречь его и не допускать, чтобы к нему приблизился еретик либо подозреваемый в ереси, поскольку подобные визиты влекут за собой печальные последствия».
Поначалу инквизиция была в руках епископов и местного духовенства, однако оказалось, что местные священники не спешат с введением в действие этой жестокой машины. В 1233 году папа Григорий IX{174} передает инквизицию в ведение доминиканцев. С тех пор они подчинялись только папе, и только он один мог отменить вынесенные ими приговоры, что представляло собой важнейшее изменение и превращало инквизицию в автономную силу с огромными прерогативами.
Последовавшие правовые акты еще более ужесточили принятые в 1229 году положения Тулузского синода. Каноны Синода в Арле, в частности, постановляют, что тела умерших еретиков будут эксгумированы и сожжены на костре. Волна притворных обращений вынуждает инквизиторов использовать все более суровые предупредительные меры. Строятся тюрьмы, в которые до конца дней заключают всех тех, кто симулировал обращение в католичество. В 1243 году съезд в Нарбоне постановил, что никто не может быть освобожден из тюрьмы по причинам гражданского состояния (семейные обязательства, дети), а также по здоровью и возрасту. Явным отступлением от процедуры, принятой в римском праве, является постановление о том, что имена свидетелей не будут сообщаться обвиняемому. В делах о ереси допускаются показания преступников, соучастников преступления и людей, приговоренных к лишению чести. Не отметаются также свидетельства, мотивом которых являются желание причинить вред обвиняемому и явная к нему враждебность.
История сохранила имена двух первых инквизиторов. То были брат Пейре Сейла, сын богатого горожанина из Тулузы, один из первых сподвижников св. Доминика, и Гильем Арнаут родом из Монпелье. Оба взялись за дело с безмерной энергией, выразившейся в том, что сразу же после назначения заключили в тюрьму и почти тотчас произвели казнь Вигороса де Баконья, считавшегося главой еретиков в столице графства. Гильем Арнаут разъезжает по окрестностям, приводя людей в ужас своей бурной активностью, которая вызвала беспокойство графа. Раймунд жалуется папе на противозаконную процедуру инквизиторов: допрос свидетелей при закрытых дверях, отказ подозреваемым в помощи адвокатов, ведение процессов против умерших и нагнетание такого террора, что напуганные люди доносят на невиновных. «Они возбуждают страну, и в результате подобных злоупотреблений народ обращает свое недовольство на монастыри и духовенство».
На основании вышесказанного может возникнуть впечатление, будто инквизиторы располагали огромной силой, однако у этих двух доминиканцев никаких собственных средств и людей не было, и опирались они исключительно на помощь клира и светской власти. Лишь впоследствии им дано было разрешение иметь вооруженный эскорт, судебных помощников, нотариусов и присяжных, но свита инквизитора не должна была превышать восьмидесяти человек. Так что только огромной энергией, глубокой убежденностью в своей миссии и провоцированием мученической смерти можно объяснить развитие этого института.
Среди великого множества произведений, посвященных борьбе ордена доминиканцев с ересью, самой поразительной является фреска Андреа да Фиренце{175}, находящаяся в Испанской капелле флорентийской церкви Санта Мария Новелла. Братья-проповедники переубеждают катаров, и те, устыдясь, разрывают свои безбожные книги. Но это эвфемистическая версия истории. Правда изображена в нижней части картины и замаскирована звериными символами: собаки (Domini canes[71]71
Псы Господни (лат.). Игра на созвучии с названием ордена доминиканцев.
[Закрыть]) рвут на части волков (катаров).
Душевное состояние людей иллюстрирует дело тулузца Жеана Тисейре. Жил этот человек в предместье и, вероятней всего, был католиком. Он бродил по улицам города и обращался к людям со словами, в которых ощущался явный страх: «Послушайте меня, судари мои! Я – не еретик, потому что у меня есть жена, с которой я сплю, и сыновья. Я ем мясо, бывает, лгу и божусь, так что я – добрый христианин. Потому не верьте, если вам скажут, будто я отвергаю Бога. Ведь и вам тоже могут вменить то, в чем обвиняют меня, потому что эти проклятые желают преследовать порядочных людей и украсть город у нашего государя». Несмотря на огромное возмущение жителей столицы Лангедока, Тисейре был схвачен и без проволочек сожжен на костре.
Количество подозреваемых так велико, что Арнаут и Сейла не в состоянии допросить всех арестованных. Приговоренные к ношению креста, штрафу или к совершению паломничества живут в постоянном страхе, поскольку единственным окончательным приговором является смерть. Но покоя нет даже мертвым. Кладбища полны разрытых могил, из которых извлечены останки умерших катаров, чтобы очистить их в огне. Жестокость доминиканцев настолько беспредельна, что даже вызывает возмущение в других орденах. В Бельперше монахи укрывают в своем монастыре еретиков, и надо думать, то был не единственный случай.
Гильом Пелисон сообщает в своем «Хрониконе» историю, которая могла бы сойти за полный шума и ярости рассказ идиота, если бы не то обстоятельство, что хронист был очевидцем этого события, и его как помощника инквизиторов трудно обвинить в желании их очернить. Итак, 4 сентября 1235 года епископу Тулузы Раймундуду Фауга после торжественной мессы сообщили, что в одном из соседних домов умирающая старушка приняла консоламентум. Епископ в сопровождении священников отправляется в комнату умирающей дамы, и та, не вполне уже соображая, что происходит, и уверенная, что ее посетил епископ катаров, объявляет о своей принадлежности к еретикам. Ей предлагают перейти в католичество, но она отказывается, и тогда ее вместе с кроватью переносят на наскоро устроенный костер и сжигают. Совершив это, епископ и его свита возвратились в трапезную, «где с радостью отведали все, что им было подано, вознося благодарственные молитвы Богу и святому Доминику».
Подобные действия вызвали в городе волнения, которые перешли в беспорядки, когда инквизиторы обвинили трех консулов в поддержке еретиков (действительно светские власти делали все, чтобы спасать обвиняемых от приговора или помочь приговоренным согражданам бежать). В результате открытого столкновения доминиканцы и епископ Раймунд де Фауга были удалены из столицы. Однако после обмена резкими письмами между графом и папой инквизиторы возвращаются в Тулузу, и все начинается снова. Один из «совершенных», обратившихся в католичество, выдает многих катаров, что приводит к многочисленным процессам, в том числе и «посмертным». Кладбища разрыты, а останки вешают на оградах под крики: «Qui atal fara, atal pendra»[72]72
Кто так будет поступать, будет так же повешен (ст. – прованс.).
[Закрыть].
В 1233 году в Корде от рук толпы погибли первые мученики из инквизиторов, и с той поры акты сопротивления множатся. К тому же в городах, живших дотоле в мире, начинаются стычки между группами католиков и катаров.
Было бы несправедливо утверждать, будто все, кто попал в сети братьев-проповедников, шли на костер. Документы свидетельствуют о большом количестве помилованных; так, например, в 1241 году за одну только неделю было дано 241 каноническое прощение. Зато протоколы допросов становились источником точнейших картотек и сеющей страх убежденности: «им все известно». История (и не только средневековая) учит, что при полицейском режиме народ деморализуется, внутренне надламывается и утрачивает способность к сопротивлению. Даже самая яростная битва лицом к лицу не так губительна, как нашептывания, подслушивание, страх перед соседом и витающий в воздухе смрад предательства.
Есть смысл сравнить тогдашнюю процедуру судопроизводства с инквизиционной. Кодекс Юстиниана, на котором основывался уголовный процесс, обеспечивал обвиняемому ряд прав, возлагал на обвинителя доказательство преступления и исключал свидетелей, которых можно было заподозрить в пристрастности; в нем также содержалось требование очной ставки доносчика с обвиняемым. Однако в стране, пережившей двадцать лет войны и преследований, жители обретали способность менять кожу в зависимости от обстоятельств, и выследить катаров легальными способами было трудно. Чтобы поиск их стал более эффективным, следовало расширить клаузулу допустимости свидетелей. Адвокатская защита в принципе не запрещалась, но всякий, кто прибегал к ней, автоматически считался еретиком, так что практически пользы от нее никакой не было. Новым в сравнении с нормальным судебным процессом был допрос свидетелей при закрытых дверях, что стало основой успехов инквизиции и сеяло недоверие даже в самых сплоченных группах населения.
Итак, предшествуемая стоустой молвой, в стены города въезжает во главе с инквизитором процессия людей с перьями – нотариусов, канцеляристов, писцов – и людей с оружием – лучников, копейщиков, тюремных стражников. Они поселяются во дворце епископа или в монастыре, и объявляется «время милосердия», длящееся, как правило, неделю. Все, кто добровольно явится с повинной в этот период, не будут казнены, заключены в тюрьму, и у них не конфискуют имущество. Но взамен они дадут информацию, из которой сплетается сеть подозрений.
Люди, приходящие в этот период, признаются обычно в незначительных или воображаемых преступлениях, как, например, тот мельник из Белькера, который заявил, что не верил в помощь святого Мартина, когда строил мельницу. Но такой человек в мокрой от страха рубашке определенно знает много больше, и от него можно, к примеру, узнать, кто двадцать лет назад поклонился на улице «совершенному». Имена доносчиков сохранялись в тайне, и достаточно было показаний двух анонимных свидетелей, чтобы начать следствие. Инквизитор объединял функции, которые в нормальном судебном процессе разделены: был следователем, прокурором и судьей, выносящим приговор. Даже другие духовные лица, участвовавшие в процессе, не имели права голоса. Виновен или невиновен подсудимый, решала совесть одного-единственного человека.
Подозреваемому вручали повестку, велящую ему предстать перед трибуналом инквизиции. Допрашиваемый не знал обвинительного акта, что давало следователям громадное преимущество: обвиняемые зачастую рассказывали гораздо больше, чем ожидалось. После допросов их либо заключали в тюрьму, либо оставляли на свободе, но под надзором. Тюрьмы (в ту эпоху эта область архитектуры беспримерно развивалась) были жуткие, в чем можно убедиться, осматривая казематы в Тулузе и Каркасоне – черные ямы под землей, где невозможно было ни лежать, ни стоять в полный рост. Голод, жажда и цепи ломали самых несгибаемых.
Если подозреваемый проявлял стойкость, применяли пытки. Этот способ получения признаний широко использовался в светском судопроизводстве, когда речь шла о тяжких преступлениях, духовные же суды относились к нему крайне сдержанно; в любом случае считалось, что пытки не должны приводить ни к членовредительству, ни к пролитию крови. Широко была распространена порка, каковую производили с большой сноровкой и знанием, как причинить максимальную боль (в этой области имелись высоко ценимые специалисты). Булла Иннокентия IV{176} от 15 мая 1252 года узаконивает пытки.
Признание обвиняемого было, в сущности, чистой формальностью, так как для вынесения приговора достаточно было доносов двух человек. Но жизнь доносчиков была не из легких. Выдавший семерых «совершенных» был зарезан в собственной постели, а глашатая из Думенжа за такой же поступок неизвестные повесили на суку засохшего дерева. Так что доносчики предпочитали называть имена уже умерших либо тех, кто сумел укрыться в недоступных крепостях Монсегюр и Керибюс.
Костры, надо признаться, предназначались только для «совершенных» или же для абсолютно непримиримых и закосневших в ереси катаров. Остальным назначались канонические кары, которые тем не менее оказывали серьезное влияние на жизнь наказанных. Ношение креста на одежде, к чему приговаривались те, кто самолично и без принуждения признался в своих винах, приводило к бойкоту там, где широко была распространена ересь, и вызывало подозрения в доносительстве инквизиции.
Принудительное паломничество (при этом намеренно назначались отдаленные местности, что оказывалось серьезным финансовым испытанием для семьи приговоренного) длилось от пяти месяцев до нескольких лет, когда речь шла о рыцарях, которых отсылали в Святую Землю или в Константинополь. Подобное наказание могло быть назначено тому, кто во время плавания на корабле обменялся несколькими словами с катаром или, будучи одиннадцатилетним ребенком, по приказу родителей поклонился на улице «совершенному».
Ошибаются те, кто думает, будто протоколы инквизиции содержат потрясающий материал, который легко использовать в литературных целях. Диалог – в чем можно убедиться, читая обширное собрание, именуемое Collection Doat, – основан не на неожиданных вопросах, страсти, угрозах, сопротивлении и чувстве безнадежности, а на ужасающей монотонности. Зато в перечислении инструментария камеры пыток легко вычитать неподдельный ужас.
Что мы обнаруживаем в протоколах? Имена, местности, даты, и не многим более. «В Фанжо во время консоламентума, данного Ауджеру Изарну, присутствовали Бек из Фанжо, Гильем из Ла Иля, Арнаут де Ово, Журден из Рокфора»… «А то Арнаут попросил консоламентум в Монгардейле в доме своих родичей по имени Коварс»… «Дьяконы Бернард Кольдефи и Арнаут Гираут постоянно проживали в Монреале, и на их собрания приходили Раймунд из Санчоса, Петерия, жена Маура из Монреаля»… И так целыми страницами.
Бернар Ги, инквизитор, живший столетием позже, то есть в XIV веке, был автором поучительного труда с названием «Libellum de Ordine Praedicatorum»[73]73
«Книга о порядке проповедывания» (лат.).
[Закрыть], служившего учебником для инквизиторов, который позволяет понять, как происходили допросы альбигойцев.
«…Подозреваемого спрашивают, виделся ли он или познакомился где-либо с одним или несколькими еретиками; где с ними виделся, сколько раз и когда…
item, были у него какие-нибудь взаимоотношения с ними, где, когда, и кто его порекомендовал;
item, принимал ли он в своем доме одного или более еретиков; кого именно и кто их приводил; как долго они у него оставались, куда пошли, кто их навещал, слышал ли он их проповеди, и о чем они были;
item, выказывал ли он знаки почтения или знал тех, кто выказывал знаки почтения еретикам;
item, вкушал ли он с ними освященный хлеб, и каким образом они освящали этот хлеб;
item, здоровался ли он или видел, как другие лица здороваются с еретиками;
item, верил ли, что принявший еретическую веру может быть спасен…»
Другие вопросы касались взглядов и прошлого людей, с которыми сталкивался подозреваемый.
Подобная методика допроса лишь кажется тупой, негибкой и неэффективной. На самом деле эта холодная, безличная логика освобождала допрашивающего от ведения психологической игры, вникания в мотивы и обстоятельства, а допрашиваемого наполняла ужасом, какой человек испытывает всякий раз, когда сталкивается не с живым существом, а с суровой необходимостью. Обе сферы – морально-психологическая и сфера фактов – идеально отделены друг от друга.
* * *
Поэзия трубадуров становится объектом жестокого давления, как будто недостаточно того, что дворы и меценаты оказались в руках рыцарей с Севера. «Мир так сильно изменился, что невозможно узнать его», – сетует Бертран д’Аламанон. Епископы и доминиканцы призывают отринуть «песни, полные суетности», а папский легат берет с рыцарей клятву, что они никогда не будут слагать стихи. Место лирики (явление, кстати сказать, известное и по другим историческим эпохам) занимают тяжелые исторические бомбарды{177}, слагаемые благочестивыми виршеплетами. Одна из сохранившихся подобных поэм является попросту рифмованным переложением катехизиса и не была бы литературным произведением, если бы после каждой изложенной истины не следовал такой вот рефрен:
Если не веришь, обрати глаза к пламени, в котором гибнут
твои друзья.
Ответь же одним или двумя словами —
И либо ты сгоришь в этом огне, либо соединишься с нами.
В провансальской поэзии появляется идея «грешной любви», каковая излагается в занудных поэмах. «Breviaires d’amour»[74]74
«Наставления в любви» (ст. – прованс.).
[Закрыть] мэтра Мальфре Эрменгаута насчитывает 27 745 стихов. Схоластика начинает проникать в поэзию, и в вышеупомянутой поэме имеется глава «О мерзости ости тела». «Сатана, желая причинить страдания мужчине, привил ему идолопоклонническую любовь к женщине. Вместо того чтобы всем сердцем и всей силой разума пламенно любить Творца, мужчина отдает женщине то, что должен отдавать Богу… Знайте же, всякий, кто поклоняется женщине, поклоняется сатане и делает Богом беззаконного демона».
Разумеется, существуют еще истинные трубадуры, и, возможно, происходят их тайные съезды и встречи. Последний из них, Гираут Рикьер, умирает в 1280 году{178}, то есть почти через сорок лет после костров в Монсегюре. Голос его печален, как голос кузнечика в развалинах. Он был верен традиции – в течение двадцати лет питал идеальную любовь к супруге виконта Нарбонского и благодаря тонкости чувств стоит в ряду лучших представителей жанра. Под конец жизни он подпадает под воздействие новых веяний и пишет исключительно богородичные гимны, причем в них происходит весьма сомнительное смешение любви земной и любви небесной. «До недавнего времени я воспевал любовь, но, по правде сказать, не знал, что это такое, принимая тщетность и безумие за чувство, однако теперь подлинная любовь велела мне отдать свое сердце даме, которую я никогда не сумею любить и боготворить так, как она того заслуживает… Я не ревную ни к одному из тех, кто жаждет ее сердца, и молюсь за всех влюбленных в нее, молюсь, чтобы просьба каждого из них была выслушана».
На примере декадентской поэзии трубадуров можно, как на анатомическом препарате, изучать явление формализма. Он означает вовсе не переизбыток стилистических красот или метафор, но ситуацию, при которой прежние изобразительные средства пытаются передать новую, изменившуюся эмоциональную и историческую атмосферу. Добавим, что наивно было бы полагать, будто вся поэзия трубадуров была выражением кристальной чистоты и платонической любви. История сохранила имена знаменитых трубадуров-вольнодумцев, таких как Сордель{179} и Бертран д’Аламанон, прославившихся своими приключениями и весьма фривольными стихами.
Поэзия трубадуров всегда была слиянием огня и лазури, но, наверное, это не самый худший поэтический сплав. Цвет XXVI песни «Божественной комедии» – темный пурпур и холодный блеск. Душа поэта Арнальда Даньеля ждет в Чистилище дня освобождения. Данте создал прекрасный памятник своему учителю. Песнь завершается на провансальском языке, и в этом есть очарование уходящей красоты.
* * *
Вернемся, однако, к прерванной истории. Итак, подписан договор в Мо, и Тулузский синод распространил на страну власть инквизиции. Но не на всю, потому что в неприступных замках тлеют искры сопротивления. Кроме того, другие страны, в особенности Ломбардия, с которой еретики Тулузского графства и Прованса всегда поддерживали тесные отношения, с давних времен были оазисами относительного спокойствия и сейчас оказывают помощь братской церкви.
Что делать? Апостольская деятельность катаров была чревата многими опасностями, как всякая конспиративная деятельность. В городах обстановка создалась тревожная, потому «совершенные» встречались с единоверцами в горах, на лесных полянах, и, хотя их преследовали шпионы и предавали в руки инквизиции, они бесстрашно под покровом ночи обходили страну, провожаемые дружественными, враждебными или равнодушными взглядами. Порой им удавалось на время затаиться в обличье сапожника или пекаря, но чаще всего катары были лекарями, то была их излюбленная профессия, отвечающая позиции действенного милосердия.








