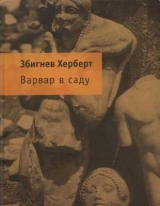
Текст книги "Варвар в саду"
Автор книги: Збигнев Херберт
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Об альбигойцах, инквизиторах и трубадурах
Путешествуя по югу Франции, постоянно наталкиваешься на следы альбигойцев. Зыбкие, правда, следы – руины, кости, легенда.
Я был свидетелем научной дискуссии, во время которой ученые профессора яростно полемизировали как раз об альбигойцах. Пожалуй, это одна из самых спорных проблем в современной медиевистике. Потому, наверное, стоит поближе присмотреться к этой ереси, уничтоженной в середине XIII века. Ликвидация ее непосредственно связана с ростом могущества французского государства на развалинах Тулузского графства. Тот день, когда догорали костры Монсегюра, был днем упрочения империи франков. В сердце христианской Европы была стерта с лица земли цветущая цивилизация, в лоне которой совершался исключительно важный синтез элементов Востока и Запада. Искоренение с религиозной карты мира веры альбигойцев, которая могла бы сыграть в формировании духовного облика человечества такую же значительную роль, как буддизм или ислам, совпадает с возникновением действовавшей в течение многих столетий организации, именуемой инквизицией. Так что нет ничего странного в том, что этот клубок политических, национальных, религиозных проблем распаляет страсти и не так-то просто поддается распутыванию.
Литература, выросшая вокруг проблемы альбигойцев, могла бы составить изрядную библиотеку. Однако оригинальные тексты этих еретиков можно пересчитать по пальцам одной руки. Случай нередкий в истории культуры. Не все творения избежали зыбучих песков и пожаров истории, так что человеческую мысль и страдание приходится порой воссоздавать из обломков, сомнительных пересказов и цитат, встречающихся в сочинениях противников.
Чтобы понять роль альбигойцев, действовавших на юге Франции в XI и XII веках, следует вспомнить, хотя бы бегло, их дальних предшественников. Несомненно, что в их ереси или, как предпочитают считать иные, религии отозвался голос Востока. Историки, исследовавшие происхождение этого течения, установили следующую генеалогию: гностики{154} (некоторые идут еще глубже – к Зороастру{155}) – манихеи – павликиане – богомилы – катары (выступавшие на юге Франции под именем альбигойцев, от названия города Альби). Общей и характерной чертой этих направлений был крайний дуализм, признающий действие во вселенной двух сил – Добра и Зла, восприятие мира как творения Демона (и, следовательно, неприятие Ветхого Завета), что вело к резко отрицательному отношению к телесному и к материи, а в сфере нравственной – к суровому аскетизму. Психологической основой этих взглядов была завороженность переполнявшим тогдашний мир злом, завороженность вполне понятная в эпоху потрясений, насилия и войн.
Гностики не пользуются доброй репутацией у многих историков философии, которые с удовольствием изъяли бы этот раздел из учебников, воспитывающих мыслителей с холодным аналитическим умом. Тех же, кому не чуждо эстетическое удовлетворение от общения с интеллектуальными конструкциями, неизменно будет привлекать теософия гностиков, их головокружительная лестница ипостасей, соединяющая небо с землей.
Подлинным и серьезным конкурентом для христианства стал Мани{156}, у которого есть точные даты рождения и смерти. Родился он в Вавилоне, но по происхождению был персом и воспитывался среди гностиков. Пророк, обладавший большим влиянием при шахском дворе, убежденный в своем мессианистве, совершает путешествие в Индию, привлекает толпы последователей, а кончается все тем, что, прикованный к стене по приказу шаха Бахрама, он умирает после двадцатишестидневной агонии. Открытия в Турфане и Файюме (то есть в местностях, расположенных за тысячи километров друг от друга) доказали, что Мани, называвший себя преемником Будды, Заратуштры и Христа, действительно пытался создать синкретическую религию, соединяющую элементы буддизма, маздеизма и христианства. Успех манихейства, религии Мани, был огромен, ее влияние распространялось на Китай, Центральную Азию, Северную Африку, Италию, Испанию и Галлию.
Множество последователей, мученическая смерть пророка, еще резче, чем у гностиков, акцентированный дуализм (борьба космических сил Добра и Зла переносилась в душу человека, разрывая ее надвое) сделали манихейство главным соперником христианства. Отцы Церкви не жалели для него анафем, а те, что были более философски настроены, вступали с ним в полемику, как, например, бывший манихей св. Августин{157} в трактате «Contra Faustum»[60]60
«Против Фауста» (лат.).
[Закрыть]. Он припирает оппонента к стенке, пытаясь доказать ему, что приятие двух принципов – Добра и Зла – ведет к многобожию. Фауст, однако, отражает диалектические удары: «Да, правда, что мы приемлем два принципа, но только один из них мы именуем Богом, второй же называем хиле, или материей, либо же, как обычно говорят, Демоном. Но если ты почитаешь, что это равнозначно установлению двоебожества, то в таком случае должен ты равно утверждать, что врач, предметом коего являются здоровье и болезнь, создает два понятия здоровья». После диспутов решающим аргументом стал меч, и в IV веке манихейство было потоплено в море крови. Только в Китае оно продержалось до XIII века, то есть до нашествия Чингисхана.
Захватывающим эпизодом во всемирной истории стали павликиане, дуалистская секта, ненадолго создавшая в VII веке в Армении, на границе Персии и Византии, собственное государство, верней сказать, полунезависимую колонию. Католикос Армении обвинял их в том, что они поклоняются солнцу, что является явным признаком манихейства, однако сами павликиане из политического, надо полагать, благоразумия подчеркивают свою связь с христианством. Их небольшая, но доблестная армия доходила даже до Босфора, и только Василий I{158} в 872 году разбил их в битве при Бартираксе. С побежденными он обошелся по тем временам исключительно гуманно, переселив их на Балканы, что, как выяснится, будет иметь весьма существенные последствия.
Вопрос дискуссионный, насколько вышеперечисленные династии еретиков осознавали, что, в сущности, являются продолжателями одной и той же религиозной мысли. Но тут мы как раз подходим к моменту, когда связи и преемственность становятся очевидными. В X веке в Болгарии появляются богомилы, еще более беззаветные, чем павликиане, приверженцы дуализма, утверждавшие, что чувственный мир – создание дьявола, а у человека, который есть смешение воды и земли, душа сотворена дыханием Сатаны и Бога. Богомилы выступают и против Рима, и против Византии. Они развертывают широкую апостольскую деятельность, добираются до Тосканы и Ломбардии на Апеннинском полуострове, а также до южной Франции. Там они находят исключительно благодатную почву, на которой вырастает могучая ересь катаров (от греческого слова «чистый»). В Северной Италии, Боснии и Далмации их называют патарами, во Франции же – альбигойцами.
Источники, как уже отмечалось, крайне скудные. Отметим главные. «Interrogatio Johannis»[61]61
«Вопрошание Иоанна» (лат.).
[Закрыть] (или «Scene Secrete»[62]62
«Тайное событие» (фр.).
[Закрыть]), апокриф XIII века, фальсифицирующий, как приписала рука инквизитора, Евангелие от Иоанна. Темой является беседа Иоанна с Христом на небесах о таких проблемах, как падение Сатаны, его царствование, Сотворение мира и человека, Пришествие на землю Иисуса Христа, Страшный суд. Текст этот, уснащенный многими стилистическими красотами, старше латинского катарства, а его содержание указывает на явное богомильское происхождение. До нашего времени дошли две версии – так называемая «каркасонская», находящаяся в великолепном собрании документов «Collection Doat», и «венская».
Единственной сохранившейся теологической книгой катаров является «Liber de duobus principis»[63]63
«Книга о двух началах» (лат.).
[Закрыть], датируемая концом XIII века. Текст ее далек от схоластической солидности трактата, разбитого на обязательные главы и параграфы. Она включает важный с доктринальной точки зрения и исключительно интересный – с философской раздел о свободе воли, а также космологию и полемику. Последняя свидетельствует, что катарство отнюдь не было монолитным течением, но распадалось на школы и по меньшей мере два крыла – умеренных и абсолютных дуалистов. Автор трактата (ученые предполагают, что был им итальянец Иоанн из Луго) стоит на позициях жесткой абсолютности, утверждающей, что Зло вечно так же, как Добро, или, онтологически говоря, бытие и небытие, понимаемые как космические силы, существовали всегда. Необходимо отметить, что полемика у катаров носила характер семейного спора и оппоненты не прибегали к такому убийственному аргументу, как анафема.
Наконец, «Ритуал катаров», литургический трактат, дошедший до нас в двух версиях: так называемой «лионской» – на лангедоке{159} и «флорентийской» – на латыни. Историки религии не всегда обращают надлежащее внимание на ритуал, а ведь именно в нем, а не в теологических концепциях ясней всего можно увидеть уровень спиритуализации изучаемой религии. Литургия катаров поражает своей безмерной строгостью и простотой. Они отвергали большинство таинств, например брак, что было следствием их негативного отношения ко всему плотскому. Однако допускали то, что сейчас назвали бы гражданским браком, и потому в протоколах инквизиторов по отношению к женам катаров часто появляется слово amasia, то есть сожительница, наложница. Исповедь была публичной, а главным таинством, называвшимся consolamentum, – духовное крещение, которое получали только взрослые и только после долгого периода приуготовления, молитвы и постов. Принявший его переходил из многочисленной категории «верующих» в узкую и готовую на все элиту «совершенных».
Торжественный этот обряд совершался в частном доме. Беленные известкой стены без всяких украшений, скудная мебель, стол, покрытый белоснежной скатертью. Евангелие и горящие свечи. Кандидат в «совершенные» отрекался от католической веры, обязывался не есть мяса и другой пищи животного происхождения, не убивать, не клясться, отказывался от всех плотских связей. Имущество отдавал церкви катаров. С этой поры он всецело посвящал себя апостольским трудам и делу милосердия, особенно помощи больным, что достаточно парадоксально для людей, которые пренебрегали всем телесным. И еще он давал торжественный обет не отречься от новой веры, и история сообщает нам лишь три имени «совершенных», которые испугались костра.
В ритуале катаров мы не найдем никаких признаков магии, инициации или гностицизма. Это был, как справедливо полагает Донден, скорей уж возврат к давней традиции первых веков христианства.
Изложение доктрины катаров требует использования тонкого аппарата теологических понятий, что значительно превосходит рамки этой работы. Поэтому придется ограничиться популярным пересказом основных положений.
Рене Нелли, издатель, переводчик и комментатор текстов катаров, утверждает, что принципиальное различие между катарством и католицизмом состоит в том, что для Римско-католической церкви Зло было карой за грехи и оставалось в определенном смысле прерогативой Бога, тогда как у катаров Бог сам страдает от Зла, но никого им не карает. Чувственный мир, а также человек, являющийся сплавом бытия и небытия, – это творение Сатаны, падшего первородного сына Бога. Ада нет, но есть перевоплощения, в процессе которых человек либо утрачивает свою телесность и поднимается к свету, либо погружается в нечистую материю. Катары отвергали Ветхий Завет (Бог Моисея был для них синонимом Демона) и считали Евангелие единственной книгой, которая достойна того, чтобы ее читать и размышлять над ней. Однако Христос был для них не воплощенным Богом, но эманацией Всевышнего. И поскольку Он был бестелесным бытием, страдать Он не мог (катары отвергали символику креста как доказательство грубой материализации духовных проблем). Католическую же церковь они считали сатанинским творением, «вавилонской блудницей». Концом света будет космический пожар. Души вернутся к Богу, а материя будет уничтожена. Из такой эсхатологии следовало положение, что после достаточно долгого периода перевоплощений все люди будут спасены – единственная оптимистическая черта этой суровой ереси.
Но ересь ли это? Фернан Ньель выдвинул смелое, но правдоподобное предположение, что катары были не еретиками, а создателями новой религии, совершенно отличной от римского католичества. Если мы примем его, то крестовый поход против альбигойцев предстанет в новом свете и моральные аргументы крестоносцев можно будет подвергнуть серьезным сомнениям.
Автор этого очерка является не профессиональным историком, а всего лишь рассказчиком. И это освобождает его от необходимости соблюдать научную объективность, позволяет выражать симпатии и пристрастия. Впрочем, от них не свободны и ученые. Достаточно сравнить две достаточно известные работы недавнего времени о крестовом походе против альбигойцев: Пьера Бельперрона и Зое Ольденбург – обе основываются на источниках, но оценки и выводы в них полностью противоположные. Не только те, кто действовал в истории, но и те, кто о ней пишет, чувствуют, как за спиной у них встает черный демон нетерпимости.
Некоторым оправданием для нас послужит тот факт, что мы рассказываем о побежденных.
* * *
В марте 1208 года папа Иннокентий III{160} торжественно объявляет крестовый поход против христианского графа Тулузы Раймунда VI{161} – кузена французского короля, свояка английского и арагонского королей, одного из самых крупных суверенов тогдашней Европы. Его обширное государство, включающее в себя также Прованс и примыкающее на юге к Пиренеям, было сильно не только благодаря союзам и феодальным узам. Многочисленные и богатые города были наследниками духа свободы и старой средиземноморской цивилизации. Управлялись они по римскому праву, а демократически избиравшиеся органы власти – городской совет, консулы – были в них фактическими суверенами. Самые крупные из них представляли собой, по сути дела, автономные республики с собственным судопроизводством и таким количеством привилегий, о каких еще долго мечтать не могли города Севера. В общественной жизни этих сообществ, в которых практически не было религиозных и расовых предрассудков, царила атмосфера свободы и равенства. Арабские врачи пользовались всеобщим уважением, а в составе городских властей не редкостью были евреи. Не только в столице страны «розовой» Тулузе, которая была третьим после Рима и Венеции городом Европы, но и в таких центрах, как Нарбонна, Авиньон, Монпелье, Безье, задолго до учреждения университетов действовали знаменитые школы медицины, философии, астрономии и математики, и в Тулузе, а не в Париже впервые преподавали философию Аристотеля, с которой познакомились при посредничестве арабов. Интеллектуальный уровень и образ мыслей на этих землях напоминает эпоху Возрождения, и именно здесь, а не в Италии забил его первый родник. Лангедок, язык Южной Франции, который после завоевания Тулузского графства оказался низведенным до уровня наречия, был для всей Европы языком поэзии, и в XII–XIII веках немецкие, английские, французские, итальянские и каталонские поэты усердно подражают великой лирике трубадуров. Даже Данте первоначально намеревался писать «Божественную комедию» на лангедоке.
Если верен метод поиска в единственном слове какого-нибудь языка ключа к пониманию умершей цивилизации, то тем же, чем для греков была «kalos kagatos»[64]64
Термин, означающий совершенного человека и гражданина, воплощающего аристократический идеал.
[Закрыть], а для римлян «virtus»[65]65
Доблесть, добродетель, мужество, стойкость и т. п. (лат.).
[Закрыть], для Юга было «paratge», слово, бессчетно встречающееся и повторяющееся в стихах трубадуров и означающее и честь, и благородство, и равенство, и отрицание кулачного права, и уважение к человеческой личности.
Так что можно смело утверждать, что на юге современной Франции существовала особая цивилизация и крестовый поход против альбигойцев был столкновением двух культур. Поражение, которое потерпело Тулузское графство, такая же катастрофа, как гибель цивилизации Крита или цивилизации майя.
Парадоксом этой цивилизации было сосуществование эпикурейского образа жизни с почитанием катаров, которые возмущали Римскую церковь своим чрезмерным аскетизмом. Чтобы объяснить эту загадку, ученые выдвигают предположение, что Дама в поэзии трубадуров является символом церкви катаров. Утверждение как минимум рискованное. Тем не менее исследования показали, что некоторые трубадуры находились под влиянием ереси (а также любовной арабской поэзии) и любовь ими понималась не как плотская страсть, а как способ духовного и нравственного совершенствования[66]66
Джауфре Рюдель пишет: «…есть у меня подруга, но я не знаю, кто она, и я никогда ее не видел… хоть безмерно люблю ее. Никакое счастье не будет для меня столь великим, как эта далекая любовь» (Прим. автора).
[Закрыть]{162}. То, что Лангедок наряду с Ломбардией и Болгарией был в наибольшей степени затронут катарской ересью, исторический факт, причем адепты новой религии рекрутировались из всех сословий – от крестьян до графов. Причины такого успеха новой веры следует искать в продажности Католической церкви на юге Франции, в специфической интеллектуальной и чувственной ситуации, а также попросту в притягательности самого катарства. В 1167 году под председательством болгарского епископа Никиты в Сен-Феликс-де-Караман происходит съезд альбигойцев, на котором утверждаются организация и ритуал южной церкви катаров.
Естественно, Римская церковь понимала, какую опасность для нее представляет распространении ереси. Следует признать, что при первых попытках овладеть ситуацией использовались мирные интеллектуальные средства, а именно с катарами устраивались диспуты на догматические темы, к ним посылались великие проповедники наподобие св. Бернарда Клервоского{163}, однако это не принесло успеха по причине нескрываемой враждебности к Католической церкви. «Базилики остались без верующих, верующие – без священнослужителей, священнослужители – без почитания».
Ситуация изменилась, когда папский трон занял тридцативосьмилетний Лотарио Конти, принявший имя Иннокентия III. Его лицо на фреске в церкви в Субиако дышит спокойствием и силой, однако духовное правление, которое он осуществлял в Лангедоке, представляется, мягко выражаясь, недоразумением и по причине пассивности местного клира, и по причине чрезмерного рвения папских легатов. Впрочем, новый папа, морально ответственный за крестовый поход против альбигойцев, отнюдь не был фанатиком, а его письма исполнены заботы о справедливости и – отбросив даже стилистику канцелярии – достаточно сдержанны.
Но вот о его посланнике – монахе-цистерцианце из аббатства Фонфруад Пьере де Кастельно, который отправился в Лангедок с миссией подавить ересь, этого не скажешь. Скорей всего то был фанатик, совершенно лишенный политического чутья, дипломатических талантов и элементарной деликатности. Назначенный папским легатом, причем с особыми полномочиями, в помощники он получает недоброй памяти Арнаута Амаури{164}. Их акция – сплошная цепь недоразумений и досад. Невелика польза была и от пламенных проповедей св. Доминика{165}, которого вместо мученического венца («умоляю вас, не убивайте меня сразу, а вырывайте все члены один за другим») ожидают смех и издевки. Без конца продолжаются диспуты, оказывающиеся столкновением разных миров, традиций и ментальностей, так что результат их был нулевой. Защитникам католической веры не всегда хватает терпения, как, например, св. Бернарду, который в Верфее вскричал: «Да падет на вас Господне проклятье, толстокожие катары, среди которых я тщетно искал хотя бы крупицу разума и понимания!» – или брату Этьену де Минья, который пытался исключить из философского диспута Эсклармонду, сестру графа де Фуа: «Ступайте к своей прялке, негоже вам, госпожа, судить о таких материях».
В конце концов Пьер де Кастельно приходит к выводу, что ересь возможно искоренить только силой, а поскольку организовать коалицию из местных феодалов, которая под предводительством Раймунда VI пойдет войной на катаров, не удается, он проклинает графа Тулузы: «Тот, кто лишит вас ваших владений, сделает благое дело, а убивший вас будет благословен». Так завершил свою миссию папский легат и, сочтя, что большего он сделать не может, отправился в Рим.
На рассвете 15 января 1208 года он был убит. Подозрение падает на людей Раймунда VI. Окровавленную рубашку мученика носят по городам и замкам северной Франции, призывая верующих в крестовый поход. Раймунд VI, видя близящуюся опасность, решает подчиниться воле папы. В июне 1209 года, сопровождаемый тремя архиепископами, девятнадцатью епископами, сановниками, вассалами, духовенством и народом, он, обнаженный до пояса, с веревкой на шее, шествует к каменным львам, которые стерегут портал красивейшего романского собора в Сен-Жиле, и на всем пути его бичуют розгами. Договор, который был подписан после этой церемонии, по сути является передачей графства под подлинную диктатуру Церкви. К тому же Раймунд VI принимает поразившее всех решение, а именно нашивает на свою одежду крест и выступает на соединение с армией крестоносцев, которая продвигается долиной Роны.
Огромная вереница людей, коней, железа, растянувшаяся на многие километры, уже одним своим видом вызывает страх. В состав армии входят фламандцы, норманны, бургундцы, французы и немцы. Предводительствуют ими епископы, архиепископы, герцог Бургундский Эвд II, графы Невера, Бара и Сен-Поля, бароны и рыцари, прославившиеся на полях сражений, такие как Симон де Монфор{166} и Ги де Левис{167}. А кроме того, в нее входят герольды, оруженосцы, а также наемники, страшная и беспощадная сила, рекрутировавшаяся из алчущих крови и добычи воров и разбойников, без которой не обходилась ни одна средневековая армия. Более всех ценились наемники, происходящие из Страны басков, Арагона и Брабанта. В армейской иерархии они стояли в самом низу, но в битвах зачастую становились решающим фактором. Если добавить вспомогательные части и толпы паломников, соблазненных возможностью благочестивого созерцания костров, на которых сжигают людей, то цифра в триста тысяч человек, приводившаяся хронистами, отнюдь не кажется невозможной, при том что рыцари составляли в этой людской массе весьма небольшой процент (примерно как в современной армии танки по отношению к пехоте).
Первым сеньором, против которого обратились мечи крестоносцев, был виконт Каркасона и Безье двадцатипятилетний Раймунд Роже из рода Транкавель. Напуганный успехами вражеской армии, он пытается вести переговоры с папским легатом. Безрезультатно. Тяжелая военная машина, «армия, какой доселе не видано», однажды запущенная, не может остановиться. Раймунд Роже запирается в Каркасоне, а крестоносцы по старинной римской дороге приближаются к Безье.
Город расположен на возвышенности над рекой Орб. Стены у него крепкие, запасов продовольствия достаточно. Епископ Безье пытается вступит в переговоры с крестоносцами, ноте представляют список из двухсот двадцати человек (или семей), которые подозреваются в ереси, и требуют их выдачи; консулы города на это с достоинством отвечают, что «предпочтут быть утопленными в соленом море», но не выдадут своих сограждан. Начинается осада. В день святой Магдалины (22 июля), когда военные действия еще не начались, дело приобретает фатальный для защитников города оборот. Группа горожан, обманутая бездействием огромной армии, выходит из городских ворот «с большими белыми знаменами и сломя голову мчится вперед, думая, что распугает врагов, как воробьев на овсяном поле». «Безумная неосторожность», потому как армия наемников тут же бросается в бой.
Они босые, одеты лишь в рубахи и штаны, вооружены ломами и ножами, но свирепость их безмерна. Им удается ворваться в город вместе с убегающими участниками неудачной вылазки. В городе они сеют неописуемый ужас; штурм стен длится всего несколько часов. В соборе Святого Назария, в церквях Святой Магдалины и Святого Иуды укрываются все уцелевшие жители. Наемники вышибают двери и врываются в храмы, убивая всех – младенцев, женщин, калек, стариков, молящихся священников. Колокола звонят по погибшим. Перебиты все.
Пьер де Во из Серне, монах-цистерцианец, хронист похода против альбигойцев, сообщает, что только в церкви Святой Магдалины были убиты семь тысяч человек, что, вероятней всего, преувеличение. Хотя по подсчетам историков в Безье было уничтожено тридцать тысяч (невинных) людей. Еще более ужасающей эту цифру делает тот факт, что перебиты были почти все обитатели города. Когда Арнауту Амаури, папскому легату, во время взятия города заметили, что среди избиваемых наверняка есть и католики, он якобы ответил: «Убивайте всех, Господь распознает своих». Знаменитую эту фразу большинство историков считают апокрифом, тем более что приводит ее хронист XIV века Цезарий из Хайстербаха. Вполне возможно, что Арнаут Амаури, человек скорей туповатый, чем циничный, произнес только первую половину ее. Но в любом случае слова эти являют собой превосходный комментарий к событиям.
Заспорив из-за раздела добычи, наемники и воины из отрядов сеньоров-крестоносцев поджигают город «вместе с собором, построенным мастером Гервазием, каковой собор от огня и великого жара с грохотом разломился пополам и развалился на две части». Крестоносцы с развевающимися на ветру значками движутся под стены тридцатибашенного Каркасона, где засел виконт Роже.
Нынешний город, реконструированный Виолле-ле-Дюком{168}, дает слабое представление о том, какова была эта опоясанная двойной стеной крепость. Первое, что бросается в глаза туристу, – чрезвычайно узкое пространство, стиснутое стенами (около десяти тысяч квадратных метров). В августе 1209 года город стал убежищем нескольких десятков тысяч человек, не считая скота и лошадей. Тем не менее сражались защитники с ожесточением, а молодой Раймунд Роже проявил талант и удаль опытного полководца. Союзником крестоносцев становится жаркое лето. Над Каркасоном висят тучи черных мух и смрад эпидемии. Отсутствие воды заставило каркасонцев после двух недель осады капитулировать.
Последующие события вызывают споры ученых, а свидетельства их участников Гильома де Тюделя и Гильома де Пюилорана полны недомолвок и не дают окончательного объяснения произошедшему. Между Раймундом Роже и крестоносцами не было подписано никакого договора, более того, вопреки всем правилам рыцарской чести виконта ввергают в узилище, и вскоре он умирает от дизентерии. Папский легат упорно настаивает на избрании среди французских сеньоров-крестоносцев преемника виконта, что в корне противоречит феодальному праву, тем паче что жив четырехлетний сын Раймунда Роже. Французские сеньоры и графы великодушно отказываются принять титул и наследие трагически умершего виконта. «Не было средь них никого, кто бы не понимал, что утратит честь, приняв эти земли», – пишет Гильом де Тюдель.
И тут на сцену выходит человек, чья черная тень на многие годы легла на Прованс и Лангедок. Звали его Симон де Монфор, и он долго оставался в памяти людей как воплощение полководца, который с горсткой преданных воинов способен низвергать империи. Этот прототип конквистадора, фанатик, умственный горизонт которого ограничен забралом шлема, человек твердой руки, честолюбивый и энергичный, обладающий незаурядным полководческим талантом, оказался идеальным кандидатом на титул виконта Каркасона и Безье. К тому же он прославился в IV крестовом походе и был непосредственным вассалом короля Франции.
Падение Каркасона распахнуло перед Монфором ворота многих замков, однако кончились сорок дней, в продолжение которых крестоносцы поклялись сражаться с еретиками, и воины вернулись на Север. С Монфором осталась горстка из двадцати шести рыцарей. Разумеется, все восемь лет неустанных сражений «лев крестовых походов» получал подкрепления. Страна была парализована страхом, но не завоевана.
В июне 1210 года Монфор осаждает Минерву, город, расположенный между Каркасоном и Безье в пустынной местности среди глубоких обрывистых ущелий. Крепость отважно обороняется, но осадная машина разрушает механизм, снабжающий замок водой, и защитники вынуждены вступить в переговоры. В соответствии с существовавшими правилами стороны договариваются, что еретики, которые попадут в руки к крестоносцам и отрекутся от своей веры, будут помилованы. Один из капитанов Монфора, Робер де Мовуазен, протестует. Он пришел сюда уничтожать ересь, а не миловать. Легат Арнаут Амаури успокаивает его: «Не бойтесь, мессир, таких, кто отречется, найдется немного». Так и было. На первом большом костре в сдавшемся городе были сожжены сто пятьдесят мужчин и женщин, которые, как меланхолично замечает бенедиктинец Дон Вессет, «погибли с отвагой, достойной лучшего применения».
Впрочем, война давно уже перестала быть экспедицией против еретиков и превратилась в великое сражение Севера и Юга, в народную войну, и хотя количество замков, взятых Монфором, растет, страна отнюдь не покорена. Сеньоры в своих орлиных гнездах выжидают благоприятного момента, города поднимают восстания, жители нападают на французские гарнизоны, оставленные во взятых крепостях, и вырезают их. Осады все дольше затягиваются и становятся все тяжелей. Безье пал в течение нескольких часов, чтобы взять Каркасон потребовалось две недели, а Минерва сдалась только через полтора месяца.
Крепость Терм крестоносцы осаждали уже четыре месяца. Замок был расположен очень выгодно, и, чтобы приблизиться к нему, как говорит свидетель осады, «нужно было броситься в пропасть, а потом карабкаться к небу». Осаждающие деморализованы, численность их уменьшилась вдвое, они голодают, а епископы, сопровождающие Монфора, после трех тяжких месяцев осады намерены его покинуть. «Лев крестовых походов» умоляет их остаться еще на два дня. Вечером второго дня комендант Терма соглашается вступить в переговоры. В городе высохли цистерны; вновь вода оказалась союзником крестоносцев. Однако ночью неожиданно пролился обильный ливень, и Раймунд, командующий гарнизоном, запирается в крепости. Идет яростная борьба, полная драматических эпизодов. Во время мессы был убит капеллан Монфора, а его другу, с которым он прогуливался, камень, пущенный из камнеметной машины, сносит голову. Монфор падает духом, подумывает о том, чтобы снять осаду и вообще удалиться в монастырь. Но в один из дней крепость умолкает, и крестоносцы с удивлением обнаруживают, что в ней нет ни живой души. На этот раз победили осажденных крысы: во время суши они пробрались в цистерны и отравили воду.
Война все ближе подходит к границам Тулузского графства и графства Фуа. В соответствии с планом методичного завоевания крестоносцы осаждают Лавор. Защищает его Аймерик де Монреаль, бывший союзник Монфора, сын Бланки де Лорак, прославленной «совершенной». Дама эта известна своей преданностью церкви катаров и делами милосердия. После героической обороны, длившейся более двух месяцев, стены Лавора пали. Аймерик де Монреаль и восемьдесят рыцарей были повешены. Поставленная в спешке виселица не выдержала такой тяжести, и многих приговоренных пришлось попросту заколоть кинжалами. Бланку де Лорак бросили в колодец и закидали камнями. Гигантский костер, самый большой за всю эту войну, унес жизни четырехсот альбигойцев, которые шли в огонь, распевая гимны «cum ingenio gaudio»[67]67
С искренней радостью (лат.).
[Закрыть].








