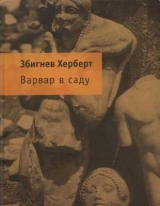
Текст книги "Варвар в саду"
Автор книги: Збигнев Херберт
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
Пьеро делла Франческа
Ярославу Ивашкевичу
И вот друзья говорят: «Ну, хорошо, ты там побывал, многое увидел, тебе понравились и Дуччо, и дорические колонны, и витражи в Шартре, и быки из Ляско – но все-таки скажи: что ты выбрал для себя, кто твой художник, которого ты не отдал бы ни за какого другого?» Вопрос куда серьезней, чем мог бы показаться, ибо всякая любовь, если она истинная, должна стирать предыдущую, полностью захватывать человека, быть тиранической и стремиться стать единственной. И я задумываюсь и отвечаю: Пьеро делла Франческа.
Первая встреча: Лондон – Национальная галерея. День пасмурный, на город опускается удушливый туман. И хотя на этот день у меня не было запланировано посещение музеев, надо было укрыться от нашествия душной влажности. Я и в малой степени не ожидал такого впечатления. Уже с первого зала стало ясно, что лондонский музей дает сто очков вперед Лувру. Ни разу в жизни не доводилось мне видеть столько шедевров. Возможно, это и не лучший метод знакомиться с произведениями искусства. В программу концерта наряду со Скарлатти, Бахом и Моцартом неплохо включить, скажем, Носковского{207}, не для того, чтобы унизить его, а нам в поучение.
Дольше всего я стоял возле живописца, имя которого мне было знакомо только по книгам. Картина называется «Рождество» и сразу захватывает необычной композицией, исполненной света и сосредоточенной радости. Впечатление было такое же, как в тот раз, когда я впервые увидел Ван Эйка. Трудно дать определение эстетическому потрясению подобного рода. Картина приковывает к месту, и уже нельзя ни отойти назад, ни подойти поближе, как, скажем, к современному холсту, – чтобы понюхать краску, рассмотреть фактуру. Фоном «Рождества» служит убогий хлев, верней, кирпичная полуразрушенная стена с легонькой наклонной крышей. На переднем плане на вытертой, как старый коврик, траве лежит Новорожденный. Позади него хор – пять обращенных лицами к зрителям ангелов, босоногих, мощных, как колонны, и чрезвычайно земных. Их крестьянские лица являют контраст просветленному, как у Бальдовинетти{208}, лику Мадонны, которая в безмолвном благоговении преклонила колени справа от младенца. Пылают хрупкие свечи ее прекрасных рук. На заднем плане массивное туловище быка, осел, двое, я бы сказал, фламандских пастухов и святой Иосиф, обращенный к зрителю в профиль. Два пейзажа по бокам – словно окна, сквозь которые льется пенящийся свет. Невзирая на повреждения, краски чисты и звонки. Картина эта написана художником в последние годы жизни и, как прекрасно кто-то сказал, подобна вечерней молитве, с которой Пьеро обращается к детству и рассвету.
На противоположной стене – «Крещение Христа». Та же торжественная архитектоническая основательность композиции, хотя картина эта написана много раньше «Рождества». Это одно из первых сохранившихся полотен Пьеро. Плотская основательность фигур контрастирует с пейзажем – легким, мелодичным и чистым. В положении листьев на карте неба есть нечто окончательное: мгновение претворяется в вечность.
Мудрый принцип Гете: «Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen»[84]84
Тот, кто хочет понять поэта, должен побывать в его стране (нем.).
[Закрыть], – в области живописи можно перетолковать так: картины, плоды света, надо смотреть под солнцем родины художника. Мне и вправду не кажется, что Сасетта будет на своем месте даже в самом лучшем нью-йоркском музее. И я решил совершить паломничество к Пьеро делла Франческа, а поскольку средства мои были более чем скромны, мне пришлось довериться удаче и случаю. Потому-то в описании этом нет столь любезной ученым хронологии.
Сначала я оказался в Перудже. Этот угрюмый город, пожалуй, самый мрачный из всех итальянских городов, скованный до сих пор еще стенами, лежит среди зелено-золотого умбрийского пейзажа. Город повис над Тибром на высокой скале, которую сравнивали с ладонью великана. Город этрусский, римский и готический, отмеченный печатью жестокой и буйной истории. Символизирует ее Палаццо деи Приори, могучее здание с украшениями из металла и стеной, выгнутой, словно железный брус в пламени. За площадью, на которой раньше был дворец Бальони, а сейчас стоят изысканные отели, начинается фантастический лабиринт улочек, лестниц, пассажей, подземелий – архитектурный эквивалент беспокойного духа горожан. «I Perugini sono angeli о demoni»[85]85
Перуджинцы либо ангелы, либо дьяволы (ит.).
[Закрыть], – говорил Аретино{209}. В гербе города гриф с разинутым клювом и хищными когтями. В период расцвета перуджинская республика господствовала в Умбрии, территорию ее защищали сто двадцать замков. Темперамент перуджинцев лучше всего мог бы характеризовать род Бальони, не многие представители которого умерли естественной смертью. Были они мстительны, жестоки и в дивные летние ночи с артистической утонченностью устраивали виртуозные избиения своих врагов. Первые «полотна» перуджинской школы – это военные знамена. Церкви здесь имеют характер бастионов, а знаменитый фонтан Джованни Пизано был не столько объектом эстетического любования, сколько хранилищем воды для защитников города во время частых осад. После долгих внутренних междоусобиц город попал под власть пап. Чтобы окончательно обуздать его, они построили в нем цитадель «ad coercendam Perusianorum audaciam»[86]86
Для усмирения дерзких перуджинцев (лат.).
[Закрыть].
Утром я завтракал в маленьком бистро, где было прохладно, как в погребе. Напротив сидел седой бородатый мужчина с узкими глазами и фигурой бывшего боксера. Я подумал, что, если судить по фотографиям, так мог бы выглядеть Хемингуэй. Но оказалось (об этом мне с гордостью сообщил хозяин бистро), это Эзра Паунд{210}. Соответствующий человек на соответствующем месте. Этот буян прекрасно чувствовал бы себя в компании с Бальони.
В середине XV века Пьеро делла Франческа, мастер уже вполне сформировавшийся и, как и все его коллеги, «странствующий живописец», отправился в Рим, где писал в покоях Пия II фрески, к сожалению, не сохранившиеся до наших дней. По пути к папскому двору он задержался в Перудже.
В здешней пинакотеке хранится его полиптих{211} «Мадонна с Младенцем в окружении святых». Потрясает фон картины. Зенит Кватроченто и – золотой фон! Загадку объясняет контракте монастырем Сан Антонио. Просто у святых отцов, для которых Пьеро писал картину, был консервативный вкус, и они пожелали, чтобы святые стояли не среди пейзажа, а в абстрактном райском сиянии. Наверное, это не самое лучшее произведение Пьеро, но и ему присуща характерная для художника убедительность в изображении фигур с мощными головами и руками, подобными кронам деревьев.
Но еще поразительней пределла{212} этого полиптиха, на которой изображен св. Франциск, принимающий стигматы. Ренессансный мастер обращается здесь непосредственно к традиции Джотто. Среди пустынного пейзажа на спекшейся, протертой пеплом земле два монаха, а над ними византийская птица – Христос.
На полпути между Перуджей и Флоренцией находится Ареццо. Город прижался к холму, на который нахлобучена каменная шапка цитадели. Здесь родился сын флорентийского эмигранта Петрарка, открывший впоследствии отчизну всех изгнанников – философию, а также Аретино, «язык коего язвил живых и умерших, и только о Господе Боге не говорил он плохо, объясняя это тем, что не знает Его».
Темная и суровая церковь Сан Франческо. Нужно пройти через весь огромный сумрачный неф, чтобы добраться до хоров, где находится одно из величайших чудес живописи всех времен. «Легенду Креста», цикл из четырнадцати фресок, Пьеро писал между 1452 и 1466 годами, то есть в период зрелости. Тема почерпнута из апокрифического Евангелия от Никодима и из «Золотой легенды» Якопо де Воражена{213}. Попытаемся (безнадежное предприятие) описать фрески.
«Смерть Адама». Согласно легенде, дерево Креста выросло из косточки, которая была положена под язык умирающему праотцу рода человеческого. Нагой Адам умирает на руках состарившейся Евы. У Пьеро старики не имеют ничего общего с теми дряхлыми развалинами, которые любил изображать Рембрандт. Они исполнены пафоса и мудрости умирающих животных. Ева просит Сифа{214} пойти в рай и принести маслину, которая должна исцелить Адама. На левой части фрески Сиф перед вратами рая беседует с ангелом. В центре поддеревом, безнадежно нагим, вытянувшись, лежит умерший Адам, и Сиф кладет ему в рот косточку. Несколько человек, склонив головы, стоят над покойником. Женщина, раскинув руки, безмолвно кричит, но в крике этом нет ужаса, в нем пророчество. Вся сцена патетична и по-эллински проста, словно стихи Ветхого Завета, написанные Эсхилом.
«Царица Савская у Соломона». По средневековому преданию, дерево Креста росло еще во времена Соломона. Царь велел срубить его и использовать для постройки моста над источником Силоамским. Как раз здесь царице Савской было ниспослано видение, и она пала на колени в окружении изумленных придворных дам. Художник изобразил поистине цветник женской красоты. Пьеро творил человека, как это дано только величайшим из великих. Черты его персонажей запоминаются навсегда, их нельзя не узнать, также как невозможно спутать женщин Боттичелли с женщинами других живописцев. У моделей Пьеро овальные головы, сидящие на длинных теплых шеях, и полные, четко обрисованные плечи. Форма головы подчеркивается плотно прилегающими волосами. Лица нагие, всецело предавшиеся созерцанию, напряженные, сосредоточенные. Глаза с миндалевидными веками почти никогда не встречаются со взглядом зрителя. Это одна из характернейших черт манеры Пьеро, который избегает дешевой психологии, превращающей живопись в театр жестов и гримас. А уж если он хочет изобразить драму (как здесь, ибо царица Савская одинока в своем мистическом постижении), то окружает героиню группой удивленных девушек и для усиления контраста пишет еще двух конюхов, простых стройных юношей, для которых конские копыта и шерсть важней всех чудес на свете. Пора дня, как и на многих других картинах Пьеро, неопределенная: то ли розово-голубой рассвет, то ли полдень.
Сцена продолжается, мастер ведет повествование, сохраняя единство перспективы, точно условное единство места в классицистском театре. Под коринфским портиком, написанным с безошибочностью архитектора, происходит встреча царицы Савской и Соломона. Два мира – двор царицы, состоящий из женщин, красочный и чрезвычайно театральный, и сановники Соломона, этюд суровой политической мудрости и достоинства. Ренессансное богатство одеяний, но без пизанелловских{215} орнаментов и деталей. Вельможи Соломона прочно стоят на каменных плитах пола, а их удлиненные, увиденные в профиль ступни приводят на память египетскую живопись.
В результате визита мост разбирают. И это тема следующей сцены, в которой трое работников несут тяжелое бревно. Они как бы предвосхищают крестный путь Христа на Голгофу. Фрагмент этот, однако, несколько тяжеловесен и, за исключением, может быть, средней фигуры, написан довольно наивно, что дает историкам возможность предположить, будто он выполнен учениками Пьеро.
«Благовещение» вкомпоновано в четкую альбертианскую архитектуру с великолепно уравновешенными массами и безошибочной перспективой. Строгость мрамора гармонирует со строгим тоном повествования. В тучах массивный Бог Отец, по левую сторону ангел и Мария – ренессансная, спокойная, скульптурная.
«Сон Константина». Здесь Пьеро покидает мраморные портики и пишет бронзово-золотой интерьер шатра Константина, один из первых сознательных светотеневых ноктюрнов в итальянском искусстве. Свет факела мягко моделирует двух телохранителей, а на переднем плане – фигуру сидящего придворного и погруженного в сон императора.
«Победа Константина» приводит на память одновременно и Учелло{216}, и Веласкеса, с той лишь разницей, что Пьеро ведет тему с античной простотой и благородством. Даже хаос кавалькады у него организован. Прекрасно зная принцип сокращения, он никогда не пользуется им ради экспрессивности, никогда не разбивает гармонию плоскостей. Вертикально поднятые копья подпирают утреннее небо, пейзаж истекает светом.
«Пытка иудея» – речь идет о человеке по имени Иуда, который знал, где укрыто дерево Креста, но, поскольку не желал выдать тайну, его по приказу Елены, матери императора, бросили в высохший колодец. На картине изображен момент, когда двое императорских слуг вытаскивают раскаявшегося Иуду из колодца на веревке, которая перекинута через блок, закрепленный на треугольном сооружении.
Сенешаль Бонифаций крепко ухватил его за волосы. Изображенное могло бы навести на мысль об этюде на тему жестокости, но Пьеро повествует о происходящем языком бесстрастным и обстоятельным. Лица персонажей драмы невозмутимы и лишены эмоций. Если и есть в этой сцене нечто ужасающее, то только треугольное сооружение с блоком и веревкой, к которой привязан осужденный. И вновь геометрия поглотила страсть.
«Отыскание и доказательство истинности Креста». Фреска разделена на две части, неразрывно связанные между собой и тематически, и композиционно. В первой сцене рабочие, за которыми наблюдает мать Константина, выкапывают из земли три креста. Вдалеке, в седловине долины, средневековый город – башни, остроконечные крыши, розовые и желтые стены. Вторая сцена представляет, как полуобнаженный человек, которого коснулись Крестом, восстает из мертвых. Мать цезаря и ее придворные дамы благоговейно созерцают воскрешение. Архитектурный фон как бы является комментарием к происходящему. Это уже не средневековый город-призрак, как в предыдущей сцене, но гармония мраморных треугольников, квадратов и окружностей, ренессансная зрелая мудрость. Архитектура играет здесь роль последнего, рационального доказательства истинности чуда.
Через триста лет после того, как Крест был найден, персидский царь Хосрой захватывает Иерусалим вместе с драгоценнейшей реликвией христианства. Император Ираклий{217} одерживает победу над ним. Сражение написано с размахом. Клубящаяся масса людей, коней и оружия только внешне напоминает знаменитые баталии Учелло. Зрителя более всего потрясает то, что фрески Пьеро исполнены величайшего покоя. Битвы Учелло оглушительны. Его медные кони сталкиваются крупами, вопли сражающихся и топот взлетают к жестяному небу и тяжело опадают на землю. У Пьеро движения словно бы замедленны, торжественны. Повествование эпически бесстрастно, а убиваемые и убивающие исполняют свой кровавый ритуал с сосредоточенной серьезностью лесорубов, валящих лес. Небо над головами сражающихся прозрачно. Развевающиеся на ветру знамена «клонят с высоты опущенные крылья, словно пронзенные копьями драконы, ящеры и птицы».
И вот, наконец, победитель Ираклий во главе торжественной процессии, босой, несет Крест в Иерусалим. Императорская свита состоит из греческих и армянских священников в красочных головных уборах странной формы. Историки искусства удивляются, где Пьеро мог видеть столь фантастические наряды. Но вполне возможно, что продиктовано это чисто композиционными соображениями. Склонный к монументальности Пьеро увенчивает головы своих героев, как архитектор венчает колонны капителями. Шествие Ираклия, финал золотой легенды, звучит торжественно и чисто.
Шедевр Пьеро сильно поврежден сыростью и неумелыми реставраторами. Цвета приглушенные, точно протертые мукой, а кроме того, из-за скверного освещения хоров смотреть фрески очень трудно, плохо видны детали. Но даже если бы от этой легенды сохранилась только одна-единственная фигура, одно дерево, кусочек неба, то по этим обломкам, как по фрагментам греческого храма, можно было бы реконструировать целое.
В поисках ключа к загадке Пьеро исследователи заметили, что он был одним из самых безличных, надиндивидуальных художников всех времен. Беренсон сравнивает его с анонимным ваятелем Парфенона и Веласкесом. Истоки мощи этого искусства в том, что в его персонажах, человеческих существах, разыгрывается патетическая драма полубогов, героев и гигантов. Отсутствие психологической экспрессии позволяет лучше воспринимать чисто художественные достоинства – форму, движение объемов и света. «Выражение лица зачастую бывает настолько лишним и мешающим, что порой для меня предпочтительней статуя без головы», – признается Беренсон. Мальро{218} же в творце «Легенды Креста» приветствует открывателя бесстрастности как доминирующего выражения лиц его персонажей: «Его скульптурная толпа оживляется лишь во время сакрального танца… это принцип современного восприятия, требующего, чтобы экспрессия живописца выявлялась в самой живописи, а не в фигурах, которые он изображает».
Над битвой теней, конвульсиями, воплями и яростью Пьеро делла Франческа выстроил lucidus ordo, извечный порядок света и равновесия.
Я думал, что не стоит заезжать в Монтерки, небольшую деревушку, расположенную в двадцати пяти километрах от Ареццо, – этакий каменный пруд, заросший ряской лазури и кипарисов. Но после письма друга изменил решение. Друг писал: «В Монтерки кладбище и часовня расположены чуть в стороне от дороги, на холме, метрах в ста за деревней, в которой появление чужой машины вызывает небольшую сенсацию. Подъезжаешь по дороге, обсаженной оливами, а по обе стороны от нее тянутся виноградники. Часовня и домик кладбищенского сторожа стоят на одной линии с моргом, но все так заросло виноградной лозой, что обрело вид совершенно буколический. Местные девушки и матери с детьми приходят сюда на вечерние прогулки».
Снаружи часовня желтая, а внутри известково-белая; возможно, даже барочная, хотя, в сущности, бесстильна. И притом настолько мала, что алтарь размещается в нише, а места в ней едва хватит на гроб и двух-трех сопровождающих. Стены голые, единственное украшение – помещенная в раму фреска, сильно поврежденная по бокам и в нижней части. В странствии через века ангелы с фрески потеряли сандалии, и какой-то бездарный реставратор заново их обул.
Пожалуй, это одна из самых вызывающих Мадонн, какую когда-либо осмеливался написать художник. Человечная, пасторальная и плотская. Волосы ее плотно прилегают к голове, открывая большие уши. У нее чувственная шея и полные руки. Нос прямой, набухшие губы плотно сжаты, веки опущены, сильно натянуты на черные глаза, всматривающиеся в глубь тела. На простом платье с высоким лифом разрез от груди до колен. Левую руку она оперла на бедро, точь-в-точь как бойкая деревенская девица, а правой дотронулась до живота, но без тени вульгарности – так, как прикасаются к тайне. Для крестьян из Монтерки Пьеро написал то, что всегда было самым трогательным секретом всех матерей. Два ангела сбоку энергичным движением открывают драпировку, как занавес.
По счастливой случайности Пьеро родился не в Риме, не во Флоренции, а в маленьком Борго Сан Сеполькро. Вдали от грохота истории, среди тихих полей и мирных деревьев. Художник часто и охотно приезжал в родной город, даже занимал должности в городском магистрате. Здесь он и умер.
Две картины величайшего сына Борго Сан Сеполькро хранятся там в Палаццо Муничипале. Одна из них – полиптих «Мадонна Милосердная», которую Фосийон считает первой самостоятельной работой Пьеро. Верхняя часть изображает распятие. Христос написан патетично и сурово, но стоящие у креста Мадонна и св. Иосиф полны экспрессии, которой в позднейших работах делла Франческа уже не увидишь. Жесты их рук, их ладони с раздвинутыми пальцами выражают бурное отчаяние, точно Пьеро еще не выработал свойственную только ему одному поэтику молчания и сдержанности. Зато в главной части полиптиха – Мадонне, укрывающей плащом верующих, – уже видны зачатки будущего стиля. Центральная фигура – высокая, могучая и безличная, как стихия. Ее серо-зеленый плащ сплывает на головы верующих, как теплый дождь.
«Воскресение» написано уверенной рукой сорокалетнего мастера. Христос прочно стоит на фоне меланхолического тосканского пейзажа. Это победитель. Правой рукой он крепко сжимает копье с вымпелом. Левой придерживает саван – точно сенаторскую тогу. У него мудрое дикое лицо с ввалившимися глазами Диониса. Левую ногу он поставил на край гроба – так наступают на горло поверженного в поединке врага. На переднем плане четыре римских стражника, пораженные сном. Контраст этих двух состояний – внезапного пробуждения и тяжкой летаргии людей, обращенных в предметы, – потрясающ. Свет акцентирует Христа и небо; стражники, пейзаж на заднем плане погружены в тень. Хотя группа кажется статичной, Пьеро гениально, как физик, продемонстрировал проблему хаоса и движения, живой энергии и оцепенелости, всю драму жизни и смерти, выраженную мерами недвижности.
Кто-то сравнил Урбино с дамой в зеленом плаще, сидящей на черном троне. Эта дама – дворец, доминирующий над городком так же, как в его истории доминировали владельцы дворца князья Монтефельтро.
Вначале это были рыцари-разбойники, и Данте, величайший авторитет в вопросах загробного воздаяния, поместил одного из них, Гвидо, в том кругу ада, где стенают сеятели раздоров. Однако с течением времени темпераменты стали спокойней, характеры утонченней. Федериго, который правил с 1444 года, являл собой образчик генерала-гуманиста. Если он и воевал, как, например, с необузданным Малатестой{219}, дважды женоубийцей, которого Пьеро изобразил коленопреклоненным, с молитвенно сложенными руками перед св. Сигизмундом, то делал это с явной нелюбовью к кровавым зрелищам. Был он в равной степени энергичен и расчетлив и благодаря тому, что служил кондотьером у Сфорца, Арагонской династии и пап, утроил свои владения. Он охотно прогуливался по столице своего княжества в простом красном наряде, один, без эскорта (уже тогда был известен этот пропагандистский прием), и запросто, как человек с человеком, беседовал со своими подданными. Правда, подданный, удостоенный дружеской беседы, опускался при этом на колени и целовал князю руку, но тем не менее по тогдашним временам Федериго был поистине либеральным государем.
Его двор, нравы которого отличались необыкновенной для той эпохи чистотой, был прибежищем гуманистов, и Кастильоне взял его в качестве прототипа, когда писал своего «Придворного». Князь коллекционировал древности, художников и ученых. При его дворе бывали, работали или, по крайней мере, поддерживали с ним тесные связи такие люди, как Альберти, знаменитейший архитектор того времени, скульптор Росселино Росселини{220}, живописцы Иос ван Гент{221}, Пьеро, Мелоццо да Форли{222}. Сохранился портрет князя, написанный да Форли. Федериго сидит в своей библиотеке в доспехах (но этот железный наряд всего лишь символизирует могущество) и держит огромную книгу, оперев ее на пюпитр. Ибо князь Урбино был библиофилом высочайшего класса. После битвы под Вольтеррой он потребовал в качестве добычи не коней, не золота, а Библию на древнееврейском языке. Библиотека его была, наверное, богаче арсенала, и в ней хранились редчайшие рукописи богословов и гуманистов.
Здесь столько говорится о Федериго де Монтефельтро, так как долгие годы он был другом и покровителем Пьеро делла Франческа, что является серьезным основанием для посмертной славы. Возможно даже, что художник провел у него самые счастливые годы жизни. Вазари, главный источник сведений о том, сколько шедевров утрачено, сообщает, что Пьеро написал в Урбино несколько небольших картин, которые весьма понравились князю, но, увы, погибли во время войн, прокатившихся по стране.
Не в Урбино, а во Флоренции, в галерее Уффици, находится диптих Пьеро, на котором изображены Федериго и его жена Баттиста Сфорца. Контраст просто-напросто ошеломляющий. У Баттисты восковое, обескровленное лицо, отчего предполагают, что портрет был написан после смерти княгини. Зато загорелое лицо князя пышет энергией. У него орлиный профиль, голова сидит на львиной шее и могучем туловище. Красная шапка и такое же одеяние, густые волосы цвета воронова крыла. Бюст князя Монтефельтро возвышается, как одинокий утес, на фоне причудливого, далекого и очень тонко выписанного пейзажа. Чтобы преодолеть расстояние между фигурой и пейзажем, взору приходится падать в бездну, где нет никаких промежуточных планов, никакой непрерывности пространства и перспективы. Фигура князя спадает с несказанно чистого неба на передний план, как раскаленный метеор.
Две аллегорические сцены на оборотной стороне портретов исполнены изысканной поэтичности. Это столь любимые художниками Возрождения триумфальные шествия. В колесницу княгини, окруженной четырьмя теологическими добродетелями, впряжены два единорога. Серый, землистый, пригашенный пейзаж светлеет только у границы бесконечного горизонта. Аллюзия смерти, должно быть.
Триумфальную колесницу князя везут белые кони. Федериго сопутствуют Справедливость, Сила и Умеренность. Фантастический горный ландшафт залит светом. Голубое зарево отражается в зеркале воды. Надпись к аллегории гласит:
Галерея в Урбино обладает двумя шедеврами делла Франческа, написанными в разные периоды жизни. Первый – это Мадонна с двумя ангелами, именуемая «Синигалия», по названию церкви, в которой она находилась прежде; ее, несмотря на отсутствие документированных доказательств, считают одной из последних работ художника. Некоторые отмечают в ней признаки старческой деградации автора. Трудно согласиться с этим мнением. Наверное, правильней будет встать на сторону тех, кто усматривает в ней попытку обновить стиль.
Новый свет пришел с Севера. Ни в какой другой картине не заметно так явственно драматического столкновения фантазии итальянского мастера с мощной силой Ван Эйка, которому Пьеро следовал еще в молодости. Подозрения о влиянии Ван Эйка подтверждает пристрастие к подробностям, какого не встретишь ни в одной другой работе Пьеро делла Франческа. Руки ангелов, Мадонны и Младенца выписаны с воистину фламандской любовью к деталям. Простая и статичная сцена происходит в интерьере. Но это не ренессансная архитектура, как на фресках в Ареццо, а – случай для Пьеро невероятный – интимный интерьер, часть серо-голубой комнаты с открывающимся справа коридором. Перспектива коридора не доведена до конца, она оборвана стеной с окном, из которого падает свет, не нужный для освещения фигур, стоящих на переднем плане. Это этюд на тему светотени. Фигуры расставлены компактно и монументально. У Мадонны ординарное лицо няньки, кормилицы королей. Младенец Иисус властным жестом поднял руку и смотрит прямо перед собой мудро и сурово. Это младенческий портрет будущего цезаря, сознающего свое могущество и предназначение.
Вторая картина – «Бичевание» – потрясает зрителя полнейшей оригинальностью в трактовке темы и абсолютной гармонией композиции. В ней состоялся синтез живописи и архитектуры, какой тщетно было бы искать во всем европейском искусстве. Здесь уже неоднократно говорилось о монументальности, о значении архитектуры в живописи Пьеро. Пора, пожалуй, остановиться на этом подробнее. Проблема тут выходит за пределы той эпохи, ибо драма современной живописи заключается в исчезновении инстинкта архитектуры – высочайшего искусства организации того, что видит глаз.
Человеком, оказавшим на Пьеро воздействие неизмеримо большее, чем все живые и умершие художники (Доменико Венециано, Сасетта, Ван Эйк, его современники перспективисты Учелло и Мазаччо{223}), был архитектор Леон Баттиста Альберти.
Леон Баттиста родился около 1400 года и происходил из влиятельного флорентийского рода, изгнанного из родного города. Представление о значимости рода Альберти может дать цифра, верней, весьма высокая награда, которую победители, мстительные Альбицци{224}, назначили за убийство любого члена этой семьи. Леон Баттиста получил истинно ренессансное образование в Болонье, причем студентом он был бедным, так как отец его к этому времени умер. Он стал доктором права, но изучал также греческий, математику, музыку и архитектуру. Образование пополнил в путешествиях, которые совершал, исполняя поручения папской курии. Фортуна была к нему переменчива, и счастье по-настоящему улыбнулось ему только тогда, когда его друг гуманист Томмазоди Сарцанастал папой Николаем V. Альберти славился как красотой, так и умом и являл собой ренессансный образец атлета и энциклопедиста, короче, был «муж, отличающийся великим умом, быстротой суждений и основательными знаниями». Анджело Полициано{225} так характеризует его своему покровителю Лоренцо Медичи: «Не существовало такой старинной книги или редкого искусства, какое не было бы известно этому человеку. Ты мог бы долго размышлять, решая, в чем он одарен большим талантом – в красноречии или в поэзии? Что более отличает его стиль – значительность или изысканность? Он столь досконально исследовал античные сооружения, что в совершенстве познал способы строительства древних и показал их нам как образец: он измыслил не только машины и автоматы, но и множество прекрасных зданий; кроме того, его почитали превосходным живописцем и скульптором». Последние годы жизни Альберти (умер он в 1472 году) были осенены славой. Его связывала дружба с такими сильными мира сего, как Гонзаго и Медичи.
Альберти оставил более пятидесяти трудов – монографий, трактатов, диалогов и сочинение на темы морали, не считая писем и апокрифов. Славе своей у потомков он обязан прежде всего сочинениям о скульптуре, живописи и архитектуре. Его главный трактат «De re aediflcatoria»[88]88
«О зодчестве» (лат.).
[Закрыть] отнюдь не является учебником для инженеров (хотя бы в той степени, как трактат Витрувия), это скорей исполненная эрудиции и очарования книга для меценатов и гуманистов. И хотя композиция книги классическая, профессиональные проблемы перемешаны в ней с анекдотами и вещами, внешне вроде бы совсем малозначительными. В ней написано и о фундаментах и о том, какие местности более, а какие менее пригодны для возведения зданий, о способах каменной кладки, о дверных ручках, колесах, осях, подъемных механизмах, кирках и о том, «как истребить и извести змей, комаров, клопов, мух, мышей, блох, молей и подобных гнусных ночных гадов». Произведением, более всего оказавшим влияние на Пьеро, был трактат Альберти о живописи, написанный в 1434 году. Во вступлении к нему автор заявляет, что не намерен рассказывать историйки о художниках, но попытается воссоздать ab ovo[89]89
Букв.: от яйца, т. е. с истоков (лат.).
[Закрыть] искусство живописи.
Существует распространенное мнение, будто художники эпохи Возрождения ограничивались подражанием древним и природе. Труды Альберти доказывают, что вопрос не так прост, как его представляют энциклопедии и учебники. Он утверждает, что художник является созидателем мира в еще большей степени, нежели даже философ. Конечно же, он ухватывает в природе определенные взаимосвязи, пропорции и законы, но доходит до них не путем математических спекуляций, а видением. «То, чего глаз не может уловить, живописца не интересует». Картина, возникающая в глазу, является комбинацией лучей, которые, подобно нитям, идут от наблюдаемого предмета к зрителю, образуя пирамиду. Живопись – это сечение такой вот визуальной пирамиды.








