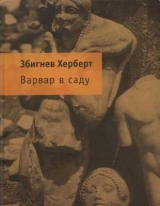
Текст книги "Варвар в саду"
Автор книги: Збигнев Херберт
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Из вышесказанного вытекает четко определенная последовательность операций, основанная на логике зрения. Итак, прежде всего надлежит установить место, какое занимает предмет в пространстве. Затем описать его линеарным контуром. После этого определяется ряд поверхностей предметов, которые необходимо гармонизировать друг с другом, и это называется искусством композиции с помощью цвета.
Различие между цветами есть следствие различного освещения. До Альберти художник играл цветом (ренессансные теоретики нередко брюзгливо порицали хроматический хаос средневековья), после него – светом. Из акцентирования роли света следует: форма не может быть очерчена резким контуром. Постулат этот Пьеро великолепно усвоил и своеобразно развил. Свое внимание художник сосредоточивал не на границах предмета, а на том, что внутри них. Обнаженный Сиф или голова царицы Савской обведены мерцающей светлой каемкой, точно края облаков. Светлый этот контур есть результат проведения в жизнь теории Альберти.
Композиция – это метод, благодаря которому элементы предметов и элементы пространства сочетаются на картине воедино. Сюжет можно упростить до фигур, фигуры раскладываются на отдельные члены, а те на соприкасающиеся между собой, подобно граням алмаза, поверхности. Однако без геометрического холода. Вентури{226} верно заметил, что композиция Пьеро, его формы имеют стремление к геометризации, не доходя, однако, до границ платоновского рая конусов, шаров, кубов. Пьеро делла Франческа подобен – если позволительно воспользоваться этим анахронизмом – предметному художнику, прошедшему школу кубизма.
Альберти много места посвящает сюжетной живописи, но предостерегает, что картина должна воздействовать на зрителя сама по себе вне зависимости от того, понимает он или нет, о чем в ней повествуется. Эмоции должно вызывать не с помощью гримас, но посредством движения тел, то есть форм. Предостерегает он также от чрезмерного нагромождения, перенасыщенности, излишних подробностей. Из наставлений этих Пьеро вывел два закона, на которых основываются его великолепные композиции: принцип созвучного фона и закон покоя.
В лучших его картинах («Рождество», «Портрет князя Урбино», «Крещение», «Победа Константина») далекий бездонный фон столь же значим и красноречив, как и фигуры. Контраст между массивными фигурами, видимыми, как правило, снизу, и нежным пейзажем подчеркивает и заостряет драму человека в пространстве. Ландшафты его обыкновенно безлюдны, населены только первостихиями – водой, землей и светом. Тихое скандирование воздуха и крупных планов подобно хору, под аккомпанемент которого безмолвствуют герои драм Пьеро делла Франческа.
Закон покоя – это не только архитектоническая уравновешенность объемов. Это и вопрос внутренней гармонии. Пьеро понимал, что чрезмерность движения и экспрессии не только разрушает живописное пространство, но сокращает время картины до одноразовой сцены, проблеска жизни. Стоические герои его повествований сосредоточенны и бесстрастны; недвижная листва деревьев, краски первого земного утра, время, которое не пробьют ни одни часы на земле, – все это придает картинам Пьеро онтологическую неуничтожимость.
Но вернемся к «Бичеванию», самому альбертианскому произведению Пьеро. Все нити композиции холодны, вымерены и напряжены. Каждый персонаж стоит в разумно выстроенном пространстве – точно глыба льда. На первый взгляд может показаться, будто здесь безраздельно царит демон перспективы.
Сцена разделена на две части. Собственно драма происходит слева, в мраморном портике с коринфскими колоннами, под которым мог бы прогуливаться чистый разум. Прямоугольники плит пола ведут взгляд к полуобнаженной фигуре Христа. Он опирается о колонну, на которой Пьеро поместил каменный символ – изваяние греческого героя с простертой рукой. Два палача одновременно взмахнули розгами. Удары их будут размеренны и бесстрастны, как тиканье часов. Абсолютная тишина – ни стонов жертвы, ни мерзкого сопения палачей. И еще два наблюдателя: один стоит спиной к зрителям, второй, повернувшись в профиль, сидит слева. Будь написана только эта часть картины, она была бы просто сценой в коробочке, моделью, запаянной в стекле, прирученной реальностью. Пьеро никогда – в отличие от ироничного Брейгеля, vide[90]90
Смотри (лат.).
[Закрыть] «Икар» – не размещает главное событие в перспективе, зная, что геометрия поглощает страсть. Значащие персонажи его драмы стоят на переднем плане, точно на сцене у самой рампы. И объяснение этой загадочной картины все ищут в истолковании значения и символического смысла троих мужчин, которые стоят на первом плане справа – спиной к сцене бичевания.
Беренсон и Мальро интересовались только их композиционной функцией. «Чтобы сделать эту сцену еще более суровой и жестоко безличной, художник вводит в картину три совершенные формы, которые высятся на переднем плане, как вечные скалы». Традиция, однако, связывает это произведение с историческим событие того времени – убийством князя Оддантонио Монтефельтро, который здесь якобы окружен двумя заговорщиками. Сцена бичевания символизирует их преступный замысел. Сюарес же дает волю фантазии и вязнет в рискованных домыслах. Для него эти трое загадочных людей – первосвященник иерусалимского храма, римский проконсул и фарисей. Повернувшись спиной к событию, которое потрясет мировую историю, они тем не менее взвешивают его значение и последствия. Сюарес видит в их зашифрованных лицах три разных выражения: сдержанную ненависть фарисея, тупую самоуверенность римского бюрократа и циничное спокойствие первосвященника. И все же, какие бы мы ни подбирали ключи, «Бичевание», видимо, навсегда останется самой не поддающейся расшифровке картиной в мире. Мы рассматриваем ее словно бы через тонкую пластинку льда – прикованные к месту, очарованные и беспомощные, как во сне.
Последней картиной Пьеро, как считают исследователи нелегкой проблемы хронологизации его произведений, была «Мадонна с Младенцем». Сейчас она находится в галерее Брера в Милане, а атрибуция ее долгое время была предметом дискуссий, пока ее наконец не приписали окончательно автору «Легенды Креста». Десять фигур стоят полукругом позади Мадонны, десять колонн из плоти и крови, и ритму их вторит архитектура. Сцена происходит в апсиде, над которой открывается полукруглая арка и свод в виде раковины. С верхней точки раковины на тоненькой нити свисает яйцо. В описании это звучит весьма тривиально, но формальный этот акцент тут поразительно логичен и уместен. Картина является завещанием Пьеро. А яйцо, как известно, в символике означает таинство жизни. Под совершенным сводом зрелой архитектуры этот висящий на прямой линии неподвижный маятник пробивает для Пьеро делла Франческа час бессмертия.
Понимали ли его современники и потомки, что имеют дело с великим художником, как это очевидно сейчас нам? Пьеро несомненно пользовался признанием, и ему охотно давали заказы. Но работал он, надо сказать, очень медленно и не сделал такой блестящей карьеры, как его коллеги из Флоренции. Его больше ценили за две теоретические работы, которые он написал в конце жизни. И нет ничего удивительного, что его чаще упоминали архитекторы, нежели художники и поэты. Правда, Чилленьо посвящает ему сонет, Джованни Санти, отец Рафаэля, упоминает его в своей рифмованной хронике, еще один поэт делает в своей поэме намек на портрет Федериго Монтефельтро. Не густо.
Вазари, который родился через девятнадцать лет после смерти Пьеро, сообщает очень мало биографических деталей. Подчеркивает его экспрессивность, реализм, любовь к деталям, что можно счесть за явное недоразумение. А потом уже только невозмутимое и монотонное бормотание цитирующих Вазари хронистов и историков искусства.
В XVII и XVIII веках слава Пьеро гаснет, имя его забыто, вероятней всего, оттого, что маршруты вояжей, совершаемых любителями искусств, вели из Флоренции в Рим, и Ареццо, не говоря уже о крохотном Борго, оставался в стороне. Не знаю, то ли количество выпитого вина, то ли вкус эпохи повинен в том, что в своих «Italienische Forschungen»[91]91
«Итальянские изыскания» (нем.).
[Закрыть] филологи эстет фон Румор отрицательно отозвался о нем, заявив, что не стоит заниматься художником, именуемым Пьеро делла Франческа. И лишь в первой половине XIX века начинается реабилитация мастера, вычеркнутого слепой историей из списка великих. Стендаль – это не первый случай, когда писатели в своих открытиях опережают историков искусства, – извлекает имя Пьеро из забвения, сравнивает его с Учелло, отмечает мастерство перспективы, но, видимо, находясь под воздействием суждения Вазари, пишет: «Toute la beaute est dans l’expression»[92]92
Вся его красота в экспрессии (фр.).
[Закрыть]. Изданная на английском в 1864–1866 годах «History of painting in Italy»[93]93
«История живописи в Италии» (англ.).
[Закрыть] пера Кавалькассели и Кроу возвращает автору «Легенды Креста» достойное его место в ряду величайших европейских художников. А потом, как из рога изобилия, сыплются многочисленные исследования и статьи: от Беренсенадо Роберто Лонги{227}, автора великолепной монографии о Пьеро делла Франческа. Мальро сказал, что наш век восстановил справедливость в отношении четырех художников. Это Жорж де ла Тур, Вермеер, Эль Греко и Пьеро.
Что известно о его жизни? Ничего или почти ничего. Даже точная дата его рождения неизвестна, историки пишут ее так: между 1410 и 1420. Он был сыном ремесленника Бендетто ди Франческа и Романьи ди Перино из Монтерки. Мастерская Доменико Венециано во Флоренции стала его академией художеств. Но в городе этом Пьеро не прижился. Видимо, лучше всего он чувствовал себя в маленьком Борго Сан Сеполькро. Работал Пьеро в Ферраре, Римини, Риме, Ареццо и Урбино. В 1450 году бежал, спасаясь от эпидемии, в Бастию; в Римини купил дом с садом; в 1486 году составил завещание, на котором имеется его собственноручная подпись. Свой опыт живописца Пьеро передал не только ученикам, он оставил два теоретических трактата: «De quinque corporibus regularibus»[94]94
«О пяти правильных телах» (лат.).
[Закрыть] и «De prospectiva pingendi»[95]95
«О живописной перспективе» (лат.).
[Закрыть], в которых чисто научными методами исследует проблемы оптики и перспективы. Умер Пьеро 1 октября 1492 года.
Написать о нем роман – невозможно. Он так наглухо сокрыт за своими картинами и фресками, что придумать его личную жизнь, его любовь и дружбу, его честолюбивые замыслы, гнев, печаль – не удастся. Он удостоился величайшей милости, какую может подарить художнику растеряха-история, утрачивающая документы, затирающая следы. Он существует отнюдь не благодаря легенде о нищенской жизни, безумствах, падениях и взлетах. Он весь растворился в своем искусстве.
Я представляю, как он проходит по узенькой улочке Сан Сеполькро, направляясь к городским воротам, за которыми уже только кладбище и умбрийские холмы. На его широкие плечи накинут серый плащ. Невысокий, коренастый, он шагает уверенной крестьянской походкой. Молча отвечает на поклоны.
Традиция гласит, что к концу жизни он ослеп. Некий Марко ди Лонгара рассказывал Берту дельи Альберти, что в детстве он был поводырем старого слепого художника по имени Пьеро делла Франческа.
Маленький Марко, наверно, не догадывался, что водил за руку – свет.
Воспоминания из Валуа
He знаю, почему поляки, народ, надо сказать, подвижный, а уж историей своей даже несколько чрезмерно побуждавшийся к перемещениям, приезжая в Париж, впадают в состояние некой оцепенелой созерцательности. Да, город, разумеется, красивый, но, наверное, правы те, кто утверждает, что настоящая Франция переносится все дальше за его стены.
Право, имеет смысл не только совершить традиционные экскурсии в Шартр и Версаль, но побывать и не в столь известных очаровательных городках, что рассеяны в радиусе ста километров вокруг столицы, так что до любого из них можно добраться на автомобиле месье Юло{228} часа за полтора. Цепь прекраснейших готических соборов. Для тех же, кто хочет знать, что такое романская архитектура, не выезжая в Бургундию или Прованс, – Морьенваль, Сен-Лу-де-Но. Руины в Лез Андели. Дворцы в Компьене, Фонтенбло, Рамбуйе. И леса, леса. Великолепные леса, где еще слышится рог истории.
К северу от Парижа – Валуа, самая древняя Франция. Наследственное владение мелкого франкского королька Хлодвига{229}. Со временем Валуа становится самым ценным графством и герцогством. Двукратно – домен королевских братьев, и двукратно принцы крови из Валуа занимают французский трон. Край, в котором, как говорит поэт, более тысячи лет билось сердце Франции.
ШантийиСреди лесов над речкой, которая называется, как девушка из сказки, – Нонетта, – лежит Шантийи, сытый городок с дворцом, виллами представителей высшего света и знаменитым ипподромом. Я приезжаю сюда уже в третий раз. Сегодня, чтобы навестить Сасетту. Но чтобы увидеться с ним, надо пройти через весь город.
Дома чистые и богатые. Они блестят, как медная табличка, свидетельствующая перед всем миром о зажиточности господина нотариуса. Час ранний, потому ставни еще закрыты, калитки заперты. Сады отгорожены друг от друга старательно и ревниво, как феодальные владения. Кстати, вон там за низкой оградой видно, как вассал в синих штанах стрижет машинкой на колесиках газон сеньора.
Слово, чаще всего встречающееся здесь, – прилагательное «частный»: частная дорога, частная собственность, частный источник, частный проход, частный луг. Как раз на таком именно лугу, огороженном и тщательно подстриженном, происходит сцена из Дега{230}. Четыре господина и четыре дамы верхом на лошадях совершают в такт вальса разнообразные эволюции. Нет, нет, ничего циркового, все проделывается с исключительным достоинством, а потому выглядит довольно скучно: пара за парой, потом гуськом, дама вправо, господин влево, и по кругу. Впрочем, что могу знать об этих удовольствиях я, чей контакт со спиной лошади длился всего несколько минут, да и то, помилуй Бог, во время народного гулянья. В общем, пока я шел ко дворцу Шантийи, у меня появлялось ощущение, будто я прикоснулся к давно ушедшей эпохе.
По дороге проходишь мимо Больших конюшен в стиле Людовика XV, шедевра архитектуры XVIII века. Огромное здание в форме подковы, в котором в старые добрые времена помещались двести сорок лошадей и четыреста двадцать охотничьих собак, не считая армии конюхов, доезжачих, псарей и ветеринаров. После этих конюшен дворец уже не производит впечатления. Построен он в «ренессансном» стиле, и к нему прилеплена «готическая» часовенка, от которой за километр несет фальсификацией.
Две тысячи лет назад на этом месте находилось галлоримское укрепление, которое называлось Кантилиус. В Средние века – резиденция «bouteiller de France», который из смотрителя винных подвалов короля превратился в королевского советника. В XIV веке канцлер Оржемон строит тут замок, который вследствие брачных союзов становится собственностью баронов Монморанси{231}, коннетаблей, воителей, монарших советников, породненных с королевской фамилией. В истории особенно прославился один из них – Анн де Монморанси, рыцарь, дипломат и советник шести королей Франции, от Людовика XII до Карла IX. Он был владельцем почти ста замков, имел астрономическое состояние, пользовался огромным влиянием, обладал беспримерной силой и могучим телом: в сражении с протестантами при Сен-Дени понадобились пять ударов шпагой, два удара обухом по голове и выстрел из аркебузы, чтобы свалить семидесятипятилетнего коннетабля, и при этом, падая, он подбородком сломал эфес собственной шпаги.
В сентиментальной истории Шантийи также занимает почетное место, ибо здесь пережил свою последнюю любовь король-сердцеед, то есть Генрих IV. Он влюбился в дочку своего друга Шарлотту де Монморанси. Очаровательная Лола была в возрасте Лолиты, а королю уже стукнуло пятьдесят четыре, но поскольку он был искуснейшим политиком, то посватал Шарлотту за Анри II{232} Бурбона-Конде, который отличался скромностью, неуклюжестью и вообще слыл размазней, то есть был полной противоположностью короля-сердцееда. Интрига более чем прозрачная. Однако судьба распорядилась по-своему: молодая пара бежала из Шантийи и укрылась в Брюсселе под защитой испанского короля. Генрих IV сходил с ума, подтверждением чему является то, что он обратился к папе, прося его вмешательства в этот более чем мирской скандал. Но очень скоро кинжал Равайяка{233} навсегда успокоил королевское сердце.
Хотя нынешний дворец является всего лишь не слишком удачной имитацией, дефекты архитектуры вполне компенсирует окружение: парк, лес, широкий зеленый ров, в котором плавают прожорливые карпы. Вид их вечно разинутых ртов может пробудить аппетит даже у аскета. Правда, во Франции не слишком много гастрономических аскетов, а Шантийи связано с Вателем{234}, который вошел в святцы чревоугодников и гурманов. А дело было так: 23 апреля 1671 года Людовик XIV со своим двором приехал в Шантийи, которое тогда принадлежало Великому Конде. Гостей прибыло много – пять тысяч человек, – что требовало целой армии слуг и поваров. Командовал ими «controleur general de la Bouche de Monsieur le Prince»[97]97
Генеральный контролер (т. е. управляющий) кухней г-на принца (фр.).
[Закрыть] по фамилии Ватель. Поначалу все шло хорошо, но в один прекрасный день на два стола (а всего их было шестьдесят) не хватило жаркого. Бедный Ватель не мог снести такого позора и закололся собственной шпагой. О чем со смаком и пылающими от волнения ланитами повествует мадам де Севинье{235}.
Галерея в Шантийи достойна Лувра, хотя стили и эпохи тут так перемешаны, что с первого взгляда трудно в них разобраться. К тому же коллекционеры-герцоги (надо полагать, по невнимательности) понаразвешивали среди шедевров невероятную мазню XIX века. И тем не менее без этой коллекции наши знания, особенно о французской живописи XV и XVI веков, были бы неполными. Назовем всего лишь портреты Корнеля де Лиона{236}, богатое собрание рисунков и картин Жана и Франсуа Клуэ{237}, Часослов Этьена Шевалье, иллюминированный Жаном Фуке{238}, и одну из самых великолепно иллюстрированных, причем не только французских, рукописей «Les tres riches heures du duc de Berry»[98]98
«Часослов герцога Беррийского» (фр.).
[Закрыть].
Чтобы рассматривать и переживать миниатюры, необходимы особые склонности и способности. Нужно войти в мир, наглухо замкнутый, как стеклянный шар. В каком-то смысле мы оказываемся в ситуации Алисы, которая в Стране чудес открывает золотым ключиком двери и видит самый, быть может, прекрасный на свете сад, но слишком маленький, чтобы в него можно было войти. «Ах, если бы можно было складываться, как телескоп». Любоваться миниатюрами – это для тех, кто способен складываться, как телескоп.
История сохранила только имена иллюминаторов рукописи – Поль, Жан и Эрман, и еще известно, что они из города Лимбурга, то есть из Фландрии, которая в XV веке принадлежала могучим бургундским герцогам, большим ценителям искусства.
Выше мы обозначили «Les tres riches heures» как миниатюры, что абсолютно точно в инвентаризационном смысле, но в аспекте художественном все выглядит совершенно иначе. Мы подходим к рубежу, где живопись покидает страницы рукописей и рождается станковая картина. Чтобы это произошло, недостаточно вырвать страницы из книги и развесить их на стенах. Этому действию должно предшествовать «внутреннее» развитие миниатюры. Она должна обрести такую интенсивность цвета, чтобы можно было выразить всю изменчивую материю мира. Необходимо, чтобы она засияла собственным светом, независимым от окружения, и, наконец, чтобы обрела определенные границы и глубину. Одним словом, необходимо, чтобы она обросла онтологической плотью и со ступени простейшего бытия перешла на более высокий уровень развитых структур. Миниатюра братьев из Лимбурга предвещает этот перелом. Линеарная перспектива наивна и очаровательно беспомощна, но построение пространства цветом убедительно до такой степени, что взгляд, ни разу не запнувшись, входит в глубь картины.
Июль. На переднем сочно-зеленом плане – стрижка овец. Взор пробегает через желтый прямоугольник зрелых хлебов, перескакивает через речку и – столкновение с твердой жемчужной стеной замка под темно-синей крышей. За коническими горами и золотыми холмами лазурь – глаз бесконечности.
Пейзаж придан жанровым сценам не как декорация, но как партнер – действующее лицо драмы, причем у братьев Лимбург поразительная любовь к подробностям. Под знаком Скорпиона и Весов идет пахота. Борозды ровно разделены и заплетены, как косички. В бороздах вороны ищут червей. А поскольку картинка размером не больше ладони и на ней еще надо было поместить замок со всеми башнями, червяков изобразить не удалось, что, надо думать, весьма огорчало художника, так как у него была поистине фламандская жажда правды жизни.
Но Сасетта, где Сасетта, я ведь пришел сюда ради Сасетты! Какая это радость – найти «свою» картину на своем месте. Она небольшая и почти заглушена висящими вокруг полотнами. А называется «Обручение св. Франциска с бедностью». Двое монахов (св. Франциска узнаешь по нимбу) стоят перед тремя стройными девушками – серой, зеленой и пурпурной. От ладони святого к ладони девушки, стоящей посередине, идет движение, нежное, как тончайшая нить. Вверху слева эти три мистические девы улетают на небо естественно и без резких движений, лишь выгнувшиеся назад ступни говорят о полете. Белый каменный замок справа до того легкий, что его мог бы унести мотылек. Тосканский пейзаж – серо-зеленый, потому что дело к вечеру. Кроны деревьев лежат в пейзаже по отдельности, как ноты. Небо опускается слоями, как у восточных художников, – на самом верху холодная синева, но над линией мягко модулированных холмов уже появилась невесомое и безбрежное мерцающее сияние.
Ежели оценивать произведение по принципу, как оно «продвигает» искусство вперед, то картина Сасетты просто скандально анахронична и доказывает полную слепоту художника ко всему, что «ново». Действительно, он живет в середине Кватроченто, а пишет так, будто на дворе тринадцатый век. Тело строит из растительных волокон, а не из плоти и костей, как полагалось бы в эпоху Мазаччо и Донателло{239}. У него полнейшее презрение к законам гравитации, а по причине тончайшего линеаризма он оказывается к византийцам ближе, чем любой другой художник из Флоренции или Венеции. И тем не менее трудно оторваться от Сасетты, чьи картины не потрясают взгляд, но исполнены неотразимого очарования. К счастью, история искусства отличается от учебника геометрии и в ней есть место и для очаровательных художников, таких как Сано ди Пьетро из Сиены, Бальдовинетти из Флоренции или венецианец Карпаччо{240}.
Из дворца по широким ступеням можно спуститься в логичный, регулярный французский парк, замкнутый Аллеей философов, где прогуливались гости принца: Боссюе{241} (его речь на смерть Великого Конде до сих пор сгоняет сон с век лицеистов, но, Боже мой, какое это все-таки великое ораторское искусство!), Фенелон{242}, Бурдалу{243}, Лабрюйер{244} (был учителем внука Великого Конде), Мольер (обязан принцу постановкой «Тартюфа»), Буало{245}, Расин{246}, Лафонтен, мадам де Лафайет{247}, мадам де Севинье – короче говоря, антология французской литературы XVII века. За Аллеей философов справа и слева раскинулся английский парк – крутые тропинки, заросли, полнейшее пренебрежение классицистскими правилами, но зато милые сердцу каскады, острова любви и миниатюрные деревни с мельницами и хижинами, в которых изысканное общество, переодевшись в поселян, переваривало обильные трапезы.
Прежде чем автобус, едущий в Санлис, углубится в лес, можно еще раз увидеть в зеленом обрамлении дворец, отраженный в воде. Он появляется внезапно – как при вспышке молнии.








