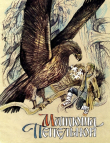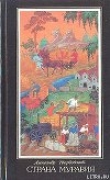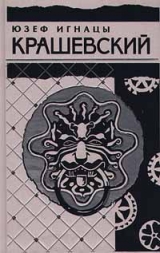
Текст книги "Твардовский"
Автор книги: Юзеф Крашевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)
Идеалом женщины, у ног которой Твардовский сложил бы первую любовь свою, была девушка, чистая, как небо, невинная, как солнце. В ней, в этой девушке, хотел Твардовский найти все совершенства духа и тела, ума и чувств, рассудка и страсти, все, что льстило бы его чувствам и самолюбию. Он хотел взять ее богатою, знатною; он хотел вырвать ее у тех, которым людская гордость и тщеславие давали больше против него прав. Теперь крестьянка, простая мещанка уже не годились для него; ему хотелось лучшего, совершеннейшего; он только теперь помышлял, какую разницу делают между женщинами порода и воспитание… Под свежими прелестями молодой крестьянки, покрытой грубыми лоскутьями, Твардовский видел теперь только кусок вкусного мяса!..
Во время этих любовных поисков видели не раз, как темною ночью выходили из дома Твардовского знаменитые в то время прелестницы: Стрелимусса, Речинка и им подобные. Случалось, что и веселые собеседники приезжали к Твардовскому со своими однодневными любовницами. Твардовский не находил ничего дурного в таких визитах: готовя себя на чистую, возвышенную любовь, он испытывал другую, легкую, уступчивую – любовь плотскую, животную, которая, как и та, имеет свои минуты экстаза, когда тело жаждет любви сильнее души, когда человек становится более зверем, чем человеком.
Долго и напрасно искал Твардовский своего идеала, великой, небывалой любви, о которой нашептывала ему его фантазия. Чувствовал он, как мало удовлетворяет любовь его минутные наслаждения, чувствовал необходимость живой, всепоглощающей страсти, которая бы прошла по нему, как гладильный резец скульптора по оконченной статуе. Но до сих пор ни в одной девушке, ни в одной женщине не находил он того, чего старался найти, того, что бы вызвало его на все пожертвования, не нашел ни одной женщины, которая бы могла вести его за собою на нитке, послушного и кроткого, как дитя. «Что виною моих неудач? – спрашивал он сам себя. – Зачем в каждой из них, из этих прелестных женщин, отыскиваю я одни недостатки и несовершенства, и не могу найти тех достоинств, которые бы пробудили и воспламенили любовь мою?.. Ужели я никогда не найду достойной себя?»
Такие неудачи тревожили и сокрушали Твардовского. Еще неопытный, не взирая на всю мудрость свою, Твардовский искал любви на улицах, на рынках, в домах порока и сладострастия, где прелестницы сами забегали ему на глаза, выставляя напоказ свои продажные прелести. Не такой любви нужно было Твардовскому; не там надобно было ему искать этой любви.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
XXIII
Как Твардовский воскресил пана воеводу и кого у него увидел
Холодный декабрьский вечер стоял в Кракове. Чистое небо отсвечивало последними лучами вечерней зари. Иней покрывал кровли домов; из труб поднимались по воздуху прямые черные столбы дыма. В окнах, там и сям, начинали уже показываться огоньки. Тишина, царствовавшая в опустелых улицах, изредка прерывалась песнями весельчаков, возвращавшихся домой из корчем и трактиров. На башне ратуши прозвонил уже срочный час, когда все жители должны были гасить огонь. Ночная стража выходила из вахтгауза на обычный дозор, и изредка раздавались топот коней и грохот тяжелых карет, отвозивших домой загостившихся господ своих.
Яркий свет, выходивший из окон винных погребов, шинков и бань, доказывал, что не все веселые посетители думали о позднем часе. Во многих домах сквозь отворенные двери сеней видны были группы играющих в кости слуг и пьяных мещан, слышны были крики и ругательства…
В окнах дома Твардовского горели огни: там также шла веселая беседа. У ворот дома заспанные слуги дожидались своих господ с конями, экипажами, зажженными факелами. Внутри дома, в большой комнате, ярко освещенной пламенем мраморного камина, собрались гости Твардовского. Посередине стоял дубовый стол, покрытый узорчатою камчатною скатертью. Вокруг него, на скамьях, устланных персидскими коврами, сидели хозяин и гости. Огромные серебряные миски с приправленными кореньями кушаньями покрывали стол и разливали пар благовонный, возбуждающий аппетит. Слуги разносили пиво, мед и дорогие вина. Твардовский сидел на переднем конце стола, казался веселым и ласково почивал гостей своих яствами и напитками.
Не те уже были эти гости, с которыми, бывало, Твардовский проводил дни и ночи. Теперь окружали его молодые, юношеские лица, поклонники веселья и наслаждений. Изысканно и богато были одеты новые гости Твардовского; они, судя по их одежде, манерам, искусственной небрежности, отличающей людей воспитанных, принадлежали к сословию дворян, проживавших в домах магнатов. Вино уже начинало оказывать на них свое действие: глаза их искрились, румяные уста расцвечивались вакхическою улыбкою. Веселый, оживленный разговор, прерываемый громким смехом, пересыпанный остротами и насмешками, переходил от одного предмета на другой: говорили обо всем, кроме ученого и серьезного. Изредка вмешивал Твардовский в общий поток фраз какое‑нибудь острое замечание, насмешку или сарказм, и тогда вся ватага нахлебников принималась рукоплескать ему, превознося до небес его ученость и остроумие.
Среди этого шума послышались на лестнице чьи‑то шаги.
– Уж не старый ли наш приказчик? – сказал, смеясь, Твардовский.
В ту же минуту отворилась дверь, и на пороге комнаты показалось новое лицо, но только не Яцек, о котором говорил Твардовский. Пришелец едва переводил дух от усталости.
– Пан мой умирает!.. – едва мог проговорить он, задыхаясь от изнеможения.
– Вечная ему память! – отозвались с громким смехом несколько собеседников.
– Кто ты и как смеешь прерывать нашу беседу? – сурово спросил Твардовский посланного.
– Умирает мой пан, пан воевода! – повторил дворянин, уверенный, что одного имени воеводы будет достаточно, чтобы снискать ему внимание собеседников.
– Если б сто воевод отправились на тот свет, то мы всем им пожелали бы вечную память! – возразил один из молодых людей. – Убирайся отсюда к черту с твоим воеводой!
Все громко засмеялись.
– Не тут ли, милостивые паны, не между вами ли доктор Твардовский? – продолжал смущенный таким приемом посланец. – Я прислан к нему, один он может спасти моего господина.
– Да будет тебе известно, – сказал один из гостей, – что Твардовский не оставит своих гостей для какого‑нибудь пана воеводы, которого и душа и тело не стоят стакана доброго вина.
– Да, да! Сущая правда! – заметили другие, опасаясь прервать пирушку с отсутствием хозяина.
– Пан воевода обещает Твардовскому тысячу золотых флоринов, если он застанет его в живых; пятьсот флоринов, если не застанет его в живых, и две тысячи, если вылечит его, – продолжал дворянин.
Никто не почел за нужное возражать против слов этих. Тогда Твардовский сказал, обращаясь к гостям своим:
– Позволите ли мне ехать? Отпустите ли вы меня? Надобно сказать, что сумма, объявленная посланцем воеводы, была в то время так значительна, что даже магнат не отказался бы от нее. Твардовский, старавшийся всегда показывать перед людьми, что источниками богатства его были знание и мудрость, а не помощь дьявола, не мог не воспользоваться предстоящим случаем. Предложение его долго оставалось без ответа, и гости в нерешительности поглядывали друг на друга; не хотелось им прерывать веселую беседу, хотя в то же время не один из них завидовал Твардовскому.
– Будь я на твоем месте, я бы поехал, – заметил, наконец, один.
– И я бы поехал, – сказал другой.
– Прошу же вас, милые мои гости, – сказал Твардовский, – оставаться здесь и не прерывать беседы. Пан займет мое место; погреб мой к вашим услугам, пейте сколько угодно, а покуда – выпьем прощальный кубок за успех моего визита.
Осушив бокал, Твардовский простился с гостями, и через минуту пара статных лошадей, запряженных в коляску немецкой работы, несли его по опустелым краковским улицам. Четыре конные гайдука с зажженными факелами скакали по сторонам коляски….
Воевода жил в деревне, в нескольких милях от Кракова. Твардовский ехал всю ночь по самой дурной дороге и только поутру добрался до цели своего путешествия. Засматриваясь на ясное, усеянное звездами небо, которое раскидывалось над его головою необозримым шатром, он предался тем тихим, высоким думам, какие всегда возбуждает в нас величественная картина чудной природы.
Твардовский, однако ж, не поспел вовремя. Слезы и уныние домочадцев, встретивших его у ворот, не предвещали ничего утешительного: узнав о смерти воеводы, Твардовский уже хотел вернуться назад, но уступил просьбам родных и домочадцев, которые просили его хоть отдохнуть и подкрепить свои силы. Предложенных ему пятисот флоринов Твардовский не принял.
Это еще более расположило к Твардовскому родных воеводы. Такое бескорыстие удивило их; они свежо помнили блаженной памяти славного лекаря Ласкариса Баянского, который на богатых и на бедных накладывал огромную контрибуцию и не трогался с места, не выторговав себе платы.
– Не застав воеводу в живых, – сказал Твардовский, – я не считаю себя вправе принять от вас какое‑либо вознаграждение. Лучшею наградою будет для меня ваше позволение отдохнуть у вас. Но прежде всего я хотел бы удостовериться, точно ли умер воевода.
– К несчастию и великой горести нашей, – сущая правда, – отвечал ему со слезами на глазах молодой племянник покойного, которому он не успел завещать после себя ничего.
– Где ваш покойник? – спросил равнодушно Твардовский. – Покажите мне его.
Твардовского ввели в обитую черною материею комнату, посередине которой на богатом катафалке стоял малиновый гроб. Множество желтых и зеленых свеч горели вокруг гроба. Лицо покойника было желто, губы синие, скулы осунулись, глаза впали.
Твардовский взял его за руку, долго смотрел на него, долго думал и наконец сказал:
– Он жив!
Крик изумления был ответом Твардовскому. Потом начали кричать, спорить, одни сердились, другие смеялись. Пользуясь общим смятением, Твардовский приказал вынуть тело из гроба и перенести его в спальню. Там он пустил воеводе кровь – и кровь брызнула широкою струею. Потом он отер ему чем‑то лоб и нос, открыл его веки и влил в горло каких‑то капель.
Тогда, к великому изумлению всех присутствовавших, начали обнаруживаться в воеводе все признаки жизни. Сначала заметили легкое движение в груди, потом оживились глаза, зашевелились уста, забилось сердце. Пораженные ужасом, все присутствующие разбежались. В замке поднялась страшная тревога. Одни уезжали, другие приезжали; гнали гробовщиков и могильщиков, спроваживали недовольных ксендзов… Твардовский не допускал никого к воеводе, приказал положить его в теплую постель и принялся усердно лечить.
Через три дня воевода был совершенно здоров, а перед Твардовским лежала киса с тремя тысячами флоринов. Никто так не был рад выздоровлению воеводы, как племянник его. Он не знал, как благодарить Твардовского, целовал его руки, плакал…
Среди общей радости один Твардовский был задумчив и скучен. Простившись с воеводою, он сел в свою коляску, за которою вели в поводах двух прекрасных жеребцов – подарок хозяина и его племянника. Твардовский часто оглядывался на замок, вздыхал и морщил брови… Его, очевидно, что‑то занимало.
На другой день, по приезде в замок воеводы, Твардовский, мучимый бессонницею, вышел вечером в сад подышать свежим воздухом. В саду встретил он двух женщин, одну молодую, другую старую. При взгляде на девицу, Твардовский остолбенел от изумления. Ему показалось, что где‑то он видел ее, но где и когда – этого припомнить он не мог, несмотря на все усилия памяти. Прелестные черты лица девушки показались ему знакомыми… То были черты его идеала, существа, которое создало его воображение, о котором он думал беспрестанно, которого искал везде. В этих чертах было столько знакомого Твардовскому, столько таинственного… столько давно ожидаемого. То не была обыкновенная мещанская красота, которая так же скоро расцветает, как и увядает, прекрасные черты ее лица не служили вывеской, как нередко случается, испорченного, черствого сердца; напротив, красота ее была в самой лучшей поре, в полной силе, с оттенком какого‑то превосходства и гордости. Открытый превосходно очерченный лоб, черные огненные глаза, маленький рот, окаймленный прелестными розовыми губками. В походке и движениях ее проявлялись благородство и грация, какими всегда отличаются люди высшего круга и хорошо воспитанные.
Твардовский не мог объяснить себе, отчего после такого множества женщин, которых он видел, ни одна не произвела на него столь сильного впечатления, как эта неизвестная ему красавица. Что же касается до нее, то едва ли она приметила смущение Твардовского; она взглянула на него как бы случайно, мимоходом.
Возвратясь в замок, Твардовский тотчас же принялся расспрашивать и выведывать о ней от слуг и челяди. Сначала он принял ее за дочь воеводы, но скоро узнал, что у воеводы не было взрослой дочери. Это была сиротка, бедная шляхтянка, воспитанница воеводы. Твардовский узнал также, что в Кракове жили ее дальние родственники, к которым она должна была возвратиться по окончании воспитания в доме воеводы.
Раз узнавши о ее родных, о ней самой, Твардовский нетерпеливо ждал случая встретиться с нею снова. Случай этот, однако, не приходил. Твардовский уже чувствовал в себе присутствие любви и дал себе слово овладеть красавицею какими бы то ни было средствами. Любовь, чары, кровь, смерть, яд, убийство, измена – все должно было идти в дело… «Она будет моею! Будет! Клянусь всеми муками ада!» – говорил Твардовский, поглядывая на красные стены замка на обратном пути своем в Краков.
XXIV
Родные панны Ангелики
Не нравились в Кракове Твардовскому посещения приятелей и шумное общество; думал он только о прекрасной сироте и, преданный единственно желанию познакомиться, сблизиться с нею, отыскивал ее через доверенных людей, справлялся, не приехала ли она в Краков, собирал сведения о ее родных, о ней самой. Еще до возвращения Ангелики (так называлась красавица), Твардовский нашел случай познакомиться с ее родными, в доме которых она останавливалась, а познакомившись, он приобретал возможность достигнуть скорее цели всех своих замыслов. Твардовский поспешил к родным Ангелики с твердым намерением снискать окончательно их дружелюбное расположение.
Родные Ангелики были, правда, мещане, но, причисленные к дворянскому дому Пораев; они присвоили себе и герб его, и фамилию и пользовались в то время немалым значением между горожанами Кракова. Пораи имели значительное, хотя и добытое торговыми оборотами состояние; они владели обширным домом, одним из лучших домов в городе. Надобно сказать правду, что шляхта смотрела на Пораев немного свысока: дед Порая был торгашом, которого многие помнили; убедительнейшим тому доказательством могли служить лавки в нижнем этаже принадлежавшего им каменного дома. Однако ж в то время, о котором говорим, Пораи уже не вели торговли и лавки отдавали в наем. Принимая во внимание, что они совершенно покинули ремесло торгашей и уже владели двумя небольшими селениями вблизи Кракова, из которых ставили людей в ополчение, краковские дворяне охотно знакомились и даже братались с Пораями. Главою дома Пораев был Станислав Порай, старая выжига, человек, знавший всю подноготную. Ненасытный, неумолкаемый говорун, он знал на память все сказки и побасенки, ходившие в народе, вел беседу всегда громогласно, любил погулять и посмеяться с такими же, как он сам, балагурами. В свободные от болтовни минуты пан Станислав вел анекдотическую хронику, современную летопись (время, увы! не пощадило этой драгоценности!), любил при удобном случае прочитывать из нее отрывки и те в особенности, в которых помещал свои умозаключения, сентенции, всегда подкрепленные и приправленные, как заморскими кореньями, цитатами из Сенеки, Тита Ливия, Тацита, Овидия и Виргилия. Чуть ли не все их творения знал наизусть пан Станислав.
В сущности, он был человек весьма поверхностный и более краснобай, чем философ; не вникая в глубину вещей, он был скорее затейливый болтун, рассказчик (ему особенно льстил титул рассказчика). В качестве человека тщеславного, он на слово верил каждому льстецу; самый ничтожный панегирик сладостно щекотал его душу. Он легко убеждался в небывалых достоинствах своих благоприятелей, как верил своим собственным; увлекался всяким самохвалом, превозносившим себя до небес, а уж если однажды кому доверился, то держался упрямо своего мнения и жарко отстаивал своих любимцев.
Пани Варвара, почтенная его супруга, дочь бедных, но благородных родителей, высоко ценила чистейший клейнод своего шляхетского рода и свои родственные связи; она была страстно влюблена в престарелого мужа, – так водилось в доброе, старое время. Тогда не было в диковинку видеть пару сизых голубков, хотя и состарившихся, но влюбленных друг в друга, как в молодые годы.
Пани Варвара, увлекаемая привязанностью к пану Станиславу, успела уверить себя в том, что муженек ее – мудрейший и ученейший из смертных. Любовь ее не допускала ему соперников ни в умственных способностях, ни в прелестях внешних, хотя пан Станислав, сказать между нами, был только что не безобразен. Домовитая хозяйка проводила целые дни, перебегая из кухни в кладовые, бренчала заткнутыми за пояс ключами и даже на скромном супружеском ложе бредила стряпнёю разного кушанья, домашними вареньями и наливками; сквозь сонь воевала с домашнею челядью, не забывая притом приголубливать мужа нежным названием кошечки. Пан Станислав платил жене за страстные чувства степенною, старопольскою любовью. Глубоко уважая в ней достоинства жены и хозяйки, он иногда удостаивал ее поцелуем, что случалось, однако ж, только в большие праздники. Более же всего заботился и сушил он свой мозг над тем, чтобы уверить пани Варвару в своей учености и обширности своего победоносного ума, надеясь довести тем привязанность своей Бавквиды до степени обожания. Теория супружеского счастья пана Станислава утверждалась, как видите, на твердом основании.
Супруги были бездетны. Бедная сиротка, встреченная Твардовским в доме воеводы, была родственница пани Варвары. Воевода, при жизни дочери своей, воспитывал ее вместе с Ангеликой, связанной с нею узами дружбы, и вообще принимал живое участие в судьбе сироты. По смерти своей приятельницы, Ангелика изредка посещала замок воеводы для того, чтобы повидаться со своим покровителем и взглянуть на места, где пролетели лучшие лета ее юности; остальное время проводила она в Кракове, в доме пани Варвары.
Скажем теперь несколько слов о пани Ангелике. Она была редким, в своем роде, существом. Одаренная от природы всеми умственными совершенствами, она привлекала к себе огнем своих черных очей, величием осанки, в особенности же исполненным дивного благородства, выражением лица: казалось, что каждый, кто приближался к ней, признавал превосходство ее над собою и против воли смотрел на нее с какою‑то почтительною боязнью. Характер пани Ангелики вполне соответствовал ее прекрасной наружности. В тот век Ангелика была довольно редким явлением. Не взирая на бедность свою и одиночество, она ценила себя очень высоко; на мелкую шляхту не обращала почти никакого внимания; руки своей удостоила бы она разве какого‑нибудь каштеляна [15]. Мещан она презирала, любезников осыпала язвительными колкостями, заносчивых громила насмешками, а на брачные предложения их отвечала эпиграммами. Сирота и без состояния, Ангелика тем не менее гордилась своею красотою и благородством происхождения.
В особенности изумительна была в ней необычайная ученость, усилившая, без сомнения, ее тщеславие. Ценя высоко науки и знание, в то время запрещенный для женского пола плод, она была существом особым, казалась чем‑то средним между мужчиною и женщиною. Неистощимым для нее наслаждением, самою приятною забавою было ловить неосторожные слова, терзать и осмеивать неучей и недозрелых мудрецов. От этого‑то, несмотря на всю ее красоту, бежала от нее молодежь. Волокиты бросили ее и стали искать более легких побед, и пани Ангелика увидела себя покинутою всеми в 25‑летнем возрасте, которого именно достигла в то время, когда встретился с нею и влюбился в нее Твардовский. В заключение мы должны сказать, что немало упреков слышала Ангелика от пана Станислава, который постоянно ставил ей в образец добродетели своей супруги, пани Варвары.
– Зачем отвергнула ты столько женихов, столько честных мещан и купцов? – спрашивал он ее иногда. – Теперь никто уже не станет искать руки твоей. Красоту твою губят годы; заботы усеют прекрасное лицо твое морщинами, слезы избороздят его, – останешься ты навек старою девой.
– Лучше остаться старой девой, – отвечала ему обыкновенно гордая красавица, – чем связать себя навсегда с каким‑нибудь глупцом.
– С глупцом? – возразил пан Станислав. – И ты называешь таких людей глупцами? Много достойных, всеми уважаемых людей искали руки твоей, и разве в числе их не было людей умных и просвещенных, которыми бы не погнушались и первые наши невесты?
– Желаю им счастья и менее, чем я, прихотливых почитательниц, – хладнокровно отвечала на все эти вопросы и убеждения пана Ангелика.
– Что же ты думаешь сделать из себя со временем? – спрашивал ее пан Станислав.
– Если вы, которых я привыкла считать своими покровителями, отступитесь от меня, то пойду в монастырь.
– Гм! Гм! – прервал ее пан Станислав. – Разве тут идет речь о том, чтобы мы когда‑нибудь решились покинуть тебя? Ты знаешь сама, приходила ли когда‑нибудь в голову мне или жене моей подобная мысль? Единственное желание мое – обеспечить судьбу твою. Согласись, что девушка до тех пор не может считать себя в безопасности, пока не вверит судьбы своей избранному ей мужчине?
Пан Станислав обыкновенно называл ее «hic mulier» (вот женщина!) и хотя, в сравнении со своей супругою, почитал Ангелику чем‑то вроде нравственного урода, однако ж, питал к ней любовь и привязанность, быть может, и во внимание к тому, что никто так терпеливо, как она, не выслушивал бесконечных его сентенций.
Несмотря на все доводы и представления своего опекуна и покровителя, панна Ангелика, тщеславная своею красотою, остроумием и ученостью, столь необыкновенными для ее пола и возраста, ценила себя слишком высоко для того, чтобы смириться и упасть духом. Взирая на свет свысока, она не печалилась, видя, как с каждым днем убывали ее поклонники, как с каждым годом блекла ее красота, и утешала себя книгами и уверенностью в ничтожестве тех, которые не умели оценить ее. Надежды, впрочем, она не теряла; кто же, даже из самых мудрых людей, не ласкал себя подчас надеждою?
Твардовский дождался наконец возвращения пани Ангелики в Краков. В тот же самый вечер приехал он, будто бы невзначай, к пану Станиславу. В раззолоченной коляске, в богатом платье, сопровождаемый многочисленною свитою прислужников, подъехал он к воротам. Приняли его как нельзя лучше. Пан Станислав по обыкновению пустился в ученые споры, которыми любил угощать всех гостей своих. Скоро вошла в комнату и панна Ангелика и села за пяльцы, которые стояли у окна подле пялец пани Варвары. Пан Станислав отрекомендовал ее Твардовскому, не упустив рассыпаться в похвалах ее учености и любознательности. После первых приветственных слов панна Ангелика заметила Твардовскому, что уже имела удовольствие видеть его в замке воеводы. Это польстило самолюбию влюбленного гостя и придало ему необходимую отвагу. Он подсел к Ангелике и начал разговор, который, как казалось, не был для нее скучным. Она была с ним не такою, как с прочими ее поклонниками. Твардовский, слышавший о ней так много, дивился, найдя ее не насмешливою, не суровою, но раскованною, милою и любезною. Ему, мудрецу, не приходило в голову, что Ангелика могла принимать его не как простого волокиту и любезника, но как знаменитого ученого, в лице которого боготворила своих идолов – славу и известность. Была она к нему снисходительна и нежна, ибо видела в нем великого человека, и этот великий человек, это чудо века, сидел подле нее, говорил с нею! Теперь уже сама гордая красавица строила в голове своей планы, каким образом опутать любовью Твардовского, покорить его сердце, которым еще не владел никто. Не одно тщеславие побуждало Ангелику к этому: она уже мечтала также о неистощимом богатстве Твардовского, о котором в городе ходили, как водится, самые преувеличенные слухи. Со своей стороны, Твардовский полюбил ее страстно, тою юношескою любовью, которая не знает для себя преград и пределов. Он любил ее для нее самой, найдя в ней все, о чем говорило ему его воображение. Не раз приходила в голову нашей красавице тщеславная мысль, что никто, кроме нее, великой женщины (так думала она о себе), не мог покорить сердца Твардовского – величайшего и славнейшего из мужчин. Она не пренебрегла ни одним оружием, к которому в подобном случае прибегает кокетство женщины: взгляды, слова, движения – все было употреблено ею в дело. Оставляя дом пана Станислава, счастливый Твардовский уже почти видел себя обладателем этого чуда красоты и ума; победа доставалась ему гораздо легче, чем он рассчитывал.
Начало было удачное: оба беспрестанно думали друг о друге, хотя и различно. В то время, когда воображение Твардовского рисовало ему дивную красоту Ангелики, ее лицо, грацию походки и всех движений, пани Ангелика думала об его славе, знаменитости и богатстве. Ей, как холодной женщине, нужны были один наружный вид счастья и пустые возгласы толпы. Ошибался Твардовский, читая в глазах ее зародыш любви: в них было одно тщеславие, одна жажда известности и ни следа чувственной, сердечной привязанности. Если и могла возродиться в ней эта привязанность, то разве на мгновение: для благ этого мира красавица жертвовала всем на свете. Во сне и наяву бредила она рукоплесканиями, удивлением толпы, богатством и славою.
И вот великий мудрец снова ошибся, как ребенок, в выборе, в знании женщины и ее характера!.. Причину этого мог объяснить один дьявол, который раздул в сердце Твардовского жар страсти, вследствие давно уже замышленного им плана.
XXV
Что советовал Твардовскому дьявол
С этого первого свидания началась любовь Твардовского, которую он уже не скрывал. Образ жизни его изменился совершенно. Несмотря на то, что Твардовский виделся с Ангеликой в доме пана Станислава, он ходил по церквам, на публичные гулянья, словом, везде, где была возможность встретиться с Ангеликою. Все время его было посвящено ей, и с каждым днем сближался он с нею более и более. Зная женщин, Твардовский дивился той осторожности, какую выказывала Ангелика в беседах с ним. До сих пор она не говорила ему о любви своей, до сих пор и сам он не находил в себе смелости для решительного объяснения, хотя в глазах его Ангелика ежеминутно читала это страстное объяснение. Бывали минуты, в которые Ангелика казалась более снисходительною и сама подавала повод к объяснениям, на которые, со своей стороны, по какому‑то странному противоречию в поступках и мыслях не решался Твардовский. В эти минуты происходила в нем какая‑то непонятная борьба. С одной стороны, вставал дьявол со своими адскими предначертанными планами, с другой – благородное чувство любви. Борьба, казалось, происходила за то, должен ли жениться или просто любить Твардовский. Ему казалось (как показалось бы всякому на его месте), что он будет любить одинаково целые века… Поэтому он желал бы видеть ее скорее женой своей, чем любовницей, чего, однако, вовсе не хотелось дьяволу, который с этой целью упорно удерживал Твардовского от решительного объяснения.
– Подумай хорошенько, – говорил он ему, – остановись, пока еще время, брось свое ребячество. Потеряешь славу, счастье; свяжешь себе руки женщиной; предоставишь ей право на твою жизнь, на время занятий, богатство, словом, на все; из вольного короля ты станешь вдруг добровольным рабом смазливенькой жены. Не удивляет меня твое желание обладать ею, не противлюсь ему, но зачем жениться? Зачем связывать себя вечным узлом, сплетенным для добрых мещан, для дураков, которым неволя нужна, как хлеб насущный, которые не прожили бы и одного дня без ошейника? Кроме того, размысли хорошенько, не будет ли женитьба твоя противна заключенным тобой со мною условиям?
– Я отдал тебе одну мою душу, воля моя остается при мне, – отвечал Твардовский, – я буду делать, что мне вздумается.
– Согласен с тобою, – продолжал дьявол, – откидываю в сторону интересы ада и говорю только о твоих. Женитьбой ты наживешь беды, заботы, детей. Ты даже не можешь быть так счастлив, как бы тебе хотелось, потому что должен будешь всем делиться с женою, которую едва ли узнал хорошо.
– Знаю как нельзя лучше, – возразил Твардовский. – Это единственная женщина в мире, у которой прелестная наружность согласна с душою.
– Вот как! – продолжал дьявол, заливаясь громким смехом. – И ты думаешь, что эта женщина будет в состоянии осчастливить тебя, что она во всем сойдется с тобою!.. Ты привык к свободе, она к регулярной жизни, как часы на ратуше, которые, пробив 24 часа, опять начинают с первого. До сих пор ты не знал ночи и дня, не знал назначения часов – этой несносной неволи, не знал никакого принуждения, ел, пил, спал, когда, где и сколько тебе хотелось. Теперь уже все это будет зависеть от твоей жены. Тебе назначат часы сна, обеда, любви, занятий и думы. Прикажут тебе идти спать, если жене вздумалось лечь, прикажут есть, если жене вздумалось сесть за стол, быть веселым, если она весела, плакать, если скучна, целовать и ласкать ее, когда вздумается. Ты не будешь собою; будешь тенью жены, ее дополнением, буквою в живом ее тексте. Ты задумаешься о великих вопросах науки, а она уткнет тебе под нос твое платье с упреками, зачем так скоро истаскал его. Одним словом, тебя свяжут, запрут, запрячут, замучают.
– Оставь меня в покое с твоими предсказаниями неволи… Я принял твердое намерение жениться и женюсь.
– Да, если увезешь, а увезти ее тебе придется, потому что хоть ей и хочется выйти за тебя и хоть пан Станислав тебя любит, но ты знаешь, что по духовному завещанию Ангелика в таком только случае делается наследницею имения Станислава и его жены, если выйдет за одного из их родственников, богатого купца. Купец этот имеет не меньше твоего, а ты знаешь, что нынче даже и пятнадцатилетняя девушка не променяет золото на любовь, а твоей, я думаю, гораздо поболее пятнадцати. Поверь мне, что если она и ласкает тебя, так это за твою известность и славу; она любит тебя как знаменитость, как богача… Впрочем, она еще, может быть, и пошла бы за тебя, да против желания пана Станислава ей трудно будет идти…
– В таком случае, увезу ее, – сказал Твардовский, – и женюсь; иначе она не захочет быть моею.