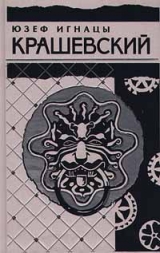
Текст книги "Твардовский"
Автор книги: Юзеф Крашевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
Слова эти сопровождались жаркими поцелуями.
– За что же, скажи мне, мой друг, зовут Твардовского чернокнижником, всеведцем, когда он позволяет нам обманывать себя так спокойно, когда он и не подозревает об этом обмане, не знает, что не его, а только его богатства хотела ты, выходя за него замуж?
– С мудрецами всегда так, – отвечала Ангелика, – засмотревшись на небо, они не примечают, что делается у них под носом. В нем нашла я одно, в тебе другое…
– Глупый мудрец! – воскликнул счастливый любовник.
В эту минуту с треском отворились двери и Твардовский с поднятою саблею вбежал в спальню… Ангелика вскрикнула; любовник ее схватился было за висевшую подле него саблю, но сабля в то же мгновение превратилась в кусок полотна.
– А! – вскричал Твардовский, бросая гневные взоры на преступных. – Так глуп Твардовский, глуп, потому что знал все, потому что сторожил вас, глуп, потому что жестоко отплатит вам?.. Умны только вы, которые попались в западню?.. Посмотрю, как‑то вывернетесь вы от меня!.. Между нами все кончено, – продолжал он, обращаясь к жене, – не священник венчал нас, а черт знает кто… Прочь из моего дома, негодная! Ступай просить милостыню или лучше продавать горшки на краковском рынке. Ты, которая весь свой век бредила о богатстве и славе, узнаешь теперь, что такое нищета. Прочь с глаз моих, негодная!
Он кликнул слуг и приказал выгнать жену свою. Приказание было исполнено в ту же минуту. Слуги не любили Твардовскую и рады были случаю отомстить ей.
– Тебя же, любезный, – продолжал Твардовский, обращаясь к Христофору, – я осуждаю на 20 лет раскаяния: 20 лет будешь ты бегать собакою, 20 лет будут гонять тебя камнями, обливать кипятком, бить палками. Ступай вслед за своею возлюбленною.
Едва успел он произнести эти слова, как Христофор превратился в собаку, залаял, завыл и выбежал на улицу, сопровождаемый пинками слуг и дворовой челяди.
XXX
Как мстил за себя Твардовский
Значительная перемена произошла с Твардовским после такого испытания. Все еще надеясь отыскать женщину, которая бы полюбила его искренно, он искал ее, но искал напрасно. Женщины могли полюбить его за богатство, а любовь свою дарили другим, которые не были ни учеными, ни богатыми. На свете всегда так. Поневоле он должен был ограничиться этою фальшивой, грубою, продажной любовью, которая не насыщает, а возбуждает еще более жажду, и к которой прибегают многие, как охотники, томимые жаждой, к заплесневелому болоту. К этим‑то женщинам, любовь которых покупалась на золото, прибегнул Твардовский, думавший в продажных объятиях потушить пламень, который жег и палил его. Коварный дьявол ставил ему на глаза множество таких красавиц, и в те минуты, когда недовольный Твардовский, разочаровывавшийся с каждым днем, все более грустил и задумывался, вспоминая о лучшем времени, сатана шептал ему:
– Поверь мне, Твардовский, иной любви нет на свете, разве для тех дураков, которые верят в нее. Бывает привязанность по привычке, бывает страсть, руководимая животным побуждением, бывает платоническая любовь юношей, но той любви, которое ты ищешь, любви в высшем смысле, – такой любви нет на свете, как нет фениксов и сирен, о которых серьезно трактовали очень ученые люди. Все это – басни, выдуманные для поживы людскому суеверию…
Убедить Твардовского в несуществовании истинной любви было главною целью дьявола: он знал, что ничто не может так скоро исправить порочного человека и сделать его добродетельным, как истинная любовь, и этого‑то всего больше он боялся.
Так прошло несколько лет. Однажды, проезжая через краковский рынок, в толпе торговок приметил Твардовский жену свою. Бледная, исхудавшая, убитая горем, сидела она в сколоченном из досок шалаше, прилепленном к стене огромного дома и продавала горшки. Горькая улыбка показалась на лице Твардовского при виде этой женщины, когда‑то любимой им, выбранной его сердцем, женщины, для которой он готов был пожертвовать всем на свете и которая не ценила этого пожертвования, которая обманула, продала его, разбила, как хрупкую игрушку, все его счастье.
Грязные лоскутья прикрывали когда‑то нежное, белое, прекрасное ее тело. Она страшно изменилась. Лицо ее обтягивала желтая кожа, волосы на голове вылезли, губы посинели, одни только черные глаза, блестевшие в глубоких впадинах, говорили о прежней красоте ее. У ног ее лежала исхудавшая, избитая собака, которую она призрела из сострадания… собаку эту узнал Твардовский, и новая жажда мести вспыхнула в нем.
– Разбейте горшки у этой распутницы, – сказал он, обращаясь к окружавшей его толпе слуг, – и поколотите хорошенько ее скверную собаку.
Приказание это было исполнено в ту же минуту, – и площадь огласилась плачем торговки и громким воем собаки.
Бедная женщина узнала своего мстителя. Она закрыла лицо руками и рыдала до тех пор, пока силы совершенно ее оставили.
Дьявол, носившийся невидимо над Твардовским, рукоплескал этой подлой мести.
Открыв, таким образом, убежище Ангелики, Твардовский начал преследовать ее своим мщением. Каждый раз, проезжая мимо ветхого шалаша ее на краковском рынке, он приказывал своей прислуге бить горшки и собаку. Лишенная последнего средства существования, Ангелика должна была оставить Краков и искать себе нового приюта.
Не столько за измену и неверность мстил ей Твардовский, сколько за то, что позволил себе вдаться в обман. Этого никогда не могло ему простить его самолюбие. Руководимый советами дьявола, Твардовский давно уже спустился с того пьедестала, на который ставили его мудрость и опытность: теперь он стал в уровень с теми низкими эгоистами, для которых мнение света становится законом, которому они готовы пожертвовать всем, даже обломками чести и совести, какие могли бы еще случайно в них уцелеть.
XXXI
Как Твардовский вспоминал о своем прошлом и как поссорился с дьяволом
В этой юдоли плача все оканчивается горестью и почти все наслаждения сопровождаются слезами и раскаянием. Мы жалеем прошедших минут, как промотанного богатства, мы оплакиваем исполненную бедствиями жизнь, и нередко из того, что было нашим счастьем, делается от пресыщения горькой отравой.
Так случилось и с Твардовским. Не удовлетворенный ни познаниями, ни светом, он грустил и с горестью вспоминал об утраченной им навсегда вечности. Ежеминутно упрекала его совесть в постыдном договоре, заключенном с дьяволом. Поздно увидел он, что ничто на свете не искупит ему души и бессмертия. Все, приобретенное им за бессмертную душу, было ничтожно и оканчивалось вместе с жизнью. Воспоминания о прошлом, не подкрепленные мечтами о радостном будущем, не доставляли ему утешения… Черна и мрачна вставала перед ним будущность; каждый час, каждый день сближал Твардовского с этим будущим, о котором он прежде так мало заботился. Вторично показавшаяся в голове его седина заставила его подумать о краткости людской жизни, в которой все становилось для него пустым и ничтожным, все: надежды и радости, познания и наслаждения…
– И это жизнь! – восклицал он. – Где же то пресыщение наукой и мудростью, которого я домогался! К чему положительному привели меня все мои ученые бредни и утопии? Что оставили во мне удовольствия света, которых я так жаждал?..
И из всех этих дум, предположений, вопросов Твардовский выносил глубокое, искреннее сожаление об утраченном золотом времени молодости, когда в душе были только вера и надежда, когда в уме еще не рождалась мысль о свете с его безотрадными наслаждениями. Тогда казалось ему, что вся эта жизнь протечет для него в отеческом доме, под родимою кровлею, среди скромных семейных надежд и радостей. Позже смеялся Твардовский над картиной такого счастия и называл его счастием глупцов, в котором не было ни тины, ни сору. Но теперь, когда от всех наслаждений жизни оставалась на устах его горечь, теперь он жалел об этом спокойном счастии, которое, как ручей, было одинаково чисто в конце и в начале, и он говорил себе:
– И нужно же мне было оттолкнуть от себя это счастье, для которого, конечно, судьба назначала меня? Одно горькое раскаяние приобрел я этой переменою. Мирно и тихо доживал бы я теперь век свой… Я научился бы ценить то, в чем теперь не вижу никакого значения, я любил бы деревню, весну, природу и был бы счастлив, не чувствовал бы раскаяния и угрызений совести…
И при этом Твардовский вспоминал свою мать, вспоминал ее нежные ласки, ее советы, ее молитвы… Целительным бальзамом были для него воспоминания о матери.
От воспоминаний о прошлом переходил Твардовский к настоящему, к будущему, и тут ад разевал перед ним страшную пасть. Содрогался Твардовский при мысли, что туда не будут сопровождать его ни воспоминания о младенческих летах, ни любовь и молитвы матери. Он понесет с собою туда одно раскаяние и воспоминание о своих преступлениях.
И снова мерил он мыслью свои протекшие годы, и снова возвращался к дням юности, к минутам религиозного убеждения, к минутам глубокой веры, когда сам он, еще в школе, сочинял в честь пресвятой Девы и святых угодников канты, которые до сих пор пел в церквах набожный народ. Вспоминая отрадное, вдохновлявшее его чувство и счастие, каким награждала его вера, он горько сожалел, отчего эти минуты не связывались ничем с дальнейшими годами жизни, когда уже бунтовал дух его, а рассудок пытался проникнуть сокрытые от человечества тайны.
С этого времени по целым ночам иногда предавался Твардовский раздумью, если коварный дьявол, предугадывая его, не заменял этих мыслей другими или не опутывал его сетями скоро проходящих наслаждений.
С приближавшеюся старостью грустнее становилась жизнь Твардовского; он чувствовал, что скоро настанет для него тот день, когда дьявол, в силу условия, овладеет им безвозбранно. Невольно обращался он тут к средствам спасения, но каждый раз, когда вспоминал о тяжких грехах своих, бодрость оставляла его. Тяжелым камнем лежала на его сердце совесть. Целые ночи проходили для него в грустном размышлении: он сравнивал жизнь свою с тою жизнью, какую предназначала ему судьба, убеждался все более и более, как мало достаточны для этого счастия разум и воля человека, как ничтожны порывы ума и страсти, влекущие за собой раскаяние…
В одну из таких ночей, когда Твардовский, облокотясь на стол и поддерживая руками пылающее чело, покрытое прежде времени морщинами, предавался потоку грустных мыслей о своей судьбе, он почувствовал, что физические страдания, всегда так тесно соединенные с болезнями души, начинали подкапывать и разрушать его крепкое здоровье. Внутренний жар палил его. Петухи давно уже пропели, и утренний воздух пахнул в комнату. Напрасно Твардовский выставлял пылавшую голову, напрасно вдыхал в себя воздух, желая освежиться. Жар не утихал; кругом Твардовского все было безмолвно и пусто; один только Матюша раскидывал в углу окна сеть своей паутины. Взглянув на него случайно, Твардовский позавидовал его участи.
– Он счастливее меня! – сказал он. – Где моя слава и что мне осталось после нее? Где жизнь моя и что мне пользы в ней? На что пригодилась мне мудрость, которой пожертвовал я всем на свете? В этом лысом черепе, который люди зовут головою и венцом человека, трясется и сохнет мозг – вместилище всего, что отличает человека от бессловесной твари. Тесно в нем мудрости и науке, и скоро оставят они его, как ветхий, развалившийся дом. И если б осталось мне хотя воспоминание о счастье?.. Да и было ли это счастьем, то, что испытывал я под его именем?.. За исключением воспоминаний юности, ничтожны все мои воспоминания.
Среди таких размышлений дошла до слуха Твардовского одна из тех песен, которые сложил он некогда в честь Богородицы. Работник, начинавший свой день молитвою, пел ее чистым, звучным голосом. Горячие слезы раскаяния вырвала у Твардовского эта песнь, – едва ли не первые слезы в его жизни. Тут только, во всей увлекательной свежести, предстали перед ним, как сквозь туман, его молодые лета, родительский дом и счастливая сельская жизнь. Глубоко отозвалась в сердце Твардовского эта песнь… В немом отчаянии, с горячими слезами на глазах прислушивался он к ее звукам, как бы боясь проронить их… Мечты эти рассыпались, когда Твардовский вспомнил, какая страшная жизнь отделяла его от этого времени. Могильный холод охватил его душу… Шатаясь, подошел он к окну и закрыл его.
– Славная песенка! – сказал кто‑то позади него. Твардовский обернулся и увидел перед собою дьявола.
– Но шутки в сторону, – продолжал искуситель, – ты, видно, уже состарился, Твардовский, когда так горько жалеешь о прошедших годах своих. Уж не наскучила ли тебе жизнь? Не лучше ли тебе взять посох пилигрима и идти в Рим?
– Подождем, – отвечал сурово Твардовский.
– Делать нечего, подожду; придет время – увидимся с тобой в Риме; ты и там не ускользнешь от меня… По‑моему, так право, Твардовский, нечего тебе ждать, а в аду вовсе не так дурно, как описывают. Ну, как же ты думаешь?
Твардовский мочал.
– Ты сегодня в дурном расположении духа, Твардовский, – продолжал дьявол. – С тобой, как вижу, сегодня не сговоришься. А знаешь ли ты, что за чудный край Италия?.. Край вечной весны, лазурного неба. А Рим, вечный город, столица древнего мира, вместилище художеств, всего, что люди произвели прекрасного!.. Даже для одного здоровья советовал бы я тебе ехать туда… О женщинах не стану и говорить: это – кипящая лава!.. Размысли хорошенько, Твардовский, и послушай моего дружеского совета: поезжай в Рим!
– Оставь меня, ради ада, искуситель! – сказал, наконец, Твардовский. – Клянусь, что нога моя не будет никогда в Италии и в Риме!
– А что же будет с нашим условием? – прервал его дьявол. – Ты знаешь, что я должен взять тебя не иначе, как в Риме…
– Это не мое дело, – холодно заметил Твардовский. – Делай, что хочешь, а в Рим я не поеду.
– И это последнее твое слово? – спросил дьявол.
– Последнее, – отвечал Твардовский.
Дьявол учтиво поклонился Твардовскому и вышел из комнаты.
XXXII
Как дьявол выстроил шляхтичу корчму
Несмотря на вежливый поклон, дьявол вышел от Твардовского, весьма недовольный им и самим собою. Не нравились ему эти мечты о прошлом, которым с некоторого времени предавался Твардовский. Боялся он раскаяния, к которому могли привести беседы Твардовского с собственною совестью. Он долго выдумывал средства, как бы заманить Твардовского в Рим… Для этого дьявол решился пуститься на хитрость.
– Во‑первых, – говорил он сам с собою, – чтобы быть в Риме, надобно быть в Италии, без чего мы завладеть Твардовским не можем. Что бы придумать?.. А!.. В записи написано просто – Рим, не Roma Italica. Нельзя ли сыскать другой какой‑нибудь Рим, – сочинить, например, какой‑нибудь Roma Polonorum?..
Обдумав план свой, как следовало, дьявол распустил крылья и полетел по Сандомирской дороге.
Долго бы летел дьявол, если б не остановила его внимание недостроенная корчма, стоявшая на большой дороге. В ней не было еще ни окон, ни крыши. Всматриваясь в корчму, дьявол приметил подле нее бедного сидевшего шляхтича. Тогда, нисколько не медля, он спустился на землю, подкрался и стал за углом корчмы, выжидая удобной минуты вступить в разговор с шляхтичем.
– Проклятые работники! Просто сволочь! – говорил шляхтич. – Попадетесь вы мне когда‑нибудь под руку: научу вас как шутить с шляхтичем!.. Будете вы меня помнить, мерзавцы! Не заплатил им в срок денег, – бросили работу и разбежались все до одного, черт их побери! А между тем сандомирский мещанин, у которого я нанял корчму, требует возвратить и деньги, и залог, если я не выстрою ее к сроку… А срок подступает. Что тут прикажете делать? Откуда набрать работников? Чай, мерзавцы, еще рассказали всем, что я не плачу!..
– Извините меня, что осмеливаюсь беспокоить вас, – сказал, выходя из‑за угла, с низким поклоном дьявол. – Слышу, что вы спешите достроить корчму. Смею ли спросить, когда положен последний срок?
– А тебе на что? – отозвался шляхтич, презрительно оглядывая дьявола с ног до головы. – Уж не подослали ли они тебя для переговоров?.. Смотри, чтоб не раскаиваться…
– Не гневайтесь, сударь, – отвечал сатана, – я не подослан ни от кого; я ремесленник, ищу работы; не угодно ли будет вашей милости нанять меня?
– Нанять тебя? – говорил шляхтич, продолжая оглядывать лохмотья дьявола. – А знаешь ли ты, что корчма должна быть достроена в два дня?
– Берусь достроить ее в два дня, – смело отвечал дьявол.
– Ты шутишь? – продолжал шляхтич. – Возможное ли дело, выстроить корчму в два дня, когда работы тут на добрый месяц. Разве черти помогут тебе…
– Может быть и помогут; это не ваше дело. Берусь сделать – и сделаю.
Шляхтич пристально посмотрел на дьявола. Тот улыбался.
– А что дадите мне за работу? – спросил дьявол.
– Да где тебе сделать!.. Скажи мне наперед, много ли у тебя работников?
– Всего одна голова, да две руки, – отвечал сатана. – Да что вам за дело до работников? Была бы послезавтра готова корчма, а за это я ручаюсь. Не исполню, тогда делайте со мною, что хотите.
– Пожалуй!.. Но мне все кажется, что ты шутишь. Предупреждаю тебя, что за шутку ты поплатишься своею шкурою. Уж не подослал ли тебя нарочно тот мещанин, у которого я снял корчму? Может быть, ему захотелось выиграть время и вернее взять с меня свой задаток и деньги?..
– Если не верите мне, то приставьте к корчме сторожей и велите смотреть за мною. Со своей стороны, я не только в два дня дострою корчму, но готов даже достроить ее к завтрашнему утру.
– К утру!.. Да только дьявол может сделать подобную штуку.
– Кто же вам говорит, что я не дьявол! – говорил сатана. – Впрочем, кто бы я ни был, до этого нет дела. (Шляхтич видимо струсил и перекрестился…) Теперь о плате. Вместо платы, в которой я не нуждаюсь, предложу одно условие.
– Какое? – боязливо пробормотал шляхтич.
– Я потребую сущей безделицы… Можете смеяться надо мной, сколько угодно, для меня тут идет дело о выигрыше заклада.
– Заклада? Какого заклада?
– Это не ваше дело… Условие то, чтоб вы позволили мне назвать корчму, как мне вздумается.
– Я было уже назвал ее "Новинкой".
– Я назову ее иначе.
– Желаю знать, как?.. Ты, может быть, назовешь ее так, что все станут смеяться надо мной да вдобавок не будут ходить в корчму?
– Напротив, я назову ее именем первого города в мире.
– Какой же это первый город в мире? – спросил шляхтич, как видно, не слишком далекий в географии.
– Рим.
– Рим? И ты говоришь, что для тебя тут дело идет о закладе?
– О закладе, которого я не моту открыть вам. Это мой секрет… Согласны на условие?
– Как нельзя больше. По рукам!
– По рукам! Завтра утром приходите сюда: корчма будет готова.
– Приду.
– Можете привести с собою и хозяина‑мещанина. Обрадованный шляхтич простился с дьяволом до завтра.
К утру корчма стояла совсем готовая: окна, двери – все было прилажено, как нельзя лучше; все до последнего крючка. Вдобавок, когда вошли в нее мещанин и шляхтич, яркий огонь горел в камине, и перед ним сидел и грелся наш дьявол.
Над дверьми прибита была вывеска с огромными литерами "Корчма Рим".
XXXIII
Как Твардовский доживал последние дни свои
Печально и грустно тянулись последние дни Твардовского. Ничто уже, казалось, не занимало его, – ни свет, которого он так добивался, ни науки, которые вычерпал до дна. Суровый, мрачный, с нахмуренными бровями, с лицом, покрытым морщинами, всегда молчаливый, ходил он по краковским улицам. Взглянув на него, каждый сказал бы, что жизнь надоела ему и стала в тягость. От всего прошлого осталась для него только шаткая слава его жизни, его мудрости и чернокнижия.
Твардовский не оставлял своих медицинских занятий. Присмотр за больными, беседы с ними, наблюдения над их болезнями занимали его, сокрушая время, тянувшееся для него невыразимо долго. В системе лечения Твардовский прибегал теперь более к науке, чем к силе дьявольской. Слава, благодарность, плата уже не интересовали его, как прежде, и не возбуждали в нем никакого чувства…
Грустно было смотреть на Твардовского: наружность так резко соответствовала состоянию его души. В каждой морщине лица, казалось, говорили раскаяние и угрызения совести: на высоком открытом челе его, некогда прекрасном, теперь обтянутом сухою желтою кожею, казалось, отпечатывались все внутренние его тревоги… Многочисленные друзья оставили его, заметив перемену в его образе жизни: для них нужен был не сам Твардовский, а его пиры и богатство. Те, которые недавно превозносили его до небес, теперь стыдились подать ему руку, убегали при встрече с ним. Остался ему верен один только Матюша, который по‑прежнему не оставлял своего барина и плел свою паутину на любимом окошке.
Большая часть времени проходила для Твардовского в уединенных проулках по краковским окрестностям, по скалам Кржемекки, которые до сих пор носят название "скал Твардовского". Там, погруженный в раздумье, проводил он целые дни и ночи. Теперь глаза его уже не увлажнялись облегчительною слезою, как в то утро, когда впервые услышал он свою священную песню. Таинственный голос прошлого уже не отзывался вторично в душе его: теперь он был глух к нему. Песни эти Твардовский с некоторого времени носил всегда с собою, хотя и не развертывал их; изредка только судорожно сжимал он их, как будто колеблясь между желанием найти в них отраду и облегчение и каким‑то таинственным страхом. Странные мысли об ожидавшем его аде и вечном мучении мертвили его душу.
Эти дни были для Твардовского днями агонии, за которыми не было светлого луча надежды, за которым только чернел ад. Хотя клятва, данная Твардовским дьяволу, не ходить в Рим, успокаивала его, но, с другой стороны, каждый раз, когда припоминал он себе зловещее выражение лица сатаны, мысль об его кознях и изобретательности беспокоила его, и он вооружался всею осторожностью…
XXXIV
Каков был конец Твардовского
Однажды вечером Твардовский был пробужден сильным стуком в ворота.
– Отворите, отворите, ради Бога! – кричали за воротами. Едва успел Твардовский отворить ворота, как на пороге показался молодой мужчина, бледный и расстроенный.
– Здесь живет Твардовский? – торопливо спросил он.
– Здесь, – отвечал Твардовский. – Что вам надо от меня?
– Спаси отца моего, ради всего святого, спаси его! В тебе одном наши надежды: мы истощили все средства, – ничто не помогло!
– Что сталось с твоим отцом?
– Ужасный случай: его разбили лошади. Все краковские доктора отказались лечить его. Он едва дышит. Спаси его, Твардовский, будь благодетелем!.. Все дам тебе, что ни потребуешь.
– А где лежит отец твой?
– Довольно далеко отсюда, под Сандомежем. По дороге расставлены у меня лошади, ради Бога, садись со мной и поезжай, Твардовский.
Спустя несколько минут Твардовский, забрав с собою все нужное, ехал с незнакомцем по сандомежской дороге. Лошади неслись, как вихрь; их беспрестанно переменяли. Наконец остановились они у новой корчмы, уже известной читателю. "Здесь лежит мой отец", – сказал незнакомец, указывая на корчму.
Твардовский вошел вслед за ним в корчму.
Едва переступил он порог, как вокруг него раздался страшный шум. Казалось, вся корчма потряслась на своем основании. Напрасно изумленный Твардовский искал взором больного: перед ним стоял сатана с роковою записью на душу Твардовского…
– Корчма эта называется "Римом"! – сказал патетически дьявол.
Трепет пробежал по телу Твардовского. Мысли смешались в голове его; он потерялся совершенно. Первым движением его было бежать к дверям, но двери были заперты; Твардовский взглянул на окна: из них высовывались целые рои бесов, кивали ему головами, дразнили его огненными языками. В отверстии камина сидел Вельзевул. Уйти не было никакой возможности. Спасительная мысль блеснула тогда в голове Твардовского: в колыбели, стоявшей у кровати шинкарки, лежало дитя. В одно мгновение Твардовский бросился к нему и схватил его на руки.
– А! – вскричал он. – Так ты обманом вздумал овладеть мною, сатана!.. Не удастся тебе штуке, подождешь до русского "завтра". С младенцем ты не возьмешь меня; он крещен и безгрешен!.. Даже прикоснуться ко мне ты не посмеешь теперь!
– Оплошал же я, оставив ребенка в колыбели, – подумал дьявол и потом ласково сказал Твардовскому: – Твоя взяла, Твардовский, ты выиграл. Не бойся, я не сделаю тебе ничего дурного, только положи ребенка в колыбель.
– Нет! Теперь уж больше не поверю тебе, – отвечал Твардовский, прижимая младенца к своей груди.
Дьявол ушел в другую каморку. Через минуту послышался чей‑то пискливый голос, и из каморки выбежала шинкарка. Увидев своего ребенка на руках Твардовского, она бросилась прямо к нему. Волосы ее были распущены, лицо горело, глаза блестели, как уголья.
– Отдай мне мое дитя! – закричала она. – Кто дал тебе право брать его? Отдай мне его!
– Я не возьму его; не сделаю ему никакого вреда.
– Не верь ему, не верь! Возьми у него свое дитя!.. Он задушит, сожжет, утопит его, – шептал дьявол шинкарке. Но шинкарка, видя как Твардовский с любовью прижимал к сердцу дитя, ласкал и целовал его, успокоилась и требовала его уже не так настоятельно.
– Слушай, шинкарка, – продолжал Твардовский, – даю тебе сто коп серебра, если позволишь мне продержать дитя твое до тех пор, пока я не выйду отсюда.
– Чем же поручишься ты мне в верности своего слова? – спросила шинкарка.
– Вот тебе деньги, – сказал Твардовский, бросая ей туго набитую кису.
Дьявол привел отца, но отец, которому жена уже успела показать деньги, не докучал Твардовскому своими требованиями.
– Держи у себя дитя, если хочешь, – сказал раздосадованный дьявол, – но уж я тебя не пущу через порог; я заморю тебя здесь; голодом.
– Увидим, – отвечал Твардовский, садясь на скамейку.
– Пусть я замерзну в аду, если когда‑нибудь свяжусь с мудрецом! – говорил дьявол. – Дорого досталась мне душа твоя, Твардовский!.. Ты взял за нее больше, чем следовало. И сколько времени и трудов пропало у меня с тобою!.. И вот чем платишь ты мне за все это! Послушай, Твардовский: что тебе в жизни? Разве ты не имел всего, чего бы не пожелал? Разве не прожил две такие жизни? Разве не испытал ты всех наслаждений? Разве не имел ты во мне самого верного своего слугу? И что осталось тебе теперь в этой жизни? Сожаление, страх, угрызение совести. Ты думаешь, что адские муки страшнее земных? Нисколько, поверь моему сатанинскому слову. Не лучше ли тебе окончить со мною дело одним разом, успокоить себя и отдать долг аду. Ведь рано ли, поздно ли, а ты попадешься в наши когти… Подумай…
– К чему ты торопишься, сатана? Успеешь еще сделать свое, оставь меня в покое!
– Ты думаешь, не надоело мне стеречь твою душу несколько десятков лет? Подумай, Твардовский… Ты знаешь, что я не могу; взять тебя с ребенком, но хорошо ли, честно ли с твоей стороны, Твардовский, отступаться от своего слова и отделываться хитростью? Ты заключил со мною условие на душу, а это не простая, не обыкновенная сделка. В серьезных вещах надобно быть честным и аккуратным, Твардовский. Как бы назвали тебя в свете, если б ты не исполнил данного слова или обещания?.. Бесчестным человеком, подлецом! А такое название неприлично и черту, а не только такому, как ты, шляхтичу.
Слова эти задели Твардовского за живое. Он начал думать о своем положении. Предвидя успех, дьявол продолжал свои аргументы:
– Между нами был сделан добровольный договор, а каждый договор должен быть святынею для честного человека и шляхтича. Verbum nobile debet esse stabile… Не так ли, Твардовский?
В ответ на это Твардовский положил ребенка в колыбель, сказав:
– Ты победил меня, дьявол. Я твой!
В эти минуту целые сонмы чертей с криком и свистом ворвались в избу, окружили Твардовского и, запустив в него острые когти свои, вылетели с ним через трубу.
Когда они были уже высоко в воздухе, Твардовский в последний раз взглянул на землю. При виде прелестной природы, при виде шумно катящихся широких рек, темных лесов, изумрудных полей и золотых нив вспомнил Твардовский о Боге, вспомнил об отце и матери, о детстве своем, – и затрепетала душа его, облилось кровавыми слезами сердце. Снова зазвучала в ушах его молитва, которую сложил и пел он, когда был ребенком, когда жил любовью, надеждой и верою… Вспомнив про эту песнь, Твардовский вынул свои канты и, добыв из груди остаток голоса, запел один из них…
От этой песни заколебались струи воздуха… Бесы, пораженные ею, как небесным громом, исчезли, и Твардовский с песнью на устах повис в воздухе, и послышался ему с небесных высот голос, будто звук трубы архангела, возвещавший ему:
– Будешь висеть так до дня страшного суда!
Тогда в горячей молитве принялся Твардовский благодарить Бога за чудесное его избавление… Но потом, опустив долу полные слез глаза, он уже не видел под собой земли… Белая, однообразная, прозрачная пустыня воздуха, с разноцветными облаками, с темными тучами, с солнцем, палящим сверху, окружали его… Не доходил до его слуха шум земной, не видел Твардовский ничего, ничего, кроме бесконечного, неизмеримого пространства; висел он один в этой воздушной пустыне, один с безотрадными мыслями, с неумолкавшею совестью…
И вот почувствовал Твардовский, что‑то щекочет его руку.
То был паук Матюша. Верный слуга и по смерти Твардовского уцепился за него и разделял теперь с ним горькую участь.
– Матюша! Ты со мною? – спросил Твардовский.
– С тобою неразлучен твой верный слуга, – отвечал Матюша.
И с тех пор паук Матюша, прицепившись к ноге Твардовского, висит с ним между небом и землею. Каждое утро на длинной паутине опускается он на землю, навещает знакомые места, собирает вести и передает их Твардовскому…
Таков был конец великого мудреца Твардовского, имя которого и деяния сохранились в предании народа – этой сокровищнице воспоминаний, которых не записывает история на своих страницах.
[1] Подгорж – предместье Кракова. шляхтич Твардовский. Собиралась гроза. Усталый конь, которому уже, видно, приелись острые шпоры всадника, шел шажком, выбирая тропинку поудобнее и, будто предчувствуя бурю, беспрестанно поднимал голову и посматривал на облака. Дорога шла в густой чаше и была вся изрезана глубокими колеями, которые размыли дожди, и потому можно вообразить, сколько было работы бедному коню, сколько страху бедному шляхтичу! Не было видно ни зги, и только по временам яркая молния, прорезывая черные тучи, освещала дорогу нашему путнику. Шляхтич тяжело вздохнул, да и как было не вздохнуть ему!.. Давно уже не был он дома, а там оставалась у него молодая женка, которую он любил больше всего на свете. Шляхтич был хотя и не трусливого десятка, но теперь ему стало страшно… В другое время такая дорога была бы ему нипочем, но теперь, когда за седлом его висела добрая мошна денег, вырученных им от продажи наследства от дяди, теперь он не хотел бы повстречаться с недобрым человеком. Как будто сочувствуя господину, и конь его то и дело фыркал, наостривал уши, останавливался и дрожал всем телом. Страшно стало шляхтичу, – и вот, в одну из тех минут, когда он понукал коня с большим ожесточением, а конь не слушался и упирался ногами в землю, блеснула молния и озарила ужасные лица нескольких разбойников.








