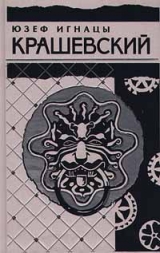
Текст книги "Твардовский"
Автор книги: Юзеф Крашевский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Юзеф Игнаций Крашевский
Твардовский

Крашевский Иосиф Игнатий
Твардовский
Повесть из польских народных сказаний
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
О том, каким образом на отца Твардовского напали разбойники, и что из этого вышло
В одну из темных летних ночей, какие часто случаются в августе, ехал в окрестностях Подгоржа [1] – сказала она, входя в комнату и низко кланяясь.
Вместо ответа Твардовский сунул ей в руку щедрую милостыню. Старуха едва верила глазам своим и посматривала то на деньги, то на Твардовского. "И это все мне?" – спросила она его наконец.
– Все, но не даром. Ты должна сослужить мне службу.
– Уж не помолиться ли за тебя? Уж не лекарства ли тебе какого нужно? – продолжала она и тут же принималась отрицательно покачивать головою. – Нет, за этим бы ты не позвал меня. В молитву ты не веришь, а всякого лекарства вдоволь у тебя самого.
– Не отгадаешь, о чем я хочу просить тебя! – сказал Твардовский, которого начинала тешить болтовня старой Кахты.
– Подай мне руку. А! Сердечная зазнобушка! – сказала она, рассматривая ладонь поданной ей руки. – Небось, отгадала.
– Отгадала!.. Ну, теперь таиться мне перед тобою нечего. Дело вот в чем: ты должна отнести вот это (Твардовский подал ей запечатанное письмо) в дом пана Станислава Порая и отдать прямо в руки воспитанницы его, Ангелики.
– Ну, трудненько мне будет это сделать, – отвечала Кахна. – Скорее взялась бы я доставить письмо фрейлинам старой королевы, чем пани Ангелике. Горда, горда, что твоя королева; чай и не подпустит к себе, да еще, пожалуй, проводит так с лестницы, что и костей потом не пересчитаешь. Впрочем, попытаться, пожалуй, я попытаюсь.
– Не бойся; ручаюсь тебе за успех; шепни только, что послана от меня. Но смотри, чтоб тебя никто не видел, кроме нее, чтоб никто не знал о твоем визите.
– Будь спокоен, не в первый раз мне исполнять такие просьбы. Бывали и мы молоды, знаем, как повести дело. Теперь только под старость вырос у меня горб; а было время, посмотрел бы ты на Кахну, молодую и пригожую. Теперь под старость пришлось помогать людям – и то слава Богу; сама не пью, зато смотрю, как другие пьют. Нечего хвастать, а спроси всех, другой Кахны не найдешь не только во всем Кракове, да и в целой Польше. Знают меня и не брезгуют безобразною старухой: не один паныч поцеловал меня за добрую весточку. Будь спокоен, отдам письмо панне Ангелике или не будь я Кахна!
– Только, ради Бога, будь осторожна с ней; ты знаешь, какая она гордая, – говорил Твардовский.
– Знаю, знаю, будь спокоен. Ведь птичку узнают по перьям, а человека по взгляду; наши сестры везде одинаковы, хоть снаружи и разнятся, как простое яйцо от свяченого, а разбей яичко – внутри все одно, что у крашеного, что у некрашеного.
– Ладно, пани, ладно; ну, отправляйся же с Богом!
XXVII
О том, какой был ответ панны Ангелики
Можно себе представить, с каким нетерпением ожидал Твардовский возвращения своей посланницы. На другой день на лестнице послышалась тяжелая походка Кахны; слуги не хотели было впустить ее, и Кахна завязала с ними ссору, которая, Бог знает, чем бы кончилась для нее, если б на крик, брань и угрозы ее не вышел сам Твардовский.
Когда Твардовский проводил ее к себе в комнаты, Кахна уселась на скамье и, отдохнув немного, принялась развязывать грязный сверток, вынутый из‑за пазухи. В свертке лежало письмо, которое она с торжествующим видом подала Твардовскому.
Ангелика соглашалась на предложение Твардовского с единственным условием – тотчас же по отъезде из дому обвенчаться с нею. Из письма Ангелики можно было заметить, что только одна страстная любовь, какую она чувствовала к Твардовскому, могла дать ей решимость на такое смелое предприятие. В самом же деле, любви тут не было ни на грош: богатство и слава Твардовского была причиною этой решимости.
Не помня себя от радости, Твардовский бросил старой Кахне кису с деньгами.
– Дай Бог тебе всякого счастья, – говорила старуха, пряча кису под фартук, – ты достоин его. Другой вот на твоем месте, пожалуй, еще побранил бы старуху, чтоб дать за работу поменьше, видала я таких молодцов, ей‑Богу, видала. Ну уж, присмотрелась я, какая красавица твоя суженая! А уж горда‑то, горда‑то, как лебедь. Ой, чтоб не было из этого худа! Плохо то счастье, когда придется просить его, да становиться перед ним на колени.
Простившись с Кахною, Твардовский пошел в свои покои, где уже застал монаха Бернардина; лицо его было закрыто капюшоном.
– Что угодно вашей милости, – сказал Бернардину Твардовский, – и как вы попали сюда?
– Я слышал, вы хотите венчаться, – отвечал монах. – Як вашим услугам; хоть сейчас готов обвенчать вас.
Сказав, он поднял капюшон, и перед изумленными глазами Твардовского явилось лукавое лицо беса.
– Ангелика согласна? – спросил он.
– Откуда ты знаешь об этом? – прервал его Твардовский.
– Об этом знает целый Краков, – отвечал бес. – Старая Кахна успела разболтать все дорогою.
– О! Попадись мне в руки эта старая ведьма! Я убью ее! – вскричал Твардовский, выбегая из комнаты. – Она погубит меня своим языком. До субботы еще два дня.
Но Кахна уже успела убраться подобру‑поздорову. Твардовский послал за ней в погоню своих слуг, но те не сыскали ее. Кахна зашла в ближний шинок, где застала нескольких дзядов и на радостях принялась с ними пить. Это ее спасло. Твардовский был в отчаянии.
– Не бойся, – отвечал ему дьявол, – эти вести, по всей вероятности, не дойдут до пана Станислава, а Ангелика сдержит свое слово. Желаю только, чтобы счастье, о котором ты мечтаешь, осуществилось, что – между нами будь сказано – очень сомнительно. Что касается собственно до меня, то я жалею о тебе. Но дело сделано, и прошедшего не воротить. Если идешь к венцу, бери меня в священники: я готов.
– Оставь меня одного, сатана… Vade retro! Я теперь так занят приготовлениями, что не имею свободной минуты.
– Я помогу тебе.
– Поможешь увезти ее? Пожалуй, ты подержишь лошадей и потом проводишь Ангелику к каплице… Теперь же – убирайся.
Дьявол исчез, а Твардовский принялся за распоряжения. Он разослал всех своих слуг за покупками, даже два дьявола отправлены были им за море для покупки каких‑то богатых свадебных уборов. Такая суматоха и деятельность продолжалась в доме Твардовского до самой вечерни первой субботы, в которую было назначено увезти Ангелику.
XXVIII
Как Твардовский женился, и что произошло на свадьбе
Двухместная, богато убранная коляска, запряженная четвернею статных коней, стояла перед церковью Богородицы. Карие кони, в богатых шорах, потряхивали длинными гривами и рыли копытами землю. На козлах сидел усатый возница в черной ливрее; два конных вершника сопровождали экипаж. Мужчина высокого роста, в шляпе с черными перьями, закутанный в широкий черный плащ, стоял у дверец. В движениях его заметно было нетерпение. Он то прохаживался около коляски, то заглядывал в церковь, ожидая окончания вечерни.
Читатели, без сомнения, отгадали в нем нашего героя. Уже смеркалось, и последние лучи солнца обливали золотом узорчатые шпицы колокольни. В церкви трезвонили. Толпы дзядов и баб толкались на паперти, визгливыми голосами пели молитвы и просили подаяния. Вокруг церкви стояло множество экипажей, но ни один из них красотою убранства не мог сравниться с коляской Твардовского, хотя черные ливреи кучера и лакеев скорее напоминали погребальную колесницу, нежели свадебный экипаж.
Наконец вечерня отошла, и народ густыми толпами повалил из церкви. Твардовский вмешался в толпу, высматривая ту, которую ждал с таким нетерпением. Толпа не один раз оттесняла его, не один раз рисковал он потерять из виду Ангелику. Несколько раз, обманутый сходством или одеждою, подходил он к незнакомым дамам и за смелость свою получал не совсем любезные замечания. Наконец толпа стала редеть, и из церкви поодиночке выходили запоздавшие богомольцы. Между ними Твардовский увидел и Ангелику. Прелестное лицо ее сияло невозмутимым спокойствием. Робко приблизился к ней Твардовский, остановил ее за длинный рукав платья и шепнул: "Все готово!"
– Я и не сомневалась в вашей аккуратности, – отвечала она, – поедем!
Твардовский проводил Ангелику к экипажу. Через минуту коляска неслась во всю прыть; Твардовский поскакал за нею верхом.
Небо было покрыто тучами и предвещало грозу; порывистый ветер взвевал пыль по дороге и дико шумел в древесных листьях. Была та весенняя пора, еще грустная, хотя и полная надежды скорого возрождения, та пора, когда природа сбросила уже с себя снежную кору, но еще не успела облечься в праздничную одежду, в цветы и зелень, пора, похожая скорее на скучную холодную осень, чем на весну. В оврагах еще белел пощаженный солнцем снег, воздух отзывался какою‑то болезненною сыростью; коляска ехала по дурной, избитой дороге, то вязла в грязи, то прыгала и подскакивала, наехав на срубленный пень или на корни деревьев.
Они ехали долго. На небе показалась полная луна; руководимые ее бледным полусветом, наши путники въехали в чащу леса и скоро стали у полуразрушенной часовни. Еще издали мелькнул красноватый свет из разбитого окошка. Там, в часовне, у алтаря, давно уже ждал молодых монах, с опущенным на лицо капюшоном. Когда коляска остановилась, Твардовский соскочил с лошади, высадил Ангелику и повел ее в часовню.
Печальный вид имела часовня, избранная Твардовским для торжественного обряда. Оставленная с давнего времени, полусгнившая, она покачнулась на один бок и, казалось, ждала только порыва сильного ветра, чтобы прилечь на землю. Ветхие стены ее были разрисованы потоками дождя, который свободно проходил сквозь дырявую крышу. Почти все окошки были разбиты, и ветер сквозь них напевал грустные молитвы, вторя общему тону разрушения. Множество разных обломков валялось в пыли, на полу. Скамейки были поломаны, истертые образа висели на стенах и тусклыми, едва приметными очами святые грустно осматривали печальную картину… Ветхий, покачнувшийся алтарь покрыт был куском пыльной холстины. По сторонам его в деревянных закопченных подсвечниках горели две свечи. Ветер колебал широкое пламя на сильно нагоревшей светильне. При одном виде этого жилища смерти и разрушения душу охватывала грусть и какое‑то тяжелое чувство, похожее на то, когда видим едва дышащего, отжившего свой век старца. К довершению столь печальной картины у подножия алтаря вместо брачного ковра разложен был гробовой саван с черным крестом посередине… Дурную будущность могла бы предсказать себе Ангелика, если б в эту минуту не была занята одною мыслью – мыслью гордости и тщеславия, – одним желанием – обвенчаться скорее и назваться пани Твардовскою. Свадебный ковер не обратил на себя ее внимания.
Не успели они войти в часовню, как уже начался обряд венчания. Он был исполнен так поспешно, что молодые едва успели отвечать на установленные церковью вопросы. Обмен колец, соединение рук – все это мелькнуло быстро, несвязно, будто во сне. Спустя несколько минут счастливый Твардовский сидел уже с женою в коляске и возвращался в Краков. Прелестная Ангелика, закутавшись в меховой плащ, была весела, как ребенок, смеялась и беспрестанно смотрела, не покажутся ли краковские башни и стены. На страстные слова Твардовского, на горячие его поцелуи, она отвечала со смелостью и равнодушием, которые уничтожили бы не одного влюбленного мужа в первый вечер после свадьбы. Перед рассветом увидели они Краков. Коляска въехала в городские ворота, обогнула несколько узких грязных переулков и наконец остановилась перед домом Твардовского.
Двери дома были отворены; в окнах блистали яркие огни. Толпа слуг, в богатых ливреях, ожидала свою молодую госпожу. На кухне поднялась суматоха; закипели кастрюли, застучали железные сковороды. Из парадных комнат доходили до слуха крики и восклицания.
– Чьи это крики? – спросила Твардовского молодая жена.
– Это мои гости. Я позвал их на свадьбу, – отвечал он.
Румянец оживил тогда бледные щеки Ангелики; с кокетством поправила она измятое дорогое платье…
В эту минуту отворились настежь двери, и Ангелика увидела огромную комнату, всю облитую светом бесчисленных свечей, обитую малиновым Дамаском с золотыми галунами. Посередине комнаты, за столом, уставленным золотою и серебряною посудою, сидели гости, соскучившиеся долгим ожиданием молодых. Они шумно встали и приветствовали чету.
Крик изумления вырвался у каждого из них, когда Ангелика сняла покрывало и показала лицо свое… Но среди этих криков был один крик гнева, злости, угрозы и проклятия:
– Ангелика!.. Моя воспитанница!
Читатель отгадает, кому, по всем правам, принадлежало подобное восклицание. Но прежде мы должны объяснить, каким образом на свадьбу Твардовского мог попасть пан Станислав. Твардовский приказал своим слугам просить к себе всех своих знакомых. В числе их слуги просили и пана Станислава, не зная, что его воспитанница была невестою их господина. Впрочем, никто из гостей не знал имени невесты Твардовского. Поэтому изумление их при виде Ангелики могло равняться разве любопытству, с каким старались они отгадать имя той, кому Твардовский отдавал свое сердце. Припомним, что большая часть гостей были усердные поклонники Ангелики, искали ее руки и получили отказ.
– Панове! – кричал Станислав, пробиваясь между гостями. – Всех вас призываю в свидетели! Видана ли такая смелость, такая насмешка над нашими патриархальными обычаями!.. Увезти, украсть мою возлюбленную воспитанницу, увезти, когда рука ее обещана была другому: это просто скандал!.. И как будто в насмешку просить меня на свадьбу, издеваться над моей старостью, над моей немощью, попрать мой герб, мой клейнод шляхетский! Ты должен своею кровью, Твардовский, смыть оскорбление. Вынимай саблю и бейся со мною, если шляхтич!..
– Драться, драться!.. – кричали многие, подстрекая Станислава.
Смятение сделалось общим. Все шумели, кричали, даже и те, которых, казалось, нисколько бы не должно было интересовать подобное дело. Женщины принялись плакать, Твардовская спряталась за своего мужа.
В числе гостей был и тот купчик, которому обещана была Станиславом рука Ангелики.
– Ваша милость осмелилась, – сказал он, выступая из толпы гостей и обращаясь к Твардовскому, – разрушить счастье почтенного семейства и похитить особу, рука и сердце которой обещаны были мне. Вы завладели моим добром, как разбойник; я должен отмстить за такое посрамление моей чести, – я должен рубиться с вами прежде всех. Вынимайте саблю.
– Молчал бы лучше, торгаш! – сказал один из друзей Твардовского. – Не заслужил еще права на саблю, а уж хочешь драться с шляхтичем! Прочь его! Пусть едет мерить сукно в лавочке.
Те из гостей, которые казались более миролюбивыми, старались успокоить смятение и помирить противные партии, но все усилия были безуспешны. Шум возрастал, и тогда только решилась вступиться за себя смелая пани Твардовская.
– Чего вы хотите от меня, господа? – сказала она. – Из чего вы хлопочете столько? Разве я присягнула вам на подданство, разве имеете вы на меня какое‑нибудь право?.. Разве я дочь ваша, пане Станислав, чтобы вы могли распоряжаться мною по своей воле? Разве я была вашей невестою, пане Доминик, чтоб вы могли вступаться за меня, как за свое добро?.. Какое вам дело до меня, спрашиваю я вас? Я сирота, я не ваша наследница, я сама имела право располагать своей рукой, не требуя вашего посредничества…
– Молчи, непокорная, неблагодарная! – кричал взбешенный Станислав. – Я не с тобой имею дело, а с тем, кто так лукаво обманул меня, с мужем твоим. Ступай себе к своим горшкам и веретену, а ты, Твардовский, вынимай саблю!
Хладнокровно, с насмешливой улыбкой выслушал Твардовский эти вызовы.
– Постойте!.. Зачем спешить? – сказал он наконец. – Сабли от нас не уйдут. Прежде попируем на моей свадьбе!.. Что за свадьба без вина и без танцев! Эй, музыканты!
В ответ на эти слова скрипки грянули веселый, удалый краковяк. Застучали серебряные подковки. Ноги затопали в такт и скоро заглушили угрозы и крики панов Станислава, Доминика и их сварливой компании. Веселые пары уже обходили кругом стола, покручивая усы, поправляя надетые набекрень шапки, гремели саблями и подковками. Бешеная мазурка, сменившая краковяк, загасила последние вспышки раздора. Танцевали без устали, под звуки чародейской музыки, не забывая осушать кубки с искрометным венгерским, очищать блюда, которые беспрестанно сменялись другими. На дворе давно уже стоял белый день, давно уже догорели и погасли свечи, а пир и танцы шли своим чередом…
– Ну, черт тебя возьми, Твардовский, с твоею музыкою! – говорил пан Станислав, красный, как рак, и покачиваясь со стороны в сторону. – Вели перестать играть, не то замучаешь нас на смерть. Черт с тобой! Не стану с тобой драться, только вели перестать музыке. Прощаю тебе все. Только зато уж нога моя не будет в твоем доме… Вели же перестать играть этим чертям. Ой, подержи меня, пане Доминику, не то упаду, повалюсь, как сноп.
Твардовский и молодая его помирали со смеху. Наконец, сжалившись над гостями, Твардовский приказал перестать играть.
Тогда начался ужин. Те из гостей, которые еще могли подняться на ноги, сели за стол; другие, опасаясь нового мщения со стороны Твардовского, спешили убраться домой подобру‑поздорову. Молодые заняли почетное место на переднем конце стола на парадных, обитых бархатом, креслах. Пир тянулся до позднего вечера.
Странные, дивные слухи ходили на другой день в городе. Утверждали, что прошедшая ночь тянулась нестерпимо долго; были и такие, которые божились, что вместо восьми часов ночь длилась целые сорок. Толковали, спорили и сошлись на тридцати часах. Не ручаемся за достоверность всех этих слухов, но можно сказать утвердительно, что ни одна ночь не показалась Твардовскому такою короткою, как эта первая ночь медового месяца.
XXIX
Как Твардовский жил с женою, как подслушал ее по совету дьявола, и что из того воспоследовало
Кто не знает первых золотых минут супружества, когда из чаши любви пьются первые сладости, когда вся прелесть наслаждения возвышается этим таинственным обаянием, этою полукороткостью обращения, которое сблизило, но еще недостаточно связало двух любящих? Кто не знает этих дней, блестящих счастьем, лучезарных надеждою, когда так и кажется, что вся жизнь пройдет в этом согласии, в любви и в счастии? Такие дни даются в удел даже самым неудачным супружествам: края чаши, наполненной горечью, омочены для них сладким нектаром. В то время супруги еще занимаются друг другом, ласкают друг друга; они уже коротки один с другим, коротки, насколько короткость эта нужна для их любви; они еще не выходят из тех условий, которые предписываются вежливостью, условий, бросающих на первые наслаждения любви отпечаток чего‑то неземного, идеального. В это время и он и она всматриваются друг в друга, стараются узнать друг друга, и в этой полудоверенности, полунедоверчивости – как счастливы они оба! Не должно ли это навести нас на мысль, что человек, ищущий продолжительного счастья в супружестве, должен искать его в предупредительном обхождении, во внешних проявлениях чувства, если б в действительности и недоставало его?
Таковы были первые дни супружеской жизни Твардовского. Молодые, казалось, были счастливы. Она забыла на время о своем тщеславии, о славе в богатстве; он, влюбленный в нее до безумия, У ног ее, целуя ее руки, смотря ей в глаза, забыл о всем мире, чувствуя, что счастье его было переполнено. Только тогда, когда взглянула ему в глаза страшная мысль о смерти, когда он вспоминал об аде, которому продал себя, только тогда хмурилось его чело и мрачно блистали глаза. Но если одна какая‑нибудь страсть овладевает нами исключительно, то все другие тонут в ее палящем огне. Так было и с Твардовским, и он все реже и реже допускал к себе эти черные думы. Дьявол, глядя на него, коварно улыбался. Он знал, что скоро пройдут эти чарующие минуты, он читал в глубине сердца Ангелики и видел будущность, которую готовила она Твардовскому.
Бежали часы, бежали дни, недели, месяцы, прошел целый год, и только к концу его начала изменяться пани Твардовская. Характер ее утратил всю сладость первых дней супружества, гордость и желание повелевать прорывались в ней беспрестанно и усиливались со временем. Смеясь и шутя, уступал ей Твардовский, все еще страстно любивший ее, но потом, когда капризы жены переходили границы, он становился более и более к ней равнодушным. Тяжелые мысли начинали наполнять его голову и возвращали почти уже забытые им минуты раздумья – припадки мизантропии. А между тем пани кричала в доме с утра до вечера, ставила в нем все вверх дном, тратила деньги на излишества и, желая затмить всех, с каждым днем изобретала новые заботы и развлечения. Наскучили ей скоро дом и муж; надо было искать новых знакомств, приглашать новых гостей. Перед ними она тщеславилась своим богатством и ученостью, к которой теперь уже примешивалось и кокетство. Таким образом, эти страсти вытеснили мало‑помалу любовь и привязанность, какие оказывала она Твардовскому, пока наконец они не остыли вовсе. Жизнь Твардовского становилась с каждым днем тягостнее. Его уже начинало мучить раскаяние. Образ жизни его изменился. Нередко в те минуты, когда он желал бы предаться обычной думе и размышлению, жена заставляла его занимать пустомель, прославлявших ее знания и таланты. В кабинете его по столам и книгам бегали женины собаки, на аппараты и чучела садились женины попугаи, которых она держала потому только, что королева и жена воеводы были страстные до них охотницы. Твардовский, как ребенок, привык слушаться жену и исполнять ее приказания. Сначала он это делал по любви, потом по привычке. Сначала она умела искусно расцвечивать свои желания сладкими эпитетами, которые в первое время женитьбы молодая жена обыкновенно прибирает для своего мужа; потом оставила мало‑помалу эти эпитеты, и желания незаметно превращались в строгие, суровые приказания.
В жизни мужей, даже самых кротких и послушных, есть минуты, в которые они одумываются и пристально вглядываются в свое положение. В эти минуты самый терпеливый из них теряет терпение. Такая именно минута наступала теперь для Твардовского. Менее страстный, менее чувствительный, чем грустный и задумчивый, он как бы нехотя начинал уже понемногу стряхивать с себя власть жены. Неудовольствие его обнаруживалось уже явственно. Дошло наконец дело и до маленьких ссор, которые обыкновенно оканчивались к вечеру, когда супруги ложились спать. Потом маленькие ссоры сделались продолжительнее, и супруги часто косились один на другого и не говорили друг с другом по целым дням. Все это, однако, в глазах света покрыто было наружным согласием, хотя внутри собирались грозовые тучи и кипела война.
Все на свете проходит понемногу; постепенно и незаметно мы стареем, постепенно ослабляют нас годы; постепенно и незаметно запутываемся мы в силках любви… Как пожар от искры, так и несогласие и вражда возникают всегда от безделицы… Все домашние междоусобия обыкновенно начинаются молчанием и гримасами, а оканчиваются кровопролитными войнами, и если хоть один раз переночевало под супружескою подушкой несогласие, то уж не выкурить его из дому. Когда война стала неизбежною, супруги вооружились каждый своим оружием и ждали только удобного случая к нападению.
И то сказать, трудно было бороться с Твардовским. На его стороне были ум и знание; к услугам его были адские силы и тысяча таинственных средств, которых ни предвидеть, ни отвратить невозможно. И против всего этого что могла противопоставить слабая женщина? Женское упорство и разбитое свое оружие – остатки еще не совсем угаснувшей прежней любви… Но эти остатки исчезли в первых схватках войны, и осталось от них, как черный уголь, одно воспоминание, осталось скорее ко вреду ее, чем к пользе. Наконец, супруги сходились для того только, чтоб ссориться…
Говорить ли, кто радовался и рукоплескал этой ссоре?
Рукоплескал ей он, отец вражды и ссоры, падший ангел, который давно уже погружал все глубже и глубже в душу Твардовского запущенные однажды когти. Один раз вошел он к Твардовскому, который после новой ссоры с женою сидел грустный, убитый душевным горем.
– Добрый вечер, Твардовский! – сказал он ему. – Давно уже мы не видались, а много воды утекло для тебя с тех пор… Судя по твоему мрачному взгляду, могу заключить, что уже сбылись мои предсказания, – что под розовыми лепестками брака ты уже почувствовал острые шипы и укололся ими… Не так ли?
– Нет, ничего; это так, вздор, безделица… семейные неприятности, неразлучные с супружескою жизнию, зло неизбежное.
– Я вижу дальше твоего, Твардовский, не проведешь меня, – отвечал ему с злобною улыбкою дьявол? – В душе твоей я читаю, как в книге, как в письме, ко мне написанном… Припомни себе, не я ли первый давал тебе совет не жениться, и не ты ли горячо и упорно опровергал мои доводы, обещал себе верное счастие?
– Я не ошибся в этом счастье. Маленькие неприятности еще не составляют несчастия: это легкие облачка на чистом небе.
– Да, облачка, которые сойдутся наконец в громовую тучу… Зачем ты таишься предо мной?
– Кто же сказал тебе, что я несчастлив и что причиною этого несчастия – жена моя?
– Ты забыл, что я знаю все, что я не оставляю тебя ни на минуту.
– А когда так, то прошу тебя, сатана, дай же мне совет, как выйти из положения, в которое я поставил себя.
– Не будут ли поздними теперь эти советы? Вольно тебе не слушать их прежде. Разве не советовал я тебе увезти ее, высосать из нее всю сладость, все то, что в ней было хорошо, и бросить потом, как ореховую шелуху, без которой не мог бы ты съесть зерна?..
Твардовский молчал.
– Ты сделал по‑своему, – продолжал дьявол, – и вот плоды твоего своеволия… Но, так или иначе, а надо же тебе кончить эту историю.
– Я готов на все, – сказал мрачно Твардовский.
– Ты выгонишь ее из дому…
– Выгнать из дому!.. С ума сошел ты, дьявол! А что бы стали говорить люди?
– Люди! Ха, ха, ха!.. Людская болтовня разве составит твое счастье или несчастье?
– Но, подумай… не пал ли бы на меня весь позор, если б решился я выгнать жену из моего дома?
– Жену, говоришь ты?
– Жену. Разве она не жена моя?
– Ха, ха, ха!.. Жену, с которою обвенчал тебя покорный слуга твой!
Твардовский задумался. До сих пор эта мысль не приходила ему в голову. Счастливый первою любовью, он считал себя законнейшим мужем во всей вселенной. Нерешительность, однако ж, все еще не оставляла его.
– Она не так дурна и зла, как тебе кажется, – сказал он наконец.
– Она гораздо хуже того, чем кажется, – прервал дьявол. – Ты, верно, еще не совсем разлюбил ее?.. Можешь жить с нею, если тебе угодно, но я советовал бы тебе наперед увериться хорошенько в ее добродетели.
– Как! Ужели ты думаешь, что она могла изменить мне! Она смела изменить мне!.. И ты говоришь мне это, сатана! – вскричал Твардовский, подбегая к дьяволу. Глаза его блестели, руки тряслись: ревность душила его.
– Не только говорю, но и утверждаю, – хладнокровно отвечал дьявол.
– Ты докажешь мне это!
– Нет ничего легче!
– Изменяет!.. Изменяет! – кричал Твардовский. – И для кого, для кого? Говори – для кого, спрашиваю тебя?
– Для кого!.. Как водится, для молокососа, который помоложе, посвежее тебя… А ты и не знал ничего, бедный муж! Знай же, что эта связь тянется уже добрых два месяца… Теперь не хочешь ли знать имя счастливца? Пан Христофор, королевский коморник, глупый, как кукла, и так же раскрашенный, нарумяненный.
– Я должен увериться в этом, должен непременно, – говорил Твардовский, – я убью изменницу!..
– Уверься. Но позволь сказать тебе на прощание, Твардовский: изо всех мудрецов в свете я не видал ни одного глупее тебя. Вместо того, чтоб спокойно ждать случая, который бы удостоверил тебя в неверности жены, вместо того, чтоб отмстить осторожно и обдуманно, упиться всею прелестью давно замышленного мщения, ты торопишься, хочешь, чтоб она обезоружила тебя кокетством, обманом, слезами, чтоб она снова и сильнее прежнего привязала тебя к себе!..
– Что же должен я делать?.. Что?.. Говори!.. Видишь: одна мысль об ее неверности жжет меня.
– Выслушай меня терпеливо. Скажи ей, что ты должен ехать сегодня из Кракова за несколько миль, приготовься к отъезду; выезжай из дому, но не из Кракова. Будь уверен, она позовет к себе своего любовника. Ты ночью войдешь в дом через садовую калитку, прокрадешься в спальню, услышишь, увидишь все.
– Но я не желал бы видеться с нею, – сказал Твардовский. – Чувствую, что я не удержался бы и высказал ей все, что у меня на сердце! – Говоря так, он позвал слугу и послал его уведомить жену о своем отъезде на несколько дней.
Спустя несколько минут дьявол показал ему в окошко выходившую на улицу служанку жены, поверенную всех ее тайн.
– Видишь ли, она уже послала за своим возлюбленным, – шепнул сатана. – Ну, захлопнем же мы их в западне.
Твардовский собрался в дорогу. Выехав за Флорианские ворота, он приказал остановиться в корчме, куда назначено было придти дьяволу. Тот не заставил долго ждать себя.
– Пойдем! – сказал он ему со злобною улыбкою.
Ночь была ясная и теплая, и путники скоро достигли садовой калитки. Отсюда пробрались они черед сад в комнату, смежную со спальней.
– Где же они?.. – нетерпеливо спросил Твардовский.
– Здесь, – отвечал дьявол, – слушай, только со вниманием… слышишь?..
Твардовский, бледный, весь дрожа, едва переводя дыхание, подвинулся к двери. В руке держал он огромную саблю. В спальной происходил следующий разговор.
– Ты думаешь, что я могла любить его? Я никогда не любила его, – говорила пани Твардовская.
– Зачем же ты отказала для него другим женихам, отреклась от наследства Пораев? Зачем позволила увезти себя? – говорил счастливый любовник.
– Твардовский богаче всех женихов и всех Пораев; я рассчитывала на это.
– Но признайся, Ангелика, ведь все же ты любила его в первое время замужества!
– Я притворялась и умела обмануть всех вас… Любовь для мужа то же, что мед для мух: просто их не поймаешь, а пойманные однажды, они уже не вырвутся на свободу.
– Ну, умен же твой прославленный философ, Твардовский! Славно ты провела его. Впрочем, и то сказано, трудно было не вдаться в обман при таких сильных аргументах, как эти прелестные глазки.
Тут услышал Твардовский звонкий поцелуй. Он уже хотел отворить дверь, но дьявол остановил его.
– Постой, рано еще… Услышишь еще кое‑что, – сказал дьявол.
Из спальни снова послышался разговор, на этот раз уже прерываемый частыми поцелуями.
– Неужели одно богатство могло тебя склонить выйти за Твардовского? – спрашивал Христофор.
– Не одно богатство… Я предпочла его другим за богатство, за славу, за значение. Всю жизнь бредила я славою и известностью; я все на свете отдала бы за них. В Твардовском я нашла все эти достоинства… Только не было любви. Любовь я узнала с тобой, – прибавила Ангелика после минутного молчания.








