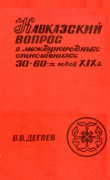Текст книги "Выборный"
Автор книги: Юрий Иваниченко
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
.– Ох, змеюка ж ты подколодная, – искренне рассмеялся Белов. – И что бы мы только без тебя делали. Мало что дураками померли, – до сих пор бы не поумнели.
– Смейтесь, смейтесь,– тоже улыбнулся и гут же закашлялся Приват, что вам еще остается?
– Когда нет ни времени, ни права поступать начерно,– сказал Василий Андреевич серьезно,– когда выпал один-единственный шанс, то с таким, как бюрократия, да и не с таким еще балластом можно временно примириться. Может, ход и не тот, да ни разу не перевернулись...
– Складно,– подтвердил Приват, – да вот только не про нашу жизнь. Вы вместо корабля счастья "болластовоз" сотворили, а все не хотите замечать... И почему так получается: как будто разными глазами смотрим? Вы видите одно, я – другое, святой отец наш – третье? Жизнь-то едина, неужели не может быть общего понимания?
– Чего же тут удивляться?– хмыкнул Белое.– Классовая слепота. Азбука марксизма.
– Знаю. Читал. Штудировал. Только не получается. Странная какая-то слепота, и не мешает дворянам Плеханову и Ульянову стать революционными теоретиками, капиталисту Энгельсу – классиком марксизма, сыну капиталиста Троцкому – борцом против капитализма, а князю Кропоткину – и вовсе анархистом? А с другой стороны...
– Слабо штудировал. Поднялись над классом...
– Вот именно. Они – поднялись, а другие – нет. Почему же? Условия жизни у них особые? Или, может, наоборот – головы у них такие? Сознание выше развито? Способности особые? Или потребности? Может, "классовая слепота" – это только для самых средних, самых серых? Может, все разделение не по "классовому сознанию", а по тому, сколько человеку ума от Бога отпущено?
– Жаль, время теоретических конференций прошло... Да, наверное, и не было никогда времени...
– Что жили впопыхах, это правда. Такая печальная правда – никак не могу примириться. Куда вы так торопились?
– Шанс появился.
– И вы-то уж не упустили, – сказал Приват с сарказмом, впрочем, не оцененным Беловым.
– Не для нас шанс, – сказал он, – для всех людей вообще. Мог бы догадаться, ученая голова...
Приват действительно задумался, даже покивал головою, а потом заявил решительно:
– Слишком широко берете, товарищ Белов.
– А уже брать, – Василий Андреевич опять похлопал по карманам и поморщился, – неправильно будет. Именно в таком масштабе только и нужно подходить. Ошибались... Да, что и говорить; но цель, цель! И стремление самое искреннее!
– Ну что же,– согласился и даже вроде как чуть-чуть повеселел Приват,будем "балласту" ставить бо-ольшие памятники. Жаль, поздно, а то бы и я в скульпторы пошел. В монументалисты.
Нужно было знать Привата, чтобы почувствовать: он начал развивать длинную логическую цепочку, как шахматист заготовленную комбинацию. Василий Андреевич это знал, не раз уже схлестывались, когда плотность внешних событий давала силы.
– Пойми ты, без полувека профессор, – перебил его Василий, – что вокруг самых правильных идей, как только они становятся идеями правящими, неизбежно зашевелятся "повторялы", чуждые по сути, но действующие вроде как в рамках...
– И давно вы это поняли, Василий Андреевич?
– Какая разница? Факт есть факт.
Приват с сожалением покачал головой:
– Если бы... И не "факт". Не хотите додумывать до конца. Страшно.
– Мне-то чего бояться?– засмеялся бесплотный комиссар.
– А это привычка. Инерция, если хотите. Поработаешь десяток лет в условиях жесткого централизма – и вырабатывается особое мышление. Во всем разумный, да не во всем, не до конца. Как только ключевые слова названы, ключевые понятия определены – начинается не мышление, а повторение догм.
– Теоретик,– хмуро констатировал Белов, и в самом деле не желая, чтобы мысли скатывались... или, точнее, поднимались на тот уровень, за которым многое становилось не бесспорным, и прежде всего – их собственные, сегодняшние, вроде бы уже решенные, вроде бы уже необратимо катящиеся дела.
– Доведем до ясности вашу мысль,– предложил Приват и, не дожидаясь согласия, продолжил: – Представим, что во всех звеньях, на всех ступенях соберутся такие "повторялы". А что соберутся рано или поздно – это неизбежно, по расчету двигаться наверх легче, чем по велению сердца. И тогда начнется. Правь бал!
– Разогнались.– Предчувствие того, что Приват обязательно скажет нечто такое, что придется принять, подстегивало Василия Андреевича, заставляло сказать то, что было его правдой: – У нас не по словам честь. И в креслах во всех сидят лишь до той поры, пока слова с делом не слишком расходятся.
– Я вашему оптимизму иногда завидую,– сообщил Приват и вдруг без перехода спросил: – А если те, кто может снять, уже сами точно такие же? Если давно выработался целый, как у вас принято говорить, класс, кровно заинтересованный, чтобы ничего не менялось? Готовый держаться до последнего, все распродавать: и прошлое, и настоящее, и будущее – лишь бы на них самих, на их положение ничто не надвинулось?
– Хватит об этом. Дело давай. Лаптев чего приезжал?
– Лаптев? – переспросил Приват. – Лаптев суетится. С нами, сами понимаете, для него все ясно, но вот тут еще выплыло с церковью... Деликатная проблема. В свете ситуации... Официально не поощряется кресты сшибать, как во времена оны...
Василий, в восемнадцатом самолично своротивший крест с большой Покровской церкви, погладил усы. И сказал:
– Не та церковь пошла.
Глава 4
На исполкомовскую площадь Виктор заезжал редко: какие дела в исполкоме? Сейчас, объехав лишний круг, он пристроил " Москвич" на тесную служебную стоянку и отправился разыскивать отдел коммунального хозяйства.
В старом, не раз перестроенном и бесконечно ремонтируемом исполкомовском здании ориентироваться было трудно: какие-то переходы вдруг оказывались запертыми, а лестницы не вели никуда. Виктор потыкался в стороны, а потом наткнулся на схему пожарной эвакуации. По ней можно было разобраться, и через пять минут он вышел к приемной горкоммунхоза.
Моложавый плотный дядька с тугими щеками сидел за очень массивным старым столом, украшенным двумя телефонными аппаратами. Все в кабинете казалось излишне крупным: и мебель, и мраморная настольная лампа, и холодильник, и двойная обитая дверь с тяжелыми замками. Только оба окна, забранные изнутри крепкими решетками, казались маленькими и подслеповатыми, наверное, из-за толщины стен...
– Как хорошо, что вы пришли,– обрадовался Лаптев, – а то я как раз голову ломал, где бы еще немного техники раздобыть. Столько мусору будет а у нас в РСУ одна бортовая и самосвал.
– Вы о старом кладбище?– осторожно спросил Виктор. – Туда технику?
– Ну, в общем, да, – подтвердил Валентин Семенович,– на мне же подготовка территории, а там одной ограды три километра, да вот еще часовню эту повесили...
– А на внутренней территории – там уже все? Можно приступать?
– Не совсем, – замялся Лаптев, – часть там уже действительно закончена, в основном боковые старые сектора: дорожники просили начать именно оттуда, чтобы фронт работ им открыть, по профилю магистрали. Сейчас уже спецкоманда перебазировалась на верхние сектора, но у меня данных на сегодня еще не ...
Виктор достал свежую синьку, развернул и отчеркнул карандашом:
– Меня интересуют вот эти участки. Здесь уже можно работать?
– Сейчас посмотрим,– сказал Лаптев. Он достал амбарную книгу, перевернул несколько страниц и, поминутно поглядывая на синьки, сказал:
– Почти все готово. Почти, но не все.
– А нельзя попросить, чтобы мои площадки расчистить в первую очередь? Вот самый минимум...– И он еще раз обвел на синьке.
– Минимум, минимум,– покивал головою Валентин Семенович, еще раз просматривая записи.
– Здесь же совсем немного по площади,– у Виктора неожиданно и неприятно прорезалась просительная интонация, и он тут же себя мысленно одернул.
– Да-да, – согласился Лаптев,– немного; но есть одна формальность боюсь, командир спецкоманды на это не пойдет...
– А что такое?
– Видите ли, в этих секторах, где ваши площадки, срок перезахоронения истекает только через два месяца. Через полтора, извините. Это так называемая вторая очередь. Мы указали в объявлении – до первого июля...
– И много перезахоранивают? – спросил Виктор, хотя, признаться, сейчас это его не волновало Срок! Полтора месяца! Да с первого июля, даже если у него будет вдвое больше людей, техники и денег, все равно не успеть...
– Нет, не очень, – охотно пояснил Валентин Семенович, – кладбище старое, с середины пятидесятых никого уже не хоронили. А сектора эти – еще довоенные, в основном... Родственники разъехались, кто забыл, кто не хочет заводиться...
– Ну что же, давайте прощаться, – медленно поднялся Виктор. – Через полтора месяца, если эта работа не отпадет вообще, ее получит кто-то другой...
– Подождите, – вскинулся Лаптев, – как это? Нет, давайте выясним. Я так понял – вы хотите начинать работы немедленно?
– Хочу? – Виктор забарабанил пальцами по столешнице, сдерживаясь, чтобы не сказать, что вообще не хочет заводиться с этой территорией и просто так получилось, что нет выбора. – Это необходимо. Вы, видимо, не строитель. За четыре месяца, отпущенные нам, освоить такой объект очень трудно. Почти невозможно – по крайней мере, в нашей практике не случалось. Норматив – полгода; и у нас всего лишь стройуправление, а не трест, и возможностей для организации круглосуточной работы нет. Людей не хватает. А еще учтите: возможны и ливни, и град, и всякие эксцессы с госэнерго или еще с кем – а это все простои! Вот так. Ничего не попишешь.
– Нет, я не понял,– начал Валентин Семенович, и Виктор задержался еще на минуту.
– Я же объяснил: если в полный срок, за четыре с лишком месяца, еще можно постараться, то за три – ничего сделать нельзя. Безнадежно.
– И что же дальше?
– Да ничего. Доложу управляющему, что работы начинать нельзя, и получу другой объект.
– Вы полагаете, – спросил Лаптев и потер влажный лоб.
– Полагаю, – подтвердил Виктор, – выше головы не прыгнешь. Жаль. Я-то думал, что, по крайней мере, здесь проблем не будет...
– Это не выход. – Лаптев опять крепко потер ладонью лоб,– мы не имеем права срывать такое мероприятие. Нас не поймут. Там это не понравится...
Теперь Виктор ясно понял, что мучает Лаптева: ему очень-очень не хочется оказаться той самой "объективной причиной", из-за которой придется там изменять планы – хотя в сущности от самого Лаптева ровно ничего не зависело, и любой непредвзятый человек "наверху" это поймет. Чиновничий страх... Это было смешно и мелко, и в другое время Виктор не стал бы дальше разговаривать с таким типом. Но сейчас... Сейчас все не уходил, будто цеплялся за какой-то шанс...
– Так что будем делать?– негромко и серьезно спросил он у Лаптева.
– Начинайте работать, – так же негромко и серьезно сказал Валентин Семенович, – с понедельника. Я сейчас отмечу... – И он принялся переносить кочергинские заметки в свой журнал.
– Уже легче,– констатировал Виктор, рассматривая физиономию Лаптева. А как вы собираетесь за оставшиеся дни очистить такую территорию?
– Ну, не всю, – повел пухлыми плечами Лаптев, – пока только под ваши площадки. Вы же сначала будете завозить материалы, а потом только копать и прочее?
– В общем, так; но надо протягивать коммуникации – а это траншеи, и нужны еще проезды и накопительные площадки...
– Как, еще? – только простонал Валентин Семенович.
– Да ничего особенного, – утешил его Виктор, -я вам укажу самый-самый минимум...
Пока он чертил, Валентин Семенович успокоился и, усевшись верхом на стул, говорил, разглядывая синьку:
– С водным стадионом проблем вообще нет, он почти весь на участках первой очереди. Если что там и осталось, то не сегодня-завтра все закончится. Особенно если им с карбидом помочь: жаловались...
– Поможем, – кивнул Виктор,
– А по нижним участкам, где у вас этот дом...
– Игротека, – подсказал Виктор.
– Вот-вот и на самом верху, где эта круглая штука...
– Танцплощадка,– все так же не поднимая головы, подсказал Кочергин.
– Вот-вот, по ним мы так поступим: я велю списки составить, кто где лежит, и если объявятся в срок родственники, поможем честь по чести. Да только не особо объявятся, знаю я, по каким секторам хлопочут, а по каким столько лет и памяти нет...
То, что Лаптев сказал, было только частью правды, но чутье подсказало Валентину Семеновичу, что но обо всем следует распространяться...
Лаптев действительно знал, в каких секторах индивидуальных перезахоронений практически не будет; но решил, что гам, где на этих забытых секторах строителям нужно расположить площадки, проведет просто расчистку грунта. В конце концов, кто там узнает, что под площадками не просто земля, а могилы?
Там же, где пройдут траншеи,– Лаптев посмотрел внимательно на синьку, – уже почти ничего не осталось, к понедельнику действительно можно закончить.
Оставались, таким образом, только участки, отведенные под игротеку и танцплощадку. Это было в самой гуще второй очереди, но Лаптев твердо решил не ожидать полтора месяца.
Валентин Семенович придумал простой ход: ничего не делать. Списки по координатному принципу в основном составлены, а что не сделано, так и Бог с ним. Если объявятся родственники, то, – Лаптев представил, как импозантно он все это обставит, – укажет место, и останки будут извлечены. Люди будут уверены, что перезахоранивают именно "своих"; и кто там сможет что разобрать, если прошло полвека и такой грунт?
Оставалось аккуратно обмозговать только одно: как поступать с костями, которые будут оставлены под технологическими площадками. Договариваться со спецкомандой, чтобы потом, в последнюю очередь, когда площадки освободятся, или же просто забыть?
– Ну вот, – поднял голову Кочергин, – в основном все. И вы просили карбид?
– Да, и еще сварщиков, два экскаватора и четыре бульдозера... – быстро выпалил Валентин Семенович.
Виктор поднял руку с загнутым пальцем и выразительно посмотрел на Лаптева.
– Нет, но действительно нужны газосварщики, экскаватор, бульдозер... О машинах я уже не говорю... – просительно сказал Валентин Семенович.
– Завтра с обеда могу выделить бульдозеры. И сварщиков с карбидом. Экскаватор – только с понедельника, и то... Ясно?
– Хорошо. Я постараюсь...
– И учтите, – предупредил Кочергин, – у меня сдельщики, чтобы они без зарплаты не оставались.
Лаптев прижал руку к сердцу и покивал – не подведу, мол; а потом спросил:
– Пьют – сильно?
– Не очень, – в первый раз улыбнулся Виктор,– а ваши?
Имелись в виду кладбищенские рабочие. Лаптев так и понял:
– Слов человеческих нет! Их же разбаловали – ну знаете, родственники покойных; так теперь вообще не работники, а вымогатели какие-то стали, только тем и спасаюсь, что за место свое они держатся...
– Сварщики – это понятно,– сказал Виктор, уже окончательно поднимаясь и выбирая способ вежливо прервать беседу, – а бульдозеры вам зачем понадобились?
– Как зачем?– искренне удивился Лаптев.– Не вручную же грунт планировать! И, кстати, хорошо, что вспомнил: не подскажете, где взять эту штуку, ну такая болванка, чтобы старые стены рушить?
– Обратитесь в наш трест, – бросил Виктор, направляясь к дверям.
Но вдруг замедлил шаг и, чтобы как-то оправдать внезапную остановку, спросил:
– А это-то вам зачем?
Лаптев, недоуменно глядя Виктору в спину, принялся объяснять, что на территории кладбища есть еще старая часовня и ее тоже почему-то поручили сносить коммунхозу...
Кочергин его не слышал.
Загораживая проход, у самой двери стояли и угрюмо смотрели на него три прозрачных, подобных какому-то завихрению воздуха, человека.
Один был в буденовке и неловко пригнанной длинной шинели, второй, тощий, с непокрытой головой – в темном костюме с манишкой и длинным кашне вокруг тонкой шеи, а третий – в расстегнутой кожанке, сапогах и галифе; за широкий ремень, стягивающий гимнастерку, засунута кожаная фуражка с порванным козырьком.
Сердце екнуло.
Спустя мгновение Кочергин опустил глаза, сцепил зубы и медленно, как сквозь глубокую стылую воду, прошел к выходу.
И на самом пороге обернулся.
Лаптев, не поднимая глаз, быстро черкал что-то в еженедельнике. Прозрачные фигуры стояли неподвижно, и только старший, в кожанке, молча погрозил Кочергину кулаком.
Это продолжалось какое-то мгновение, а затем синяя наколка на кулаке перекрещенные якоря – растворилась в пространстве.
Фигуры исчезли.
Прикрыв дверь, Кочергин пошел, все убыстряя шаг, по исполкомовским коридорам и лестницам вниз, на стоянку...
Глава 5
"Однако редеет моя команда,– подумал "Белов, оглядывая выборных, хорошо вояки работают. Опять же техника..."
В ровном лунном свете жирно блестели зубья ковшей экскаваторов. За ними, приткнувшись друг к другу, стояли все шесть самосвалов, целый день курсировавших на Солонцы и обратно.
Выборный комитет редел, почти каждый день кто-то отправлялся на новое место. Оставалось совсем немного тех, кому Василий полностью доверял. Вот и сегодня как раз пришла очередь добросовестного старичка-юрисконсульта...
И сегодня же Василий окончательно понял, что в течении дела, процесса переселения – процесса, на принятии которого настояло в свое время большинство кладбищенского общества и Василий взялся исполнять решение, назрело нечто.
Впрочем, заметил это не только он.
Еще не понимая ни размера, ни источника, ни самой сущности новой опасности, особым своим чутьем души ощутили, что произошло нечто, затрагивающее их последние интересы.
Не все удалось уловить из исполкомовского разговора самому Василию и его спутникам: не оформилась еще лаптевская мысль в слова, в решимость к действию, в готовность к поступку, которая и есть – с некоторой точки зрения – сам поступок. Не все удалось, но предчувствие породило тревогу и вызвало небывалую настойчивость:
– Я уверен, я требую даже, Василий Андреевич,– говорил Приват, хватая его за пуговицы кожанки,– чтобы немедленно посоветоваться с графом Владиславом Феликсовичем.
Василий пожал плечами и насупился.
В тридцать втором, когда граф-епископ прибыл в их город и принял епархию, у Белова, тогда предисполкома, с ним произошла острая стычка.
В тот год Василий еще был на слово и на действие скор, старался сомневаться пореже, "думал горлом" и в выражениях, при случае, не стеснялся. Но граф ни спора, ни конфликта со светской властью в самом начале своего поприща не побоялся. По молодости, по искренней вере в дело, которому служат, и по личному бесстрашию сцепились они тогда отчаянно.
Странно, сейчас Василий не мог вспомнить ни аргументов, ни самой первопричины конфликта: скорее всего повод они могли дать друг другу уже самими приветствиями и обращениями. Действительною же причиной было то, что оба они, стужа разным идеям, но работая с одними и теми же людьми, просто не могли хоть однажды не столкнуться...
Десятилетия пребывания на одном кладбище, в полусотне шагов друг от друга, кое-что в них самих и в их отношении друг к другу изменили. Не встречались, не разговаривали, однако... Во всяком случае, Василий многое понял, со многим примирился, но вот сделать первый шаг все не собрался. А впрочем...
– Внимание! – поднял руку Белов.– Я с Приватом и Седым сейчас пойду совещаться с графом Осинецким. Остальные на сегодня свободны.
Он повернулся и, не вынимая рук из карманов кожанки, пошел к церквушке.
На самом верху кладбища, в нескольких метрах от мощенного рыжим местным гранитом полукруга – площадки перед папертью – во втором ряду сектора горела бронзовая лампа.
Выборные подошли поближе.
Граф читал, присев на узкую каменную скамейку так, чтобы свет лампы, навечно вмурованной в диоритовое надгробие, падал слева. Читал, близко поднося тяжелую книгу к подслеповатым глазам. Василий машинально заглянул на обложку: это было Коптское Евангелие, римское издание с факсимильными репродукциями и комментариями.
Шагнув вперед, Приват хотел поздороваться, но раскашлялся так, что Седому пришлось его поддержать.
Граф, медленно закрыв книгу, повернулся к ним. Несколько секунд смотрел молча, щуря серые глаза; стекла очков не скрывали настороженность взгляда, которым граф окинул разношерстную группу.
Затем Владислав Феликсович поздоровался и спросил Привата:
– Простите, голубчик, вы в каком секторе лежите?
– В пятнадцатом.
– Да, там сыро. Но скоро, видимо, на Солонцы – там посуше.
– Всех радостей, – буркнул Седой, усаживая товарища.
– Здравствуйте, Владислав Феликсович, – поздоровался Василий и подошел поближе.
– Мир вам, товарищ Белов, – ответил Граф. Руки он не подал, но сделал приглашающий жест – садитесь, мол.
– Благодарю,– сказал Василий, оставаясь неподвижным.
– Чему обязан?– спросил Осинецкий и отложил книгу.
– Это касается всех. Вы, конечно, можете отказаться... – но, едва начав говорить, Василий понял, что никакого отказа не будет. Тем более, если это сопряжено с собственными Осинецкого усилиями. Не позой, не расчетом, не разовым порывом было продиктовано то, что граф Владислав Феликсович, врач по мирской специальности, не оставил хирургию, приняв сан; а в сорок первом добровольно пошел на фронт военврачом и за годы подвижничества – так характеризовали его работу – лично спас не одну сотню солдатских жизней. Нет, не стоило произносить "отказаться"; и Василий, перестроив фразу на ходу, выдал нечто такое, в чем для архиепископа, генерала медицинской службы, профессора и лауреата, не содержалось ничего обидного:
– ...Поскольку дело, видимо, не столь значительно, чтобы вы тратили свои силы, но в то же время достаточно серьезное, чтобы побудить нас обратиться к вам за советом.
Владислав Феликсович молчал некоторое время, а затем сказал мягче:
– А вы действительно изменились, Василий Андреевич. У вас, как, впрочем, у многих старых большевиков, были... большие неприятности в последние годы там?
– Э-э...– махнул рукой Белов,– у меня еще...
– Рад за вас,– негромко обронил Граф.
– Еще бы не рад, – нутром чуя классового врага, заворчал Седой,– попу всегда так: чем хуже, тем лучше. Этот хоть честный, сам признается...
– Тихо,– попросил Василий,– а еще лучше: прогуляйтесь-ка вы, братцы, на колокольню, посмотрите, что вокруг делается.
Седой обиженно засопел, но встал и, кивком позвав Привата, отправился к церквушке.
– Что с вами произошло?– спросил Граф.
Василию Андреевичу вдруг захотелось выложить, выкричать все, что наболело тогда – и не перегорело за десятилетия на кладбище, рассказать о том, как раскалывалось сердце, как нарастала боль – и никакие лекарства не могли помочь. Рассказать о последних годах, когда знакомое, уже привычное, им самим и соратниками вызванное к жизни, вдруг стало оборачиваться совершенно противоположным, и вдруг исчезло ощущение, что делаешь нечто и сам причастен к большому и понятному, а стало казаться, что совершенно независимо стронулась некая большая машина, и обязательно и ты, и твое дело окажутся под колесами. Неожиданно и необъяснимо стали меняться люди, изменился, кажется, сам воздух вокруг, и добросовестное выполнение своего долга начало ощущаться недостаточным, а каждая попытка остановиться и осознать оборачивалась ужасом нежелания понимать...
Но только сказал:
– Всех нас изменило время. Вы тоже изменились.
– Ошибаетесь, – быстро бросил Граф и зашагал по узкой, в ладонь, дорожке между могилами, – я переменился внешне, у меня, как у всех стариков, испортился характер; но своим убеждениям я ни в чем не изменил.
– Я тоже, – отрезал Василий.
– Ну что же,– Осинецкий остановился и взглянул в глаза,– я рад за вас. И я не сомневался... Не собирался ставить под сомнение ни вашу убежденность, ни вашу порядочность.
Неожиданно даже для самого себя Василий Андреевич спросил:
– Наверное, вам трудно было на войне?
Осинецкий прикоснулся к наперсному кресту и ответил:
– Война есть самое страшное извращение христианства или, если хотите, сущности человека. Легко там быть не может.
– Я о другом, не о принципе,– досадуя на нечеткость фраз, поправился Белов.– Я знаю по Первой: война – это кровь, грязь, ожесточение душ, грубость. А вы – человек деликатной организации...
– На войне я был хирургом, а не пастырем. Главным образом. И не знакома ли вам притча о заблудшей овце?
– Знакома,– кивнул Василий.
Он читал Евангелие и не раз – в некоторых царских тюрьмах ничего больше не давали. Да и прежде, в реальном училище, довелось вытерпеть не один урок закона Божьего.
– А что касается ожесточения душ,– продолжил Граф,– полагаю, бывали худшие времена, чем эта война.
Оба замолчали, думая каждый о своем.
Василий Андреевич вспоминал гражданскую, безумных от ненависти офицеров, вспоминал синежупанников, плясавших на растерзанных трупах, вспоминал банды, свирепствовавшие по селам и хуторам – и как они отстреливались до последнего, а отряд чоновцев под его, беловской, командой гонял и давил их по лесам...
Владислав Феликсович тоже вспоминал – толпы изможденных, высосанных голодом людей, людоедство от голодного безумия, волны казней, прокатывающихся после каждой очередной смены власти, пока всякая власть не начинала казаться ненадежной и страшной; вспоминал крики заложников, обреченных на смерть, арестантские баржи и эшелоны...
– Вам, конечно, известно, Владислав Феликсович, что в скором времени предстоит переселение.
– Ничто не вечно под луной,– с легкой усмешкой сказал Граф.
– И на этом месте разворачивают строительство зоны отдыха.
– Ну и что?– уже с отчетливой насмешкой спросил Осинецкий. – Вы призываете разделить вашу позицию непринятия такого деяния? Меня еще при обсуждении, признаюсь, заинтересовало, как совмещаются ваша категоричность с позицией предгорисполкема, по долгу службы заинтересованного в том, чтобы юношество отдыхало и укрепляло свои тела? Неужели интересы слетели вместе с должностью?
Василий Андреевич и при жизни, и сейчас не любил насмешек. Несмотря на свои несомненные заслуги, отмеченные правительственными, в основном военными, наградами, несмотря на невольное уважение, которое внушал каждому жизненный путь Осинецкого, Граф оставался для него если не классовым – с этим сейчас очень сложно, – то во всяком случае идеологическим противником... И все же Белов сдержался. Сообразил, что Граф намеренно вызывает его на резкость – а значит, помня прошлое, на откровенность. Сдержался комиссар и только заявил:
– Разговор не о спортивной закалке детей. Да, я против переезда. Уж если так невмоготу с магистралью, то ладно, в виде исключения протянули бы ее, а остальное – отгородить забором, да и в порядок привести никак бы не помешало. Для спорткомплекса и пустырь найти можно было бы, есть еще в городе пустыри. Нельзя так ставить: или мы, или спорткомплекс. Надо не "вместо", надо "вместе". И если что непонятно, так ваша позиция.
Василий, недовольный собою, недовольный тем, как складывается разговор, присел на расколотую плиту какой-то дворянской могилы и охлопал карманы в поисках трубки. Но трубку не положили в гроб в суматохе официальных похорон, и много раз с тех пор Василий Андреевич нервничал, искал и, увы, не находил...
Граф тоже присел на свою скамеечку, подержал, как бы взвешивая на ладони, Коптское Евангелие и, не раскрыв книги, заговорил:
– Живым нужно место. Спорткомплекс – живое. И хватать нам живых – не по-христиански.
– Да все тут не по-христиански!– бросил Белов.
– Неортодоксально,– чуть наклонил голову Граф,– но, согласитесь, наша страна так далека от Царства Божия, что стоит ли удивляться делам сим скорбным?
На колокольне завыло и заохало, а потом раздались смех и кашель. Сова, перепуганная Седым, ловким имитатором, очертила два бесшумных круга в ночном небе и скрылась.
Осинецкий, чуть помолчав, продолжил:
– Но мне кажется, Василий Андреевич, что сейчас вас беспокоит не факт переселения, а нечто, быть может, связанное с процедурой? Я не ошибся?
– Нет, не ошиблись. Решение большинства мне не нравится, слишком уж... не знаю, как сказать – отстраненное, а может, рабское решение...
– Их всю жизнь приучали, – коротко сказал Граф.
– Но тем не менее решение большинства надо исполнять.
– Даже если большинство не право? – вежливо поинтересовался Осинецкий.
"Большинство всегда право!" – хотел привычно отрезать Белов, но чуть-чуть помедлил и сказал:
– Не будем сейчас об этом. Назревает нарушение процедуры. Я еще не все знаю четко, но полагаю, в ближайшие часы прояснится... И, как по-вашему: надо ли вмешаться? Или опять отойти в сторонку?
– Вы ставите меня в трудное положение. Не все должно решаться в принципе – иногда намерение важнее, чем поступок...
– Я так не считаю... Но сейчас это не важно.
– Нет, я не могу ничего сказать заранее. Введите меня в курс дела.
– Хорошо, – сказал Белов и вдруг лихо, по-разбойничьи, свистнул: – Эй, братва, хватит там, слезайте!
Постоял, сжимая увесистый кулак с татуировкой в виде перекрещенных якорей, и начал:
– Сегодня в исполкоме был разговор...
Глава 6
Иван Карпович Воднюк, заместитель начальника СУ-5 треста "Перевальскпромстрой", совершал третий круг по отмостке вокруг здания конторы. Незажженная папироса, обсосанная и обгрызенная до самого табачного цилиндрика, мерно покачивалась в такт каждому шагу.
Виктор знал, что когда Воднюк вот так ходит кругами, то обдумывает самые гнусные свои затеи. Но знать-то знал, а поделать ничего не мог. Только и оставалось пока, что отбиваться от очередной "телеги", да работать, да ждать, пока Хорьков уйдет на пенсию и как-то решится вопрос о новом назначении.
Отношения с Воднюком определились не сразу и не вдруг. Три года назад, когда молодого исполняющего обязанности начальника участка Кочергина Хорьков, вот так просто, безо всякого, назначил главным инженером, а трест, выждав два месяца, со скрипом и нытьем, но все же утвердил в этой должности, Воднюк был душа-человек.
Особенно поразило Виктора тогда (поражало и сейчас, но уже по другому поводу) отношение к Воднюку немалой части рабочих стройуправления. Все они, при случае заслуженно посмеиваясь над вздорным и нетерпеливым Хорьковым посмеиваясь, впрочем, беззлобно, поскольку старик справедливый, – называли "Карпыча" деловым мужиком и хозяином, что в их устах означало наивысшую похвалу.
Поскольку все дела управления оказались чрезвычайно запущенными, а к Хорькову лишний раз обращаться не стоило, – у того, надо понимать, и своей работы хватало,– Виктор поначалу чуть ли не ежедневно советовался с Воднюком.
Но вскоре такая потребность отпала: Виктор потянул сам. Потянул и то, что полагалось как главному инженеру, и то, что в основном полагалось начальнику, а со временем и то, что полагалось заместителю.
Воднюк же, хотя старался всегда быть в курсе всех дел стройуправления, работой себя отнюдь не загружал. Даже наоборот. И через год Виктор, номинально оставаясь главным инженером, занимался едва ли не всеми проблемами СУ и руководил основными работами. Валентина ехидничала: "Есть ли у вас что-то, за что бы ты не отвечал?"