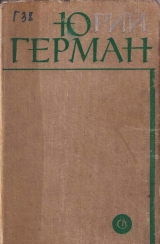
Текст книги "Жмакин"
Автор книги: Юрий Герман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Лапшин спокойно вынул бумажник, достал из бумажника новенькую трешку и положил ее на тумбочку. Потом наклонился к Жмакину и спросил:
– Ты Наума Яковлевича Вейцмана знаешь?
– Какого Вейцмана?
– Такого Вейцмана.
– Вейцмана я знаю, – страшно бледнея, сказал Жмакин, – я, товарищ начальник, его очень сильно знаю…
– Ну? Что за человек? Хорош? Плох?
– Гад, – сипло сказал Жмакин.
– Почему гад?
– Говорю, гад, – крикнул Жмакин, – и точка! Чего вы меня пытаете? Раз говорю, значит знаю.
– Что ты знаешь?
– Все знаю.
– Ты его видел?
– Видел.
– Он у меня сидит.
– За что?
– За хорошие дела.
– Бросьте шутить, начальничек, – сказал Жмакин, – странные шутки ваши.
– Я не шучу, – спокойно сказал Лапшин.
– Добили меня, – сказал Жмакин, – не знаю теперь, что делать.
– Поправляйся, – сказал Лапшин, вставая, – там поглядим. Поправишься, приходи ко мне.
– В тюрьму?
– И в тюрьме люди живут.
– А Клавку мою вы вызывали?
– Зачем мне твоя Клавка, – сказал Лапшин, – и без нее тебя нашли.
– Сам нашелся.
– Все едино, – сказал Лапшин, – сам нашелся, мы нашли, Ну, будь здоров.
– Доброго здоровья, – сказал Жмакин.
Проснулся Неверов. Жмакин, сидя в постели, пил чай т большой кружки.
– Здорово, Неверыч, – сказал он. – Как делишки?
– Ничего, – сказал Неверов.
– Неверыч, – сказал Жмакин, – слушай блатной стих. Хочешь?
– Валяй, – сказал Неверов.
– Ладно, не буду, – сказал Жмакин, – ты и так не жилец.
– Как раз жилец, – сказал Неверов.
– А по-моему, умрешь, – сказал Жмакин, – лично мне кажется, тебе никак не выжить.
– Иди ты, – сказал Неверов.
Попили чаю, покурили. Все тише и тише становилось в клинике, только в конце коридора иногда трещали электрические звонки.
– Так-то, Неверыч, – сказал Жмакин, – ты на меня ее обижайся. Ты псих, я псих, людям знаешь как живется? Лихо.
– Да?
– А чего, – сказал Жмакин, – дурак пляшет, дураку что… Но я лично не пляшу. Ты женатый, Неверыч?
– Нет, не женатый, – сказал Неверов.
– Балуешься?
Неверов промолчал. Ему странно было глядеть на Жмакина и слушать его.
– Я тоже не женатый, – сказал Жмакин, – но есть v меня одна девчонка… Клавочка…
Он покрутил головой и сел на край постели Неверова. Волосы его спутались, зеленые глаза блестели, как у пьяного, лицо было бледно.
– Я сам лично жулик, – сказал он, – но это ничего. Люди всякие бывают. Я именно и есть такой всякий человек. Понял? Так вот, Неверыч, Клавка. Что это я начал?
– Тебя как звать? – строго спросил Неверов.
– Жмакин моя фамилия.
– Иди, Жмакин, спать, – сказал Неверов, – не нравишься ты мне сегодня. Бешеный какой-то.
– Ну да!
– Иди, иди, – сказал Неверов, – я психопатов не люблю.
Но Жмакин не ушел. Поджимая под себя босые ноги и кутаясь в одеяло, он рассказывал про себя, про Клавдю, про Лапшина, про Хмелю и про многое другое. Речь его была почти бессвязна, движения резки и отрывисты, глаза блестели. Потом он стал заговариваться. Наконец заплакал. Неверов позвонил, прибежала сиделка, потом сестра. Жмакин, босой, с одеялом в руках, ходил по палате, плакал навзрыд и говорил такой вздор, что никто его не понимал. Позвали врача.
– Ах, я не сумасшедший, – внезапно о чем-то догадавшись, воскликнул Жмакин, – какой я сумасшедший. Я расстроился, мне больно, сердце у меня щемит.
И, встав в позу, жалкий, худой и желтый, он прочитал стих:
В саду расцветают черешки и вишни,
И ветер стучится в окно,
А я, никому здесь не нужный и лишний,
По шпалам шатаюсь давно.
– Вот каким путем, – сказал он, – вот таким именно путем.
Его начали уговаривать, он сжался, сел на свою постель и заплакал.
– Не в том дело, – говорил он, кося зелеными, запавшими, тоскующими глазами, – слышь, вы? Не в том же… Щемит сердце у меня…
Под утро два дюжих санитара положили Жмакина на носилки и понесли по коридорам клиники. Он лежал на спине, лицо у него было покорное, в глазах стояли слезы, всем встречным он виновато улыбался. Возле подъезда, под медленно падающими хлопьями снега, урчала коричневая машина санитарного транспорта. Носилки со Жмакиным вдвинули в машину, один санитар сел напротив и положил руку Жмакину на грудь. Жмакин вздрогнул и испуганно улыбнулся, машина двинулась по снежным ухабам. Жмакин сел, но санитар вновь его уложил.
– Хорошо, хорошо, – сказал Жмакин и закрыл глаза.
12
На третьей неделе жизни Жмакина в больнице для душевнобольных к нему приехал Лапшин.
Жмакин вышел к гостю в комнату дли свиданий. Лапшин сидел на стуле, широко расставив колени, в одной руке держал пакетик, в другой незакуренную папироску. Лицо его, сизое от мороза, выражало добродушное любопытство. В комнате было пусто и холодно, дежурный санитар со строгими глазами прогуливался возле стены.
– Да вот, запсиховал, – виновато и медленно сказал Жмакин, – получилась петрушка.
Он присел рядом с Лапшиным. За это время лицо его пожелтело и округлилось, выражение глаз стало туповатым, и от прежней резкости и порывистости не осталось и следа.
– Болеешь? – сказал Лапшин.
– Вроде того, – сказал Жмакин.
Ему, как во все эти дни, хотелось плакать, и тоска щемила душу; он отвернулся от Лапшина и глазами, полными слез, стал смотреть в окно. Лапшин напряженно посапывал за его спиной. Пока Жмакин плакал, пришел на свидание сумасшедший шахматист Крнстапсон, потом пришел жалкий человечек Ваня Некурихин, заболевший манией величия, потом пришел толстый и бурно веселый отец большого семейства Александр Григорьевич, коллекционер, очень надоедливый и шумный. Кристапсон, розовый, гибкий, с блестящими глазами, принялся что-то объяснять своей миловидной жене, Александр Григорьевич бурно здоровался с семьей, Ваня Некурихин скомандовал: «Смирно!» – и тотчас же так разбушевался, что его увели. Народу было все больше и больше, комната свиданий гудела ульем.
– Ну ладно, – сказал Лапшин, – возьми гостинцев. Мне ехать пора. Тут сотня папирос, лимон, чай да леденцы.
Он подал Жмакину горячую сильную руку, поднялся и обдернул гимнастерку.
– Клавдю к тебе прислать? – спросил он. – Была она у меня. Ничего.
– Не надо, – с трудом сказал Жмакин.
– А может, прислать?
– Не надо, – вздрагивая подбородком, повторил Жмакин.
– Не надо, так не надо, – сказал Лапшин.
К весне безразличие и тупость стали покидать Жмакина. Он вдруг заметил погоду, заметил соседа по койке, заметил врача, который его лечил, походил по коридору, поглядел на Кристапсона, поспорил с санитаром. На прогулке он больше не сидел в шезлонге и не плакал, а ходил вместе со всеми валким, не совсем твердым шагом, вдыхал холодный воздух, прислушивался к дальним гудкам автомобилей, к скрежету трамваев за высокой кирпичной стеной…
Морозило, суетливо кричали галки. Жмакин ходил по парку, задирал голову, глядел вверх. С высоких сосен мягко облетал пушистый снег. Похожий на шимпанзе кривоногий психиатр, стоя с ним рядом, негромко говорил ему:
– Все пройдет, все образуется. Когда вас выпишут отсюда, позвоните мне по телефону. Я очень люблю разговаривать со своими бывшими больными. Не пейте водки. Если вы забежите ко мне, мы поболтаем. Курить надо немного, чуть-чуть. А лучше и совсем не курить. Вы кто по специальности? Вор?
– Так точно, – сказал Жмакин.
– Хорошо бы бросить, – сказал психиатр, – вы нервный субъект, надо бросить. Перенапрягаетесь.
– Мы в тюрьме отдыхаем, – сказал Жмакин, – наше дело имеет отпуск.
– Это верно, – сказал психиатр.
Они еще походили, потом посидели на скамейке. К ним подсел Подсоскин, седенький музыкант, автор всего написанного композитором Чайковским.
– Ну что, молодые люди, – сказал Подсоскин, – дышим?
– Дышим, – ответил Жмакин.
– Дышите, дышите, – сказал Подсоскин, – вода и камень точит. Я вам всем горлышки перегрызу, в могиле не подышите.
Врач сидел нахохлившись в своей меховой круглой шапке. Коричневые его глаза поблескивали как у зверя.
– Подсоскин сутяга, Подсоскин жулик, – скрипучим голосом опять заговорил музыкант, – но у Подсоскина выдержка, терпенье и бешеный темперамент. Для Подсоскнна нет невозможного. Так-то вот!
Он со значительным видом выставил вперед челюсть и ушел. Жмакин уныло смотрел ему вслед. А вечером он вновь лег в постель, подложил руки под голову и задумался. И ночью опять плакал.
Наступила весна.
Как-то ранним апрельским утром Жмакин, гуляя по больничному парку, забрел в мастерские, в которых работали некоторые больные.
Слесарная, в которую он вошел, была длинным светлым и узким сараем. Здесь работало всего двое: высокий, бледный старик в спецовке и юноша с выпуклым лбом, синеглазый, в толстовке и в сапогах.
– Милости прошу к нашему шалашу, – сказал юноша в толстовке.
– А чего у вас в шалаше? – спросил Жмакин улыбаясь. – Какой ремонт делаете?
– По хозяйству, – сказал бледный старик, – хурду-мурду починиваем. Паять-лудить…
Жмакин, по-прежнему улыбаясь и вспоминая детство, взял с верстака кровельные ножницы, щелкнул ими и швырнул на кучу обрезков жести. Старик заспрашивал, где он работал, какого разряда, давно ли психует. Жмакин аккуратно на все ответил и все наврал.
– Давай у нас пока что работай, – сказал старик, – копейку зашибешь. Слесаря чего-то никак не психуют, некому работать. Агенты по снабжению – те сильно психуют, как я заметил. Счетоводы психуют. А наш брат редко. Был один хороший слесарь – поправился. Теперь вот я остался да Андрейка. А меня Пал Петрович звать.
Старик говорил круглым говорком, а Жмакин, слушая его, развернул тисочки, зажал в них железинку и от нечего делать стал ее обтачивать напильником. Руки у него были слабые и неловкие, но ему казалось, что работает он отлично и что старик с Андрейкой должны на него любоваться. Напильник поскрипывал, Жмакин посвистывал. Посредине сарая догорала чугунная буржуйка, дышала жаром, а из раскрытой настежь двери несло острым апрельским воздухом, запахом тающего серого снега, сосен, хвои.
– Чего свистишь? – сказал старик. – Нечего тут высвистывать. Петь пой, а свистеть нечего.
– Ладно, – сказал Жмакин, – петь я тоже могу. И, прищурившись на тисочки, на напильник, он запел, и пел долго, думая о себе, о своем детстве и испытывая чувство торжественного покоя.
Каждый день он стал бывать в слесарной. Работал он мало, только для удовольствия и еще для того, чтобы не чувствовать себя больным. Былое ремесло возвращалось к нему. Пальцы стали гибче, сильнее, металл делался послушнее, инструмент покорнее. И со стариком Пал Петровичем наладились отношения. И с Андреем тоже.
В первую получку Жмакину дали четырнадцать рублей с копейками. Он улыбнулся, с интересом разглядывая червонец и рубли. На эти деньги можно было купить порядочно дешевых папирос, но он купил три коробки дорогих, купил конвертов, марок и бумаги и написал два письма. Одно Клавде, другое Лапшину. Клавде он написал, что жив и поправляется, чтоб она его забыла и что вот какая на эту тему есть песня, стишок.
Стишок был такой:
В больнице у Гааза на койке больничной
Я буду один умирать,
И ты не придешь с своей лаской обычной,
Не будешь меня целовать.
Я вор, я злодей, сын преступного мира,
Я вор, меня трудно любить,
Не лучше ли, детка, с тобой нам расстаться,
Не лучше ль друг друга забыть?
Лапшину он написал, что его пока что не выпускают из больницы, но что на днях он выйдет и заявится в управление. Но Лапшин приехал сам, опять привез лимон, леденцов и папирос.
– Ну как? – спросил он, когда они сели на скамью в парке.
– Можно в тюрьму, – сказал Жмакин, косясь на Лапшина. – Был такой случай. Медвежатник, некто Зускин, из Одессы, шкаф вскрыл несгораемый. Не в цвет дело вышло. Подняли по нем ваши дружки стрельбу. Подранили. Он, конечно, свалился. Его в больницу. Лечили, говорят. Бульончик, сухари, киселек. Чуткость такая была, спасенья нет. Он даже стих написал, на память персоналу. Вылечили. А потом десять лег строгой изоляции.
– Бывает, – сказал Лапшин равнодушно.
– То-то что бывает, – подтвердил Жмакин.
Они поглядели друг на друга, покурили; Жмакин сплюнул, Лапшин зевнул. Яркое весеннее солнце пекло им лица, от воздуха клонило ко сну. Уже набухали почки, пахло мокрой землей, березой.
– Давай съездим, – сказал Лапшин, – тебе полезно по улицам проехаться.
– Ох, об моем здоровье у вас сердце болит, – сказал Жмакин.
Лапшин, усмехаясь, зашагал по аллее. Жмакин шел рядом с ним, неприязненно на него косясь. Жмакина отпустили на два часа. У ворот больницы стояла машина. Лапшин, крякнув, сел за руль, машина двинулась весело, разбрызгивая весенние сияющие лужи.
– Начальничек, – сказал Жмакин, – за каким чертом вы до меня ездиете?
– Поглядишь, – сказал Лапшин.
– Вейцмана погляжу? – спросил Жмакин.
– А хоть бы и Вейцмана.
– Подходики, – сказал Жмакин, – кабы вы молодой были, а то ведь слава богу.
Лапшин сильно вывернул руль, объезжая колдобину, и не ответил.
– Не надо ко мне подходить, – опять заговорил Жмакин, – я больной человек, чего вы меня тревожите? Папироски, лимончики, В тюрьму так в тюрьму. Воспитание ребенка. Я не ребенок, я жулик.
– Правильно, – сказал Лапшин.
В управлении он своим ключом отпер кабинет, аккуратно повесил плащ на распялочку, сдвинул кобуру назад и еще проделал целый ряд хозяйственных дел, Жмакин взглядом следил за ним, ожидая подвоха. Вдруг Лапшин подмигнул ему:
– Ладно, Жмакин, – сказал он, – не сердись, печенка лопнет…
Засмеялся и позвонил.
– Давайте его сюда, – сказал он секретарю, – а нам чаю давайте, мы со Жмакиным чай будем пить. Будешь, Жмакин, чай пить?
– Буду, – веселея, сказал Жмакин.
Секретарь вышел. Лапшин велел Жмакину сесть рядом с собой и молчать, Жмакин покорно сел. Лапшин задумался, потирая щеки ладонями, большое свежее лицо его сделалось грустным. Тикали часы в деревянной оправе. Под большим зеркальным стеклом на сукне стола были разложены фотографии – незнакомые, суровые военные лица.
– Это дружки мои, – сказал Лапшин, заметив взгляд Жмакина, – ни одного в живых не осталось. Боевые дружки, не штатские.
И он с серьезным вниманием, несколько даже по-детски, склонил свою голову к фотографиям. Жмакин тоже глядел, чувствуя неподалеку от себя широкое, жиреющее плечо Лапшина…
Привели Вейцмана.
– Садитесь, Вейцман, – сказал Лапшин. – Следствие закончено, я вызвал вас побеседовать.
– Слушаюсь, – сказал Вейцман и покашлял в серый кулак с отросшими, нечистыми ногтями.
13
– Поглядите на этого товарища, – сказал Лапшин и, скрипя стулом, повернулся к Жмакину, – не упомните?
Вейцман поднял желтое лицо и, как засыпающая птица, взглянул на Жмакина, Жмакин, бледнея, выдержал взгляд.
– Не припоминаю, – произнес Вейцман металлическим голосом, тем самым, которым он когда-то разговаривал на собраниях.
– Постарайтесь, – велел Лапшин.
– Я работал в разных местах, у меня было много рабочих и служащих, не припоминаю…
– Это был случай исключительный, – сказал Лапшин, – надо помнить…
Вейцман поморгал, покашлял опять в кулак. Он, видимо, действительно не помнил.
– Сейчас я вам поднапомню, – сказал Лапшин и, зазвенев связкой ключей, принялся рыться в левом ящике стола.
Пока он рылся, Жмакин поглядел на Вейцмана. Он отлично знал этот тип заключенных – не раз их видел.
Эти люди во всем сознались, и все им стало скучно и безразлично. Судьба их не принадлежала им самим. И камере такие, как Вейцман, помалкивали, на допросах были сонливы…
– Вот, – сказал Лапшин, – оно самое.
Он еще полистал вперед и назад и, назидательно подняв кверху палец, прочитал басом:
– «Я, Вейцман, показываю также, что, будучи завдывающим гаража № 16 Облрыбаксоюза начиная с июли месяца того же года, систематически травил работников гаража Алексеева, Спиркова и Жмакина, выступившихс самокритическими выступлениями…» Выступивших с выступлениями, – укоризненно произнес Лапшин, – а еще высшее образование… Так. «Монтер Жмакин был мною дисквалифицирован, и мною же были похищены аккумуляторы, находившиеся на заливке у Жмакина. Семь аккумуляторов я вывез из гаража на персональной моей машине, а два вынес в пакете. Через несколько дней, точно не помню когда, я вызвал упомянутого Жмакина к себе в кабинет и категорически предложил ему сдать аккумуляторы…»
– Четырнадцатого августа, – сказал Жмакин, с ненавистью и ужасом глядя на сонного Вейцмана, – после перерыва он меня вызвал…
– Ладно, – сказал Лапшин, – неважно! «Категорически предложил ему сдать аккумуляторы. Жмакин, волнуясь, сообщил, что сдаст в ближайшие дни. На следующее утро я передал дело в товарищеский суд, на председателя коего нажал. Во время заседания товарищеского суда я сообщил, что имею новые данные, и предъявил суду расписку, в которой было написано, что шофером поликлиники номер два приобретены девять аккумуляторов у Жмакина, с адресом последнего и с суммой – точно не помню, какой. Шофер этот за неделю до суда умер, и потому я находился в безопасности. По решению суда Жмакина сняли с работы, а комендант общежития предложил ему освободить койку, что Жмакин и выполнил. Таким путем я дискредитировал вожака лиц, выступавших против меня. Несколько раз меня вызывали органы следствия, но я имел неопровержимые данные, и кроме того осенью Жмакин бросился возле гаража на меня и стал меня душить, что еще подкрепило мой авторитет… На суде Жмакин был нетрезв и угрожал мне неоднократно, что произвело на судей неблагоприятное впечатление. Суд приговорил Жмакина к году принудительных работ. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Алексеев же и Спирков вскоре после суда явились ко мне и попросили у меня прощения за свои выпады, мы поцеловались и решили вместе бороться с неполадками в работе гаража…» Правильно?
– Правильно, – сказал Вейцман и как бы в задумчивости покачал головой.
Лапшин молча закрыл папку, сунул ее в ящик стола и щелкнул ключом. Лицо его выражало усталость, точно он читал эти показания не пять минут, а по крайней мере сутки. Жмакин осторожно поднялся, подошел к окну и, ничего не видя, стал глядеть на площадь Урицкого, на дворец, на трибуны и на кучи ноздреватого, еще не вывезенного талого снега.
– Ладно, – сказал Лапшин за спиною у Жмакина, – идите.
Жмакин обернулся и быстро оглядел длинную фигуру Вейцмана. Такая же гимнастерка из саржи, и галифе, и остроносые, фасонные сапоги с ремешком под коленями. Хлопнула дверь. Жмакин опять отвернулся к окну. Было слышно, как сзади ходит по кабинету Лапшин, как он ступает на пятки и отфыркивается по своей манере. Потом он подошел совсем близко к Жмакину и положил руку ему на плечо.
– Что ж теперь будет? – спросил он каким-то необыкновенным голосом.
– Ничего не будет, – сдерживаясь, сказал Жмакин, – Вейцман налево, а меня в тюрьму.
– Брось, Жмакин, – сказал Лапшин и надавил ладонью на плечо Жмакину.
– Чего бросать-то, – уныло отозвался Жмакин, – вы мои дела, начальничек, как следует знаете. Кражи были? – Были. Побеги были? – Были. Теперь сажайте, больше не побегу, был попрыгушка, да весь вышел. Можете получать Жмакина без риска для жизни…
Он усмехнулся, закрыл рот рукою и заплакал, а Лапшин стоял, не двигаясь, несколько позади и сосредоточенно морщился.
В шесть часов пополудни он вышел из здания управления, свернул под арку Главного штаба и тихим шагом свободного человека побрел по улице. Наступила весна, было еще совсем светло и, как всегда весною, особенно шумно, многолюдно, весело и просто. Жмакин купил подснежников, сунул букетик в петлицу и внезапно почувствовал беспокойство и вместе с тем радость, что вот он опять на улице, что его толкают, что пахнет весной и что ему, в общем, пока что никакие пути не заказаны.
Две девушки в белых беретиках о чем-то смеялись, он обогнал их и заглянул им в лица. Они опять засмеялись, уже ему; он приостановился, несколько шагов прошел рядом с ними и перекинулся парой слов – вольных, ни к чему не обязывающих, веселых.
Но тотчас же ему взгрустнулось, вспомнилась Клавдя, он зашагал быстрее, кося глазами на витрины, думая: «Выпью, закушу, завью горе веревочкой…»
Выпил в одном подвальчике, потом в другом. Добродушные пьяницы, пропившиеся до того, что стали уже тихими, пригласили его за свой столик. Жмакин со скуки сказал им, что работает воспитателем в детдоме.
– И тяпаешь?
– Тем не менее, – сказал Жмакин.
– А что, – подтвердил лысый пьяница, – правильно, я слыхал, французские дети все напропалую пьют. По-ихнему шнапс…
Опять Жмакин побрел по улицам. Вытерпел в кинематографе картину с такой пальбой, что сосед Жмакина, коренастый командир, два раза сказал:
– Ух ты!
После кино решил в свой сумасшедший дом не ходить, а прошататься по старой памяти до утра. Денег было совсем немного, он пересчитал их в подворотне, но на выпивку достаточно.
Расстегнул пальто и, курлыкая песенку, спустился вниз в подвальчик, давно и хорошо знакомый. Ливрейный швейцар отворил ему дверь и низко поклонился.
– А, Балага, – вяло сказал Жмакин, но подал руку и поглядел в набрякшее и нечистое лицо старика.
– Все ходите, – почему-то на «вы» сказал Балага.
– Хожу.
– А был слушок, что вас взяли.
– Возьмут – уверенно сказал Жмакин и не торопясь сел за столик под гудящим вентилятором.
Официанту он велел подать вина и фруктов. Тот принес стопку водки и огурцов. Жмакин потребовал еще пива.
– Верное дело, – сказал официант.
Охмелев, Жмакин послал официанта за Балагой. Тот подошел в своей ливрее, полы ее волочились по грязному, усыпанному опилками кафелю.
– Садись, – велел Жмакин.
– Нам нельзя, – сказал Балага, – мы теперь при дверях. А часиков, скажем, в двенадцать мы в туалет перейдем в мужской. А сюда один мужчина покрепче станет. На случай кровопролития.
– Так, – сказал Жмакин. – Выпей.
– Не пью, – смиренно сказал Балага.
– А какие новости на свете?
– Разные, – сказал Балага.
– Ну примерно?
Балага вытер слезящиеся глаза и попросил в долг пять рублей.
– Бог подаст, – сказал Жмакин, – говори новости.
Вентилятор назойливо гудел. Жмакин захлопнул дверцу вентилятора и сурово приказал:
– Садись и не размазывай.
– Корнюха сорвался, – не садясь, свистящим голосом сказал Балага, – большие дела делает.
Жмакин молча глядел на Балагу.
Балага тоже замолчал, к чему-то примериваясь.
– Ба-альшой человек, – сказал Балага.
– А где он?
– Прогуливается, – сказал Балага, – город велик.
– Ох, Балага, – негромко пригрозил Жмакин, – хитришь…
Балага подмигнул и ушел к своей двери. Жмакин сидел не двигаясь, пил пиво, поглядывал на Балагу. В двенадцатом часу ночи Балага подошел опять к нему и сказал:
– Иди до гостиницы бывшей «Гермес», – там он прогуливается. Какой мой процент будет с дела?
– Фигу с маслом, – сказал Жмакин, пошатываясь встал, расплатился и вышел.
Возле «Гермеса» действительно прогуливался Корнюха. Он был в хорошем макинтоше и в руке имел трость с набалдашником. Из кармана макинтоша торчали перчатки. Молча он подал руку Жмакину. Пошли рядом. Корнюха попросил Жмакина зайти в магазин купить водки, – сам он боялся. Жмакин вынес, Корнюха выпил в подворотне, сплюнул и помотал головой. У него было чистое румяное лицо и большие, навыкате, глаза, характерные тем, что не имели никакого выражения. Голос у Корнюхи был негромкий и тоже без выражения.
– Ну? – спросил Жмакин.
– Как видишь, – сказал Корнюха, – три вытерпел, на четвертый – драпанул, семь за мной осталось, плюс вышка.
– За что?
– Стрелка убил, – осторожно сказал Корнюха.
– Насмерть?
Корнюха промолчал.
– Батьку моего в Казахстане шлепнули, – без выражения сообщил Корнюха, – получил письмо. Завинчивают нашего брата на последнюю гайку. Ты, я слышал, вроде резался?
Не торопясь, Корнюха рассказал, за что расстреляли отца. Жмакин внимательно слушал, надвинув кепку пониже. Шли переулочками, не по тротуару, а по булыжной мостовой. Поддувал сырой, но не холодный весенний ветер. Из-за угла выпорхнула великолепная машина и, ослепительно сияя фарами, промчалась мимо. В машине сидел седой военный, дремал.
– Катаются, – сказал Корнюха.
– Мало ли что, – не сразу ответил Жмакин.
Они немного поговорили о том, как Корнюха бежал, потом вспомнили лагерь, в котором однажды вместе рыли котлован. Жмакин тогда филонил, а Корнюха вытягивал до восьмисот процентов нормы.
– Были и мы ударниками, – сказал Корнюха, – знаем, слышали, в другой раз не накроешь.
– А чего накрывать-то? – спросил Жмакин.
Корнюха опять промолчал, не в первый уже раз за этот вечер. Довольно долго шли молча, Жмакин от вдруг напавшей тоски стискивал зубы.
– Это все мелочь, – ленивым голосом сказал Корнюха, – теперь я буду кое-кого убивать. Сначала по миру пустили, потом батьку шлепнули. Померяемся.
Остановившись посредине мостовой, он слегка обнял Жмакина за плечи и сказал ему в самое лицо:
– Надо банду сделать, слышь, Жмакин.
– Какую такую банду?
– Обыкновенно. Настоящую банду. Дисциплинку заведем, люди знают, со мной шутки плохи. Уйдем в лес, подпалим кое-чего. У меня наколот один старичок из приграничных жителей. Ежели что – уйдем.
– Ну да, – сказал Жмакин.
– А чего ж не уйти? Уйти не хитрость… – Он замолчал на секунду, вглядываясь в Жмакина.
– Не узнал? – спросил Жмакин.
– Чего ты кислый какой-то, – сказал Корнюха, – может, ты покамест ссучился?
– Как раз нет, – сказал Жмакин и подумал, что Корнюхе решительно ничего не стоит убить его и сбросить вниз, в канал, – прохожих нет, вокруг тихо, убьет, пожалуй. – Беспокойный ты стал, – добавил Жмакин, – а, Корней?
И вновь они неторопливо зашагали над тихим каналом. Корнюха медленно говорил про оружие, про боеприпасы…
– Да я ведь не бандит, – сказал Жмакин, – я рецидивист хороший, а бандит из меня еще и не выйдет.
– Выйдет, – с вялой уверенностью произнес Корнюха, – невелика хитрость. Я стрелку как воткнул под дых, – он и не заметил, что на свете не живет. Тихонечко все произошло. И стрелочника одного на севере…
– Тоже? – спросил Жмакин.
– Что значит тоже? – вялым голосом произнес Корнюха. – Мне, дорогой, обратного хода нет. Так на так вышка, вершок больше, вершок меньше – все равно вышка. Теперь и посчитаюсь, хотя удовольствие получу.
Он остановился, закурил, натянул перчатки и, ткнув Жмакина пальцем в грудь, сказал:
– Будешь у меня главный человек. Тебе тоже обратного хода нет. Посчитаемся за наши жизни. Я тебе доверяю.
– Доверяю, доверяю, – с внезапной злобой в голосе сказал Жмакин, – что значит доверяю? Нужна мне твоя банда…
– А нет, не нужна? – усмехнувшись, произнес Корнюха, – Куда ж тебе идти, как не к нам? К Лапшину, виниться? А кто тебе жизнь поломал?
– Я все равно не бандит, – глухо сказал Жмакин, – я людей резать не могу…
Корнюха негромко засмеялся, покачал оловой и пошел, не дожидаясь Жмакина, постукивая палкой.
– Песня имеется, – сказал он, оборачивать на ходу, – наша дорогая, блатная, знаешь? «Ты же поздно или рано все равно ко мне придешь». Эх, браток! – Он вернулся и, как давеча, поглядел Жмакину в лицо. – Придешь, и шлепнут нас вместе.
Жмакин молчал, потупившись. Сердце у него глухо билось. Он уже не слышал слов Корнюхи, он мучительно вспоминал телефон Лапшина. Наконец вспомнил.
– Думай, думай, – сказал ему Корнюха, – ничего другого не надумаешь.
Опять надолго замолчали.
– Револьвер у тебя один? – спросил Жмакин.
– Один, – сказал Корнюха, – паршивенький. Это как раз дело девятое, достанем.
– Трудно.
«Будет отстреливаться или не будет? – осторожно, успокаивая себя, думал Жмакин. – Будет, собака. Руку все в кармане держит».
Он зашел справа и скосил глаза на карман Корнюхи. Но не понял, какой револьвер, и попросил показать.
– Да коровинский пистолетик, пустячный, – сказал Корнюха, – чего на улице рассматривать…
Брели по Советскому проспекту. Корнюха рассказывал, как убил сторожа-стрелочника. Вытянул руку, округло сложил пальцы и, усмехнувшись, произнес:
– Только тряхнул, он сразу и готов.
– Лихо, – сказал Жмакин. – Надо бы нам, пожалуй, выпить?
– Я в кабак не пойду, – сказал Корнюха, – ты зайди сам, попроси навынос. А то меня сразу могут наколоть…
Добрели до пивной. Жмакин проводил глазами Корнюху и шмыгнул внутрь – к автомату. Наконец телефонистка соединила. Он опустил гривенник и услышал сонный голос Лапшина.
– Ладно, – сказал Лапшин, – вы идите по Советскому, потом мимо Таврического, понял?
– Есть, товарищ начальник, – сказал Жмакин.
– По мостовой идите, – говорил Лапшин. – Моя машина будет идти без фар, на полуфарках. Он стрелять хочет?
– Наверное, так.
– Отойдешь в сторону, – сказал Лапшин, – он тебя очень просто может кончить. Погоди, постой!
– Слушаю.
– И не кидайся черту на рога.
Забыв про водку, Жмакин хотел было выйти, но решил, что лучше оттянуть время, и, не торопясь, выпил кружку пива. Как он ни медлил, прошло всего четыре минуты.
Корнюха стоял, не двигаясь, в подворотне.
– За смертью тебя посылать, – сказал он, – принес?
– Не отпустили.
Опять зашагали по мостовой. Время шло нестерпимо медленно.
– Где же ты спать будешь? – спросил Жмакин на тот случай, если Корнюха исчезнет до появления Лапшина.
Корнюха ответил, что спать он будет где придется. Одна за другой на полном газу промчались мимо две машины. На обеих сияли фары.
– Чего испугался? – спросил Корнюха. – Думаешь, задавят?
От кружки пива Жмакин вновь захмелел. Он все еще шел справа и все поглядывал на оттопыренный Корнюхин карман. Корнюха легонько посвистывал.
– Корней, – сказал Жмакин, сдерживая шальные нотки в голосе, – я не согласен.
– На что не согласен?
– К тебе в банду поступать.
– Подумай, дурашка, – лениво отозвался Корнюха, – подраскинь мозгами…
Сзади по мокрому асфальту зашипели автомобильные шины. Машина, пришептывая выхлопом на малом ходу, проскочила мимо и скрылась, подмигнув красными стоп-сигналами.
«Не заметил, – с отчаянием подумал Жмакин, – прохлопал спросонок, болван».
– Думай, думай, – опять сказал Корнюха, – силком замуж не беру.
– А? – спросил Жмакин.
Та же машина с потушенными фарами, на одних подфарках небыстро шла навстречу.
– Носит их, чертей, – пробурчал Коршохп с неудовольствием, уступая дорогу.
Автомобиль опять проскочил, но тотчас же со скрежетом затормозил. Корнюха обернулся, вытянул шею и, выбросив руку из кармана, побежал вперед по сырому асфальту.
– Стой! – крикнул сзади Лапшин.
Рассекая грудью воздух, Жмакин уже бежал за тяжелым и неповоротливым Корнюхой. «Убьет», – коротко подумал он и еще наддал ходу. Сердце у него падало, в груди делалось пусто и тошно, как на качелях. На бегу Корнюха выкинул назад руку и выстрелил. «Хрен вот тебе», – со злорадством подумал Жмакин, наддал еще ходу и, неожиданно даже для самого себя, схватил Корнюху за макинтош. Корнюха опять выстрелил и опять не попал. Жмакин ударил его в шею и вместе с ним рухнул на асфальт. В ту же секунду Корнюха схватил его за горло. Жмакин высунул язык, захрипел, извернулся, и, не сбей Лапшин с него Корпюху, жить бы ему осталось совсем немного. Но его подняли, встряхнули. Он сплюнул кровь, потрогал себе лицо. Потом сказал:








