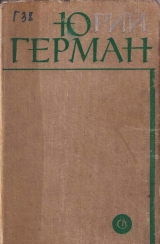
Текст книги "Жмакин"
Автор книги: Юрий Герман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
16
В часовне шел урок. Никанор Никитич, мягко ступая в ночных туфлях, ходил возле стола, вздергивал голову и мечтательно говорил:
– В капиталистических странах техническая интеллигенция частично капитулировала, и, таким образом, электрификация…
Вокруг стола, с которого скатерть была снята, сидело человек семь народу. Писали диктант. Тут были два старых шофера, три грузчика, стрелок из военизированной охраны и уборщица – полная, неповоротливая женщина с усердными глазами.
– Перед «таким образом» какой знак препинания? – спросил шофер с круглой лысиной.
– Подумайте, – сказал Никанор Никитич и, наматывая на палец ленточку от пенсне, опять стал ходить из угла в угол.
Жмакин прошел к себе в алтарь, понюхал воздух, отдающий ладаном, и лег на раскладушку, неприятно под ним заскрипевшую. Ему надо было думать, и он, закрыв глаза, стал собираться с мыслями, но вдруг уснул и проспал до утра без снов, спокойно, ни разу не повернувшись. А утром съел бутерброд, купленный впрок, выпил стакан кипятку и, чувствуя себя сильным, крепким и бодрым, вышел на работу – мыть машины.
В перерыве он пообедал, а пошабашив и умывшись, сам сказал Василию:
– Начнем помаленьку?
– Можно, – сказал Васька.
Нарядчик – длинный и серьезный человек по фамилии Цыплухин – позвонил директору, спросил, можно ли дать трехтонку. Потом сказал:
– Бери девяносто шестьдесят два. Только имей в виду!
– Чего в виду, чего в виду, – закричал Васька, – чего вы пальцем грозите!
Они сели в кабину, Жмакин за руль, Васька сбоку.
– Теперь слухай, – сказал Васька, – гляди и слухай, какая тут картина. Ты что, в гаражах работал?
– Работал, – сказал Жмакин.
– Раз работал, значит повторим. Что мы имеем перед собой в кабине? Мы имеем рулевое управление, имеем два тормоза, ручной и ножной, имеем стартер – вот он, лупка, торчит, гляди…
– Вижу, – сдерживая презрение, сказал Жмакин.
– Дальше мы имеем конус, иначе сцепление, имеем акселератор и имеем рычаг скоростей. Вон оно яблочко. Повтори.
Жмакин повторил по возможности более равнодушным голосом. Васька два раза его поправил, он стерпел. К Ваське не поворачивался – глядел прямо перед собой в смотровое стекло. Васька велел ему плавно выжать конус и поставить первую скорость, потом вторую, потом третью, потом четвертую. После этого он начал рассказывать о сцеплении.
– Может, поедем? – раздувая ноздри, спросил Жмакин.
– Быстрый какой, – сказал Васька. – Меня знаешь сколько долбили теоретически, пока я до практики дошел. Итак, в чем же заключается сцепление?
Жмакин смотрел перед собой и не слушал. Васька раскраснелся, с каждой минутой говорил все увлеченнее и вдруг заставил Жмакина выйти из машины и поднять капот.
– Теперь гляди сюда, – приказывал он, – наклонись, не стесняйся спинку погнуть. Шоферское дело знаешь какое? С ума можно сойти.
Из гаража вышел Цыплухин и позвал Ваську. Жмакин сел в кабину, захлопнул дверцу, поднял опущенное стекло и, сжав зубы, включил зажигание. Потом нажал стартер, выжал конус, поставил скорость и дал газу. Грузовик, как жаба, прыгнул вперед. Раздувая ноздри, Жмакин на первой скорости стал разворачивать машину. На секунду он увидел Ваську, бегущего навстречу, потом Васька пропал, и навстречу побежала каменная степа гаража. Жмакин сильно вертел рулевую баранку, но стены были везде. Тогда он рванул тормоз. Машина остановилась в двух шагах от стены, задрав радиатор, – передними колесами Жмакин успел въехать на кучу щебня.
Он заглушил мотор, вздохнул и закурил.
Через секунду к машине подбежал Васька. Пот катился с него градом, на лице была ярость. Жмакин запер кабину изнутри и сказал Ваське через стекло, что машина побежала сама.
– Врешь нахально, – крикнул Васька и затарабанил в стекло кулаком.
– Успокойтесь, – сказал Жмакин.
Васька походил вокруг машины, покурил.
– Ну, теперь заходи, – сказал Жмакин, – только не верещать. Подумаешь, делов.
– Поставь задний ход, – сухо сказал Васька, – Теперь пять. Да не рви конус, черт паршивый.
Жмакин схватился за руль.
– Пусти руль, – сказал Васька.
Машина попятилась на кирпичный брандмауэр.
– Разобьешь машину, – в отчаянии закричал Васька, – пусти руль.
– Не пущу, – сказал Жмакин, – а ты пусти. Иначе разобью.
Васька со стоном отпустил. Жмакин быстро вывернул руль и схватился за тормоз. Машина остановилась.
– Ну ученичок, – сказал Васька, – с ума сойти можно.
– То ли еще бывает, – заметил Жмакин. – Давай покурим.
Они закурили, косясь друг на друга. Жмакин покрутил головой и засмеялся.
– Чего ты? – спросил Васька.
– Потеха, ей-богу, – сказал Жмакин.
Докурив, он велел Ваське вылезать из машины.
– Новости, – сказал Васька.
– Вот тебе и новости, – сказал Жмакин, без вас обучимся. Вытряхивайся.
Но Васька не вылез. Жмакин вновь завел машину и поехал крутить по двору. Машина уже слушалась его, он сидел торжествующий, но бледный. Когда Васька хватался за руль, он бил его по руке и говорил: «Не лапай, не купишь». Крутили долго. Жмакин ездил между зданиями гаражей, объезжал кладбище грузовиков пятился, разворачивался, тормозил, и под конец так ловко, что Васька выразил ему одобрение, после чего Жмакин немедленно высадил его и начал ездить один.
Уже стемнело, когда они загнали машину в гараж.
– Мерси, – сказал Жмакин, – как получу права, так тебе сразу угощение.
– Знаешь, тебе до прав еще плясать, – скатал Васька.
– Посмотрим, – сказал Жмакин.
Прошла педеля, – директора он не видел. По утрам он мыл машины, вечерами Васька обучал его практической езде. По двору Жмакин ездил уже отлично. На второй неделе он, высадив по обыкновению Ваську из кабины, с ходу загнал трехтонку задом в гараж. Васька, увидев это, закрыл руками лицо. Жмакин, не смущаясь, выехал вновь во двор и вновь загнал машину задом в гараж.
– Да не гони, черт, – кричал Васька, – куда ты гонишь?
В это время во дворе появился Пилипчук. Он шел в сапогах, в желтой обшарпанной кожаной тужурке, в руке у него был сложенный портфель. Загнав машину, Жмакин вылез из кабины, но раздумал и выехал навстречу директору.
– По городу ездил? – спросил Пилипчук.
– Нет, не ездил, – сказал Жмакин.
– Ну поедем, – сказал Пилипчук и сел рядом со Жмакиным. – Повезешь меня домой.
– Да у меня ж прав нет, – робея, сказал Жмакин.
– Как-нибудь, – сказал Пилипчук.
Стрелок, увидев директора, отворил ворота и не спросил пропуск. Жмакин, осторожно объезжая колдобины, поехал по Второй линии.
– Медленно едешь, – сказал Пилипчук.
Жмакин нажал железку сильнее. Грузовик заскакал. Поехали по Среднему проспекту, потом по Девятой линии к мосту. Пилипчук насвистывал, глядя вперед и спрятав руки в карманы, точно его вез настоящий шофер.
– Арестуют меня за такое дело, – сказал Жмакин.
– Как-нибудь, – опять ответил директор.
На площади Труда Жмакин зазевался и едва не ударил радиатором в подводу, но Пилипчук вовремя схватил руль и вывернул передок. Молча поехали дальше.
Васька в своей шинели сидел сзади в кузове, спиной к кабине, и пел песню, вспоминая те времена, когда он был грузчиком.
– Мотор совсем не знаешь? – спросил Пилипчук.
– Маленько знаю, – сказал Жмакин.
– Подзаймись, – сказал Пилипчук, – через неделю-две можешь, пожалуй, получить права.
Возле Мойки директор вылез.
– Товарищ директор, – внезапно осмелев, спросил Жмакин, – можно мне немного за город поехать? Немного подучиться.
– Одному?
– Зачем одному? С Василием.
– Попробуй, – сказал Пилипчук.
Василий перелез к Жмакину, Жмакин развернулся и поехал на Петроградскую. Здесь совсем уже была весна. Васька опустил боковое стекло, высунул голову. Он все пел, не мог остановиться. Еще не стемнело, воздух был чист и прозрачен, вода за деревянными перилами моста была такого розового цвета, что больно глядеть. Жмакин сидел за рулем по Васькиной инструкции – в свободной позе, как в кресле.
– Жмакин, а Жмакин, – сказал Васька, поворачиваясь своим курносым лицом к нему, – это правда или неправда, люди говорят про тебя?
– Чего про меня люди говорят?
– От, например, – смущенно сказал Васька, – что ты будто бы из жуликов? Небось врут.
– Врут, суки, – невозмутимо сказал Жмакин. – Ты, браток, не слухай. Мало ли чего говорят. Про тебя такое, брат, треплют, что спасения нет.
– Чего про меня треплют? – быстро и испуганно спросил Васька.
– У-у, братуха, – сказал Жмакин.
Он никак не мог придумать, что бы врали про Ваську, а только, усмехаясь, покачал головой.
Проехали Новую Деревню.
Теперь перед ними лежали болотца, подернутые легким туманом – серебристым, сглаживающим очертания, неясным и призрачным. Где-то далеко неярко и ласково теплился желтый огонек. Была прохладная майская белая ночь.
– Во, природа, – значительно произнес Васька.
Машина плавно бежала по дороге возле бесконечного ряда столбов, беленных известью. Неожиданно сзади вынырнул поезд – черный, длинный, с темными окнами, завыл и стал обгонять. Железнодорожный путь лежал рядом с шоссе. Жмакин поднажал железку, грузовик вырвался вперед и пошел ровно с поездом, но поезд опять обогнал, громкая песня раздалась из последнего вагона, мелькнул красный огонек, и стало тихо. Проехали мостик.
Тут было видно море и далекие неподвижные острия парусов на горизонте. Запахло рыбой. Горел костер, возле костра сидели люди, неподалеку старик в картузе смолил баркас.
Васька запел:
Лиловый негр вам подает пальто.
– Почему лиловый? – спросил Жмакин.
– А хрен его знает, – сказал Васька, – лиловый и лиловый.
В засыпающей Лахте Жмакин остановил машину и, сказав Ваське, что сейчас вернется, побежал по знакомым переулочкам. Все было тихо вокруг, печально, загадочно. Дорогу вдруг перебежала черная кошка. Жмакин с ожесточением плюнул, вернулся назад и побежал в обход мимо станции. Залаяла собака. Он окликнул ее негромко и услышал, как она застучала по забору хвостом. Он забыл, как ее звать.
– Жучка, Жучка, – шепотом говорил он, – Шарик…
Погладил по сырой шерсти и заглянул в Клавдино окно. Там сидел Гофман и что-то рассказывал. Лампа-молния горела на столе, покрытом плюшевой, знакомой-знакомой скатертью… Гофман был выбрит, в пиджаке с галстуком, лицо его, как показалось Жмакину, имело нахальное выражение. Жмакин зашел сбоку и заглянул в ту сторону, где стояла Клавдина кровать. Клавдя лежала на кровати, укрытая до горла своим любимым пуховым платком, беленькая, гладко причесанная, и улыбалась. Сердце у Жмакина застучало. «Дочка небось в столовой спит, – думал он, – небось мешает». Уже задыхаясь от неистовой злобы, не помня себя, он наклонился, взял кирпичину и отошел, чтобы, размахнувшись, швырнуть в окно, но вовремя одумался и так с кирпичом в руках пошел назад по тихим и сонным переулочкам к шоссе. Возле шоссе он бросил кирпич в канаву, обдернул пальто, поправил кепку, придал лицу выражение деловитости и влез в кабину. Васька все пел.
– Повидал дамочку? – спросил он разомлевшим голосом.
– Какую дамочку? – сказал Жмакин. – За папиросам и на станцию бегал.
И, развернув грузовик, он с такой стремительностью поддал газу, что Ваську откинуло назад, и сам Жмакин стукнулся головой.
– Полегче бы, – сказал Васька безнадежным голосом, зная, что Жмакин все равно не послушается.
– Ладно, полегче, – ответил Жмакин и, отчаянно нажав сигнал, повел машину в обгон осторожно плетущегося бьюика.
17
Почему он ревновал? Какие у него были основания? Не смыкая зеленых глаз, он лежал час за часом на своей раскладушке в часовне в алтаре. За узкими стрельчатыми окнами плыли легкие, розоватые утренние облака, Роса упала на булыжники двора, на железные крыши гаражей, на купол часовенки. Жмакин все лежал не двигаясь, смутно представляя себе красивое сухое лицо Гофмана и вспоминая, как тот поглядывал на Клавдю. Лежа на своей раскладушке, он думал о том, что происходит там сейчас, или вчера в это время, или позавчера, когда лил весенний дождь и он, Жмакин, беседовал с педагогом. Стискивая зубы, он придумывал самые оскорбительные фразы, он составлял их из бесчисленных, ужасных по своему безобразию слов. «Ладно, – думал он, – ничего». И, задыхаясь от душного, спертого воздуха часовни, от запаха ладана, от старческих вздохов и бормотания Никанора Никитича, он вертелся на скрипучей раскладушке, вскакивал, пил воду и все грозился кому-то, ругал, ненавидел и жалел себя. Уже и мысли у него не осталось, что Клавдя не изменяет ему. Почему бы, собственно, не изменить? Все люди на земле лучше, чем он, вор, непутевый бродяга, психопат и бездельник. Зачем он ей? Ей дядя нужен наподобие Гофмана, специалист, серьезный человек, член профессионального союза. Небось, у Гофмана целый бумажник напихан справками! Небось, он трудовой список имеет, какой полагается, А у него, у Жмакина, что? Чужая койка в бывшей православной часовне?
И она, с его, Жмакина, ребенком, будет жить с Гофманом, будет жена Гофмана, и в паспорте ее зачеркнут фамилию Корчмаренко и напишут Гофман. Клавка Гофман.
Тряся головой, он вскочил, накинул пальто и вышел на крыльцо часовни.
Какое утро, сияющее и великолепное, наступало! Какой начинался день! И как хорошо и остро попахивало бензином на огромном, чистом дворе! Как ровно, в струнку стояли зеленые грузовики! Как солнце всходило!
«Ладно, ничего, – думал он, вздрагивая от утренней сырости, – найдем и мы себе под пару. Наслаждайтесь, любите! Мы тоже не шилом шиты, не лыком строчены. Насладимся любовью за ваше здоровье. Будет и наша жизнь в цветах и огнях. Оставайтесь с товарищем Гофманом, желаю счастья. Но когда Жмакин станет человеком, – извините тогда. Вы тут ни при чем. Не для вас он перековывался из жуликов, не для вас он мозолил свои руки, не для вас он мучился и страдал. Черт с вами».
А он действительно мучился и страдал. Не привыкший к труду, раздражительный и нетерпимый, он вызывал в людях неприятное чувство к нему, и его сторонились, едва поговорив с ним. Злой на язык, самолюбивый, он никому не давал спуску, задирался со всеми, все делал сам, никого ни о чем не спрашивал, и если говорил спасибо, то как бы подсмеиваясь, – говорил так, что уж лучше бы не говорил вовсе. Даже покорный и скромный Васька раздражал его. Он видел в нем не просто безобидного курносого и мечтательного парня, а соглядатая, кем-то к нему подосланного и подчинившегося ему, Жмакину, только внешне, потому что иначе кашу не сваришь. Это и в самом деле было так: Васька хитрил со Жмакиным по совету Пилипчука.
– А чего, – сказал Ваське директор, – ты с ним осторожненько. Станет человеком, обломается. Это пока он такой индивидуальный господин.
И Васька действовал осторожненько, но Жмакин был хитрее Васьки и скоро раскусил дело. А раскусив, понял, что Васька сам по себе, и что вовсе Жмакин им не командует, и что как раз в подчиненном якобы Васькином положении – Васькипа сила.
«Все воспитывают, – со злобной тоской думал Жмакин, – все с подходцем, ни одного человека попросту нету…»
Однажды он сказал об этом Лапшину. Лапшин наморщил лоб, усмехнулся и ответил:
– А ты будь как все. Сразу и перестанут воспитывать. Очень нужно.
– Под машинку постричься?
– Это как? – не понял Лапшин.
– Вы говорите «как все», – щуря злые глаза, сказал Жмакин, – значит, как Васька или как Афоничев, или как вроде них.
– Почему, – все еще усмехаясь, сказал Лапшин, – будь лучше их.
– Как?
– Подумай.
Была белая, теплая летняя ночь. Лапшин и Жмакин сидели в садике на Петроградской стороне возле Травматологического института. Лапшин был в белом, даже сапоги на нем были белые, брезентовые. Несмотря на то что Лапшин усмехался, лицо его выглядело грустным и уже немолодым.
– Товарищ начальник, – сказал Жмакин, – я извиняюсь за один вопросик. Не обидитесь?
– Нет, – сказал Лапшин и закурил.
– Товарищ начальник, – сказал Жмакин, и голос его дрогнул, – как бы вы, допустим, поступили на таком деле: если бы вас баба обманула?
– Не знаю, – сказал Лапшин, – меня никто никогда не обманывал.
И отвернулся.
– Что же вы скажете, может, что вы не влюблялись в девчонок?
Лапшин молчал.
Жмакину стало неловко, он покашлял и вобрал голову в плечи. Лапшин сидел боком к нему, и его простое лицо в сумерках белой ночи выглядело необыкновенно усталым и замученным.
– Работать надо, Жмакин, – вдруг подобранным голосом сказал Лапшин, – землю перепахивать. На каждом участке работы можно революцию сделать.
– Э! – сказал Жмакин.
– Я бы тебя за это «э» так бы жахнул мордой об стол, – внятно и злобно сказал Лапшин, – так бы жахнул… Если бы не был твоим следователем.
– Да жахайте, – виновато сказал Жмакин, – пожалуйста…
Опять замолчали.
– Какая такая может быть революция в нашем гараже, – сказал Жмакин, – объясните мне за ради бога.
– А Стаханов?
– Чего Стаханов? – не понял Жмакин.
– Почитай, узнаешь, – сказал Лапшин, – вырос дурак дураком… – Он сердито затянулся, далеко и ловко забросил окурок и встал.
Встал и Жмакин.
Медленно они шли по аллее, и оба чувствовали, что не договорили до конца.
– Так-то, – сказал Лапшин, – не тоскуй, Жмакин. Все по своим местам встанет.
– Может быть, и так, – вяло согласился Жмакин.
Возвращаясь по Кронверкскому домой на Васильевский, Жмакин обогнал ту черненькую высокую девушку с блестящими глазами, которая назвалась Женькой на мойке машин в первый день работы Жмакина. Она плелась позевывая, с сумочкой в обнаженной руке, в светлом платье, простоволосая. Было в ней что-то жалкое, и, вероятно оттого, что она показалась ему жалкой, он вдруг почувствовал себя таким одиноким, заброшенным и никому не нужным, что с неожиданной для себя лаской в голосе окликнул ее и взял под руку.
– Вот так встреча, – говорила она, – прямо как в кино. Верно? И вы вовсе не Альберт, да? Вы как раз Лешка Жмакин.
– Федот я, – сказал он, и оба засмеялись.
Она шла от подруги, у которой было заночевала, но, по ее словам, ребята начали безобразничать, и она решила уйти. От нее пахло вином, и чем дальше они шли, тем больше и острее Жмакин испытывал то чувство, которое прежде, до Клавди, испытывал всегда к женщинам: чувство презрительной и брезгливой жадности. Он вел ее под руку, она опиралась на него, он слышал, как пахнет от нее пудрой и вином, прижимал ее голую руку к себе и испытывал тяжелое раздражение оттого, что не обогнал ее, а идет с нею, и оттого, что Клавдя бросила его, и оттого, что он одинок, заброшен и несчастен.
«На, – думал он, – гляди со своим Гофманом, Плевал я. Вы там, мы тут. Без вас обойдемся, От, чем нам плохо? Раз, два и в дамки».
И, заглядывая Жене в глаза, он запел нарочно те лживые и паршивенькие слова, которые пел когда-то давно, в одну из самых отвратительных минут своей жизни:
Рви цветы,
Пока цветут
Златые дни.
Не сорвешь,
Так сам поймешь, —
Увянут ведь они.
Женя смеялась, а он, близко наклоняясь к ее миловидному круглому лицу, спрашивал:
– Правильно? А, детка? Верно я говорю?
У Народного дома они сели на лавку. Жмакин замолчал и подсунул свою руку под спину Жени.
– Не щекотать, – строго сказала она, и оба они тотчас же сделали такой вид, что пробуют, кто из них боится щекотки.
Немного поговорили о гараже, о том, что он «растет», потом Женя сказала, что ей надоело жить без красок.
– Жизнь должна быть красочная, – говорила она, слегка поднимая ноги и щелкая в воздухе каблуками, – мне хочется чего-то такого жуткого и захватывающего…
Жмакин слушал, сжав зубы, втягивая ноздрями запах пудры. «Красок ей надо, – думал он, – чего-то такого жуткого. Скажи пожалуйста».
Положенный срок прошел. Все вокруг было как полагается. И белая ночь, и парочки, целующиеся на скамьях, и предутренняя прохлада. Даже пиджак свой отдал Жене, на всех соседних скамейках мужчины были без пиджаков.
– Замуж я не хочу, – говорила Женя, – все бесцветно и серо…
Молча он прижал ее к себе, но она уперлась руками ему в грудь; он прижал сильнее, она согнула руки и тихим, как бы сонным голосом сказала:
– Не надо.
– Чего не надо? – грубо спросил он. И вдруг такая злоба наполнила его, что он отпустил ее и сразу совершенно спокойным голосом сказал: – Не надо, так и не надо.
– А? – не расслышала она, оправляя смятое платье.
– Не надо, так не надо, – раздельно и внятно повторил Жмакин.
– Вы какой-то странный, – жалобным голосом сказала Женя, – я просто даже не понимаю…
Он сидел, закрыв глаза, презирая себя, ужасаясь почему-то. «Никого не надо, – со страшной тоской думал он, – присушила, пропал теперь Жмакин. Нету нам с тобой, Жмакин, никаких других баб, А нашу бабу забрал Гофман. Забрал и смеется…»
Играя желваками, он раскрыл тупые глаза и поднялся. Женя, имея оскорбленное выражение, тоже поднялась и опять заговорила о том, что он странный.
– Не надо, так не надо, – в третий раз сказал он, – чего в самом деле…
И, почувствовав жалость к этой, как ему казалось, оскорбленной им девушке, он зарычал и сделал вид, что укусит ее.
Никанор Никитич не спал, когда Жмакин вернулся домой.
– Добрый вечер, – сказал Жмакин.
– Доброе утро, – сказал Никанор Никитич, – чайку не желаете?
Он отложил книгу, снял пенсне, видимо расположенный поговорить, и, улыбнувшись доброй улыбкой, подошел к Жмакину.
– Ну, – спросил он, упираясь пальцем ему в живот, – что?
Сели за стол пить чай.
– Как собака, – сказал Жмакин, – ладаном пахнет. Какая у нас жилплощадь. Верьте слову – все ладаном пропахло, даже чай.
– Я привык, – сказал Никанор Никитич.
– Никанор Никитич, – вдруг сказал Жмакин, – меня жена бросила.
Старик посмотрел круглыми глазами, потом ужаснулся, а Жмакину стало смешно.
– Я пошутил, – сказал он, – будь я проклят, пошутил. Никакой у меня и жены-то нет. Сам один. Сам себе хозяин, сам себе и хозяйка. Да. Надо работать. Выучусь на шофера, начну деньги загонять бешеные, оторву себе костюмчик сиреневый, ботинки с гамашами, а?
– Может быть, может быть, – растерянно сказал Никанор Никитич, – очень может быть.
Уже уходя спать, Жмакин спросил про Стаханова.
– Вы не знаете, кто такой Стаханов? – изумился Никанор Никитич.
– Знаю, но не все, – сухо сказал Жмакин.
– Ну, тогда садитесь, – сказал старик, – я вам попытаюсь изложить. Это не так просто, имейте в виду…
Оттопырив губы, он налил себе стакан крепкого чаю, придал лицу значительность и начал рассказывать.
Он уставал и изматывался еще и потому, что был плохо грамотен, а готовясь к сдаче шоферского экзамена, приходилось много читать и разбираться в кое-каких чертежах. Да и не только в чертежах. Надо было знать мотор, электрооборудование, смазку. Васька его обучал. Но самолюбие Жмакину не позволяло быть у Васьки учеником, он должен был Ваську поражать, удивлять, зная все вперед, да так, чтобы Васька терялся, ахал и разводил руками. И как только Васька понял, чего хочет Жмакин, он с удовольствием начал ахать и разводить руками, – в сущности, это было не так уж трудно, потому что Жмакин действительно его удивлял. Но и хвастался Жмакин тоже на удивление.
– Что, здорово? – спрашивал он у Васьки. – Я, брат, инженер буду, а не шофер. Вы ерунда, узкие специалисты, я дальше хочу пойти и пойду…
– А что ж не пойти, – поддакивал Васька, – у кого какие способности. Есть человек – орел, с ходу берет предмет. А есть – бревно. Долбишь, долбишь – ничего.
– Вроде меня, – хитро подмигивал Жмакин.
– Зачем вроде тебя. О тебе разговора нет, – как бы смущаясь, говорил Васька, – ты парень с головой…
– То-то, – говорил Жмакин, посмеивался и похлопывал смиренного Ваську по широкому плечу.
Целый день он мыл машины – зарабатывал. Денег было очень мало – в получку девяносто рублей, и от невозможности выбросить по старой памяти рубль-другой на ветер он нередко злился.
– Работаешь, работаешь, – кричал он тихому и ни в чем не повинному Никанору Никитичу, – мучаешься, мучаешься, и что в результате? Не желаю!
Однажды, обозлившись после очередной получки, он поехал в кафе «Норд», сел за столик под белым медведем, нарисованным на зеленом стекле, почитал газету и с маху наел на двадцать семь рублей одних сладостей, решив, что теперь по крайней мере месяц не захочется сладкого. Осталось меньше семидесяти рублей. Два рубля он дал на чай, купил пачку папирос за пять и уткнулся в газету, а когда поднял глаза, то увидел, что в кафе входит Клавдя в миленьком синем платье и Федя Гофман – розовый, как поросенок, носатый и довольный. Жуя приторное пирожное с кремом, Жмакин спрятался за газету и взглядом, полным гнева, следил, как носатый и белобрысый Федя по-хозяйски выбирал столик, и как улыбалась знакомой робкой улыбкой Клавдя. На ней были новые туфли с пряжками, и Жмакин сразу же подумал, что эти туфли купил ей Гофман. Жадными и злобными глазами он оглядывал ее фигуру и вдруг заметил уже округляющийся живот, заметил, что бока ее стали шире и походка осторожнее.
«Мой ребенок, – подумал Жмакин, – мой» – и, как бы споткнувшись, застыл на мгновение и усмехнулся, а потом тихим голосом подозвал официанта и заказал себе сто граммов коньяку и лимон.
Клавдя и Гофман сидели неподалеку от него, наискосок, в кабине, и не замечали, что он следит за ними, а он смотрел, и лицо у него было такое, точно он видел нечто чрезвычайно низкое и постыдное.
Гофман сидел вполоборота к нему, и особенное чувство ненависти в Жмакине возбуждала шея Гофмана, розовая, подбритая и жирная. «А ведь не толстый парень, – думал Жмакин, – даже худой, а вот наел себе загривок – не переплюнуть». И он представлял себе, как Гофман обнимает Клавдю и как Клавдя дотрагивается до этой розовой, жирной и подбритой шеи. Мучаясь, облизывая языком сухие губы, он с яростным наслаждением вызывал самые мерзкие образы, какие только могли возникнуть в мозгу, и примеривал эти образы к Клавде, ы тут же грозил ей и ему, и придумывал, как он подойдет сейчас к ним обоим, скажет какое-то главное, решающее слово на все кафе, а потом начнет бить Гофмана по морде до конца, до тех пор, пока тот не свалится и не запросит пощады.
Он выпил коньяк и заказал себе еще.
Гофман подпер лицо руками и говорил что-то Клавке, а она, роясь в сумочке, рассеянно улыбалась. Им принесли кофе и два пирожных.
«Небогато», – со злорадством подумал Жмакин.
Уронив папиросы, он нагнулся, чтобы поднять их, и, когда брал в руки газету, увидел, что Клавдя смотрит на него.
«Поговорим», – холодея и напрягаясь всем телом, как для драки, подумал он, но не встал, а продолжал сидеть в напряженной и даже нелепой позе – в одной руке палка с газетой, в другой – коробка папирос.
Она подошла сама и остановилась перед ним, робкая, счастливая, прелестная. Грудь ее волновалась, на лице вдруг выступил яркий и горячий румянец, и какая-то дрожащая, неверная улыбка появилась на губах.
– Лешенька, – проговорила она покорным и потрясающе милым ему голосом.
Он молчал.
– Леша, – опять сказала она, и он увидел по ее глазам, что она испугалась и что она понимает, – сейчас произойдет ужасное. – Леша, – совсем тихо, с мольбой в голосе сказала она.
Тогда, почти не раскрывая рта, раздельно и внятно на все кафе он назвал ее коротким и оскорбительным площадным именем. И спросил:
– Съела?
В соседних кабинах поднимались люди. Гофман встал и, обдергивая на себе пиджак, крупным шагом подошел к Жмакину. Явился откуда-то кривоногий швейцар. Все стало происходить как во сне.
– Тихо, – сказал Гофман, – сейчас же тихо.
– Я вас всех убью, – скрипя зубами и наклонив вперед голову, сказал Жмакин. – Я вас всех порежу…
В его руке уже был нож, и он держал его как надо, лезвием в сторону и книзу. Подходили люди. Женщина в зеленой вязаной кофточке вдруг крикнула:
– Да что же вы смотрите! Он же пьян!
– Отдать нож, – фальцетом сказал Гофман.
Жмакин поднял голову и поднял нож. И тут, неловко присев, Гофман отпрянул за Клавдю. Нож в занесенной руке Жмакина дрожал. Он сразу не понял, что произошло. А когда понял, почти спокойно положил нож на стол, сказал «извините» и пошел к выходу. Его остановили. Он отмахнулся. Его опять остановили.
– Извините, товарищ, – сказал он, – мне идти надо.
И, чувствуя странную легкость в теле, вышел на улицу. Там его догнала Клавдя. Он посмотрел на нее, улыбнулся дрожащими губами. Она взяла его за руку и повела в «Пассаж».
– Ничего, ничего, – говорила она, – ничего, пойдем.
Он шел покорно, молча.
В углу возле автоматов они остановились.
– Ну, – сказала она, – что с тобой?
– Я тебя люблю, – ответил он, и губы у него запрыгали, – я тебя люблю, – повторил он со злобой, страстью и отчаянием, глядя в ее лицо, – слышишь ты? Я, я…
Спазмы мешали ему говорить.
– Не плачь, – голосом, полным нежности и силы, сказала она, – не плачь.
– Я и не думаю, – ответил он, – меня только душит…
И он показал на горло.
– Почистим желтые? – спросил вдруг из темного угла притаившийся там чистильщик сапог.
– Зачем ты с ним? – спросил Жмакин. – Зачем он тебе нужен?
– Оп мне не нужен.
– Давай почищу желтые, – опять сказал чистильщик и ткнул Жмакина щеткой в ногу. – Почистим, хозяин?
Взявшись под руки, они вышли на улицу и сели в садике. Жмакин все еще задыхался.
– А Федьку кинула?
– Потеряла, – сказала она, прижимаясь лицом к плечу Жмакина.
Он засмеялся, потом закашлялся и сказал:
– Я б его зарезал. Но только курей я не могу резать, извиняюсь. Курица твой Федька.
Кашляя, он тряс головой и крепко сжимал ее холодную руку в своей горячей, уже загрубевшей ладони.
– И тебя б я тоже зарезал, – говорил он, – слышь, Клавдя…
– Ох, страшно, – смеясь и все теснее прижимаясь лицом к его плечу, ответила она.
Потом она стала расспрашивать; он отвечал ей про то, как живет, и что делает, и кто ему стирает белье. Мимо шла лотошница с мороженым, он подозвал ее и купил порцию за девяносто пять копеек. Но деньги он куда-то сунул и никак не мог найти. Лотошница стояла в ожидании, он все рылся по карманам. Клавдя поглядывала на него снизу вверх и облизывала мороженое.
– О, черт, – сказал Жмакин и принялся выворачивать карманы наружу. Денег не было.
Клавдя положила мороженое на бумажку, открыла сумочку и заплатила рубль. Лотошница дала ей пятак сдачи и ушла.
– История, – сказал Жмакин растерянным голосом, – тиснули у меня последнюю двадцатку. Я ее вот сюда пихнул, в кармашек.
Клавдя внезапно взвизгнула, захохотала и затопала ногами по песку.
– Ну чего ты, дура, – сказал он, – чего смешного? Залезла какая-то сволочь в карман и тиснула…
У нее по лицу текли слезы, она швырнула в песок недоеденное мороженое и так хохотала, что Жмакину сделалось обидно.
– Да брось ты, – сказал он, – дура какая.
И подумав, добавил;
– Очень даже просто. В «Пассаже» тиснули, в подъезде. Такая толкучка безумная, вот и тиснули. Ничего хитрого нет…
Он замолчал и долго сидел насупленный и сердитый. Потом развеселился, и опять они говорили, перебивая друг друга и смеясь неизвестно почему. Вечерело. Клавдя попросила его проводить се в Лахту. Она встала первой, а он еще сидел и смотрел на ее ноги в узеньких новых туфлях.








