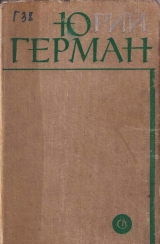
Текст книги "Жмакин"
Автор книги: Юрий Герман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
5
Вечером на следующий день он рассказывал о своем побеге. Но побега не было. Были какие-то медикаменты, которые нужно было доставить, – такое вранье, что он сам запутался, В вагоне было нестерпимо жарко; пассажиры уже перезнакомились, и летчик успел стать своим человеком. Он слушал, положив локти на обе полки, и лицо его выражало сочувствие, немножко даже жалостливое. Слушая, он волновался, расстегнул ворот гимнастерки и иногда говорил «во-от», или «хо-рошее дело», или «шут тебя дери», или что-нибудь еще в этом роде. Катя Малышева тоже слушала, уперев подбородок в ладони и свесившись с полки, глаза ее ровно и настойчиво светились, потный нос блестел. Слушал и толстый агроном, и старик в золотых очках, и его старушка, и врач из соседнего отделения, и было ясно, что они сочувствуют Жмакину, а главное – верят ему с начала до конца. Да и почему им было не верить ему? Он говорил настойчиво, с той страстной нервностью жестов и интонации, за которую блат окрестил его «Психом», с многочисленными смешными и страшными подробностями, говорил, то посмеиваясь сам, то пугаясь уже пережитого, ввертывая ловкие, «тонные» круглые слова, – ему просто нельзя было не верить.
– Ну и что же – передали? – спросил моряк, когда Жмакин кончил рассказывать.
– Что?
– Да ну то, что несли…
– Это? Да, передал, – сказал Жмакин, вдруг щурясь, – как же не передать!
Летчик покрутил головой и сел. Он был просто потрясен.
– Да-а-а, – протянул он, – бывает, бывает.
Все вдруг заговорили негромко, оживленно, но никто уже не вспоминал, – после такого повествования невозможно было рассказать какую-либо историйку охотничью, докторскую. Все были подавлены величием того, что совершил этот остроглазый парнишка, и Жмакин слышал осторожный и назидательный шепоток доктора:
– Вот ищем мы героев, фотографируем, читаем… А рядом с нами едет доподлинная героическая натура, и никто о нем никогда ничего не узнает… А? Это жаль, жаль…
Потом зашипел что-то старик в золотых очках, и агроном громко сказал:
– А не выпить ли нам всем по маленькой в знак взаимного уважения и начавшегося знакомства? Давайте, товарищи, слезайте сверху, объединимся и выпьем.
На маленьком столике уже была постлана салфетка и стояла нехитрая вагонная посуда: эмалированные кружки, граненый зеленого стекла стакан, серебряная червленая чарочка. Моряк открывал консервы, старуха разрезала свою курицу, что-то нежно ей приговаривая, доктор, прищурив один глаз, заглядывал в жестяную фляжку – старался, видимо, определить, много ли там водки.
Жмакин, не торопясь, слез со своей полки и пошел в вагон-ресторан. Он понимал, что выпивку эту затеяли спутники в его, Жмакина, честь, и странное чувство и неловкости, и гордости, и радости, и благодарности волновало его. Что-то было не так во всем этом – он знал, что солгал им в главном – в цели своего путешествия через тайгу, но ни в чем ином он не солгал – ни в выносливости, ни в мужестве, ни в настойчивости, ни в муках, которые он перенес, ни в риске, которому он подвергался. Э, да что! Если б знали они, что он не мог даже выйти на дорогу, что в него, кроме всего прочего, стреляли, – тогда бы они поняли, что значит настоящий человек.
Состав било и валяло из стороны в сторону. В тамбурах вился снег. На все деньги, какие у него были, он купил водки и закусок и пошел к себе в вагон. Катя Малышева уже сидела внизу и обгладывала куриную лапку. У нее было злое лицо, и она всем грубила. Жмакин пил и молчал. Летчик все с ним чокался и уговаривал идти в авиацию.
– Я и так авиатор, – сказал Жмакин с вызовом и понял, что пить ему не следует. – Все мы авиаторы, – добавил он испуганно, – летаем с места на место.
Агроном оказался из тех, которые, выпив две рюмки водки, начинают петь, и не потому, что им хочется, а потому, что они считают, будто так обязательно нужно. Он похлопал доктора по колену и запел:
Сильва, ты меня не любишь,
Сильва, ты…
– Давайте лучше патефон заведем, – предложил моряк, и все опять слушали «Румбу», а доктор дирижировал пальцем и вдруг сказал:
– Воображаю, как это негры разделывают где-нибудь в тропиках, а?
И, помолчав, добавил:
– Прелестная вещь юг.
Выпивка явно не удавалась. Все говорили – эх, люблю выпить, – и никто толком не пил, предлагали и не пели, нарочно смеялись, но смешно не было. Жмакин сидел насупившись, глотал рюмку за рюмкой и с каждой минутой раздражался все больше.
Ему казалось, что его арестуют именно сейчас. Подойдет штатский в высоких сапогах и выведет его на какой-нибудь полустаночек. И все эти будут сидеть по-прежнему в вагоне, а доктор скажет:
– Да-с…
И значительно покачает дурацкой своей головой. А поезд будет гудеть и грохотать, и с каждой минутой этого гула и грохота все ближе и ближе будет огромный прекрасный город.
Он выпил еще рюмку и съел кусок рыбы. Катя Малышева смотрела на него в упор, не отрываясь. Он глупо ей подмигнул и вдруг почувствовал желание сказать, что он беглый вор по прозвищам Каин и Псих, что у него семнадцать приводов и одиннадцать судимостей, и что ему плевать и на доктора, и на летчика, и на старика с его очками, и на Катю, что он сам по себе и они сами по себе. Но он ничего этого не сказал, и только обвел всех злыми, светлыми глазами и как-то очень неожиданно, неприятным, металлическим тенором запел:
Мы повстречалися с тобой
На вечериночке…
В кино я шел тогда…
Что-то шальное появилось в его лице, тонкие брови поднялись, голову он слегка откинул, и выражение глаз ежесекундно менялось, от злого к грустному, от грустною к бесшабашному, и наконец все это замерло, и лицо сделалось наглым, вызывающим и в то же время лмертвым, – все шрамы выступили, рот чуть скосился, кровь отлила от загрубелой кожи, и только один какой-то мускул играл возле виска, мелко бился, подрагивал, дергался.
– Что же вы не подпеваете? – перестав петь и слегка задыхаясь, сказал Жмакин. – Песня хорошая…
Но сам больше петь не стал, выпил рюмку водки, закусил и, словно бы обдав всех наглым своим, но уже и равнодушным взглядом, полез на полку, укрылся с головой пиджаком и сразу же заснул или прикинулся спящим.
Агроном проглотил еще рюмку, квакнул, поперхнувшись, ткнул пальцем наверх в спящего Жмакина и, покрутив головой, пошел в ресторан – выпить как следует. Он был человеком простым, открытым и веселым и не любил непонятное. Доктор махнул рукой, притопнул каблуком и, сделав озорное лицо, побежал трусцой вслед за агрономом. Остальные легли спать. Не спала только Катя Малышева. Возле тамбура было свободное заиндевелое большое окно. Она подошла к нему, уперлась в него лбом, закрылась ладонями от вагонного света и долго смотрела в беловатую, искристую, снежную мглу…
Потом к ней подошел Жмакин. Лицо его казалось темным, только в глазах поблескивало. Она взглянула на него и опять отвернулась. Он видел ее гибкую шею в растянутом вороте заштопанного свитера и нежное ухо, выглядывающее из-под ситцевого платка, видел ее смуглые руки, которыми она закрывалась от света, и думал о том, что мог бы ей порассказать еще про себя и сломать то небольшое уже сопротивление, на которое ее сейчас хватит. Но рассказывать свое, да не про себя ему почему-то не хотелось, и он молчал, продолжая неприязненно смотреть на Катю. Потом спросил:
– Вы ленинградская?
– Да, – сказала она, поворачиваясь от окна. Ее нос смешно побелел, – она все время прижималась им к стеклу.
– Учитесь там?
– Учусь, – сказала она, поправляя обеими руками платок.
Он поглядел на ее локти, и ему очень захотелось вытолкнуть ее из вагона и остаться с нею где-нибудь в пурге. А потом отдать ей все пиджаки и замерзнуть, чтобы она видела, какой он. Но он только спросил, где она учится, и так как спрашивать было уже нечего – закурил папиросу.
– Послушайте, – сказала она, – вот вы рассказали *замечательную историю. Ее никто не узнает, вероятно. У меня в Ленинграде живет один знакомый парень – он работает в газете «Смена», он журналист. Хотите, я его к вам приведу, и он напишет об этом? Ну, такую статеечку, знаете?
– Вряд ли напишет, – сказал Жмакин.
– Нет, обязательно напишет. Ведь это все-таки героизм…
– Да? – спросил он.
– Конечно.
– А что бы я оказался жуликом, – пошутил он, – тогда как?
– Жуликом?
– Так точно, – сказал он, – вором.
Она молчала, весело и широко глядя на него чистыми большими глазами. Жмакин засмеялся.
– Ну ладно, ладно, – сказал он, – запишите мой адресок и приходите. Получится статейка…
И опять засмеялся.
Она записала адрес тюрьмы; вместо номера дома и вместо квартиры – номер той камеры, в которой он когда-то сидел.
– Заходите, – сказал он, – если застанете, буду рад. И ваш адресок мне дайте.
Рано утром поезд подошел к Ленинграду. Настроение у Жмакина было скверное, болела голова, и когда все вышли на перрон, то вдруг показалось, что ничего здесь хорошего нет, что не стоило так мучиться и что хорошего, конечно, никогда ничего не будет. Он шел вместе с летчиком. Летчик тащил два чемодана, и полное лицо его было восторженным и потным. Жмакин предложил помочь. Они уже вышли на площадь.
– Да-а, городочек, – тянул летчик, – это городок!
Жмакин взял чемодан летчика, немного поотстал и на Старо-Невском вошел в знакомый проходной двор. Злоба и отчаяние переполняли его. «Рвань, – бормотал он, скользя по обмерзшим булыжникам, – иди в авиацию!» Поднявшись на шестой этаж чужого дома и послушав, тихо ли, он одним движением открыл чемодан, выложил все вещи в узел, покрутился по переулкам и уже спокойно, валкой походочкой, дымя папиросой, пошел в ночлежку на Стремянную.
6
Осторожно он стал нащупывать старых друзей. Он делал это не спеша, сдерживая себя, без единого необдуманного шага. Выяснилось, что первый и давний друг его Филька Кочетов расстрелян еще в тридцать третьем году за бандитизм. Тогда он пошел к Филькиной матери. Старуха жила на Васильевском острове на Малом проспекте в старинном доме с четырьмя колоннами по фасаду. В загаженном, вонючем дворике на него набросилась собака. Он пнул ее ногою и поднялся на крыльцо. С поднятым воротником заграничного пальто, с шарфом, замотанным вокруг шеи, в светлой пушистой кепке он выглядел не то кинематографическим артистом, не то иностранцем, и старуха никак не хотела его узнать, а когда узнала, то заплакала и обняла. Она худо видела и была страшна со своими крашеными волосами, с огромным беззубым ртом, с парализованной половиной лица. Он ничего не понимал из ее слов. От нее скверно пахло нечистой одинокой старостью. Она почти сразу же попросила у него денег, и он неожиданно для себя вдруг сказал ей, что она сама виновата в Филькиной судьбе. Она опять захныкала, но он ударил кулаком по столу и своим бешеным срывающимся голосом крикнул, что он все помнит, что он помнит, как она радовалась чистой Филькиной работе и как покупала барахло на ворованное, как она скаредничала и гнала Фильку работать в самое неподходящее время.
– Забыла, стерва, – кричал он, наступая на нее и брызгаясь слюной, – а я помню… Забыла, как подбивала его за границу идти, забыла? Все ты! Из-за тебя его шлепнули, сучья лапа, все тебе мало, хапуга…
Она хватала его за протянутую к ней сильную руку, а он все шел и шел, пока она не свалилась в какое-то креслице. Тогда, замахнувшись, он плюнул и ушел – слепой от бешенства – плечом вперед, как всегда в припадках ярости.
Весь день он пил – справлял тризну по расстрелянном друге, и ночью пошел на грабеж один – пьяный, без оружия, щуря в темноте свои зеленые глаза и сжимая кулаки. Город был ему чужим, – он еще не знал в своей жизни такого одиночества. Грабеж не удался – некого было грабить, он продрог до костей и пошел в «шестерку»– в ресторанчик-подвал на канале Грибоедова, чтобы согреться.
Знакомый по прошлым годам гардеробщик снял с него пальто, испуганно и приветливо улыбаясь. Он швырнул кепку, не оглядываясь назад, обдернул пиджак и медленно вошел в зал. Все было так же – и буфетная стойка, и папиросный дым, и морячки в тигровых джемперах, и дирижер-дурак с толстым бессмысленным лицом. Жмакин пошел по проходу. «Возьмут? – спрашивал он себя. – Или не возьмут?» Ему не было ни страшно, ни весело, азарт былых годов кончился, видимо, навсегда. Он еще раз прошелся между столиками. Тут не могло обойтись без уголовного розыска. Но кто? Может быть, новые? Он шел от столика к столику, – все было занято. Тогда он подошел к буфетной стойке и ткнул пальцем в большую стопку. Буфетчик налил. Он поднял стопку почти ко рту и даже немного запрокинул голову, но вдруг заметил невдалеке нечто страшно знакомое, заметил и тотчас же потерял. Так и не выпив водку, он поставил стопку на поднос и принялся разглядывать пьяные, красные, возбужденные лица, – от одного столика к другому. Но то знакомое исчезло, и он, решив, что ошибся либо привиделось, нащупал сзади себя на подносе водку и совсем было пригубил, как то знакомое опять мелькнуло, но уже больше не скрылось, – он успел заметить два совершенно веселых глаза, которые смотрели на него из-за горшка с белыми искусственными цветами.
Тогда, медленно бледнея, он выпил свою водку, закусил маринованным грибом, расплатился и, чувствуя слабость в коленях, пошел к столику с искусственными цветами. У него недостало сил смотреть прямо перед собой, и он глядел вниз, на нечистую скатерть, на коробку дешевых папирос и на бутылку боржома, не допитую и до половины.
– Ну садись, Жмакин, – сказал ему знакомый негромкий голос.
Он сел и наконец взглянул на Лапшина. Те же светлые волосы, те же живые и веселые ярко-голубые глаза и то же умение скрипеть поминутно какой-то кожаной амуницией даже в том случае, если на нем было штатское.
– Сорвался? – спросил Лапшин.
– Что вы!
Это у него была такая манера в разговорах с большими начальниками – прикидываться простачком-дурачком, польщенным, что такое большое начальство шутит.
Он уже овладевал собою понемногу. Слабость в коленях прошла. Конечно, он правильно сделал, что подошел, – бежать от Лапшина бессмысленно.
– Значит, не сорвался?
– Что вы!..
Надо было оттянуть время и придумать – но что?
– Значит, за пять лет всего просидел полтора?
– Что вы…
– Так как же?
– Гражданин начальник…
– Выдумывай побыстрее!
– Я из лагерей в командировку прибыл…
Лапшин не глядел на него – глядел в стакан, в котором быстро и деловито вскипали пузырьки. Жмакин врал. Конечно, Лапшин не мог поверить, да он и не верил. Настолько не верил, что даже документы не спросил.
– Ах ты Жмакин, Жмакин, – сказал он вдруг веселым голосом с растяжкой и с небрежностью, – ах ты Жмакин…
Несколько секунд они оба глядели друг на друга.
– Ах ты Жмакин, – повторил Лапшин, но уже с какой-то иной интонацией, и Жмакин не понял, с какой.
И опять они помолчали.
– Дружков-корешков видел?
– Нет, гражданин начальник, – сказал Жмакин искренне.
– Кочетова твоего мы расстреляли, – сказал Лапшин, – и Хайруллина расстреляли. Слышал?
– Про Кочетова слышал, а про Хайруллина нет.
Лапшин все смотрел на него.
– Жалко было Кочетова, – говорил он, – да уж знаешь, такое дело…
– Пожалел волк овцу, – пробормотал Жмакин, – какие уж там жалости…
– Дурак ты, Жмакин, – вразумительно сказал Лапшин и, поднимаясь со стула, добавил: – Пойдем, я тебя посажу.
Они вышли вместе. Тротуар был мягкий, за какой-нибудь час очень потеплело: повалил веселый, чистый снег. Жмакин шел впереди. Лапшин немного сзади. На улице стало заметно, что он уже немолод, что ему в легком кожаном пальто холодновато, что он устал.
Возле аптеки, что на углу проспекта 25 Октября и улицы Желябова, Жмакин вдруг остановился.
– Гражданин начальник, – сказал он сиплым от пушения голосом, – отпустите меня. Я в тюрьме удавлюсь.
– У нас в тюрьме нельзя вешаться, – сказал Лапшин, – мы запрещаем. Ты что, не знаешь?
– Знаю.
– Ну, пошли!
Так молча, под снежком, дошли до арки. Площадь открылась Жмакину, и он замедлил и без того небыстрый шаг. Фонари горели через один, – молочный свет был точно был чем-то свеж, и приятно было, что возле светящихся шаров пляшут снежинки. Дворец, ленивый и темный, запорошенный по карнизам снегом, почти совершенно сливался с черным, глухим небом. С улицы Халтурина мягко и плавно вылетел на площадь автомобиль и, заливая белыми фарами снежный пухлый покров, описал стремительную дугу.
– Отпустите меня, начальничек, – сказал Жмакин.
Лапшин молчал, вобрав голову в плечи и глядя на Жмакина из-под лакового козырька форменной фуражки. Снежинки садились на небритую его щеку возле уха.
– Ах ты Жмакин, – сказал он прежним тоном с той же растяжечкой, – либо ты дурак, либо действительно сволочь. Ведь расстреляем тебя рано или поздно. Расстреляем, – сказал он, – а?
– Отпустите, – повторил Жмакин. Отчаяние охватывало его. Он не мог больше представить себя в тюрьме. – Отпустите, – почти крикнул он, – начальник!
– Куда же тебя отпустить? – спросил Лапшин.
– Куда? На волю.
– А зачем тебе воля?
Жмакин молчал.
– Да и хватит тебе воли, – уютно зевнув, сказал Лапшин, – нагулялся, довольно! Пора и честь знать.
Он мелко потопал башмаками, сбивая снег, и пошел вперед к ярко освещенным дверям управления. И тут Жмакин решил бежать – и сразу же, не дожидаясь даже, пока решение окончательно созреет и укрепится, побежал, повинуясь только чувству отчаяния и страха перед тюрьмой. Он знал, что ему не убежать, знал, что площадь безлюдна, и как бы даже чувствовал, что Лапшин вынимает сейчас, сию секунду, дареный с золотою дощечкой маузер и целится в него, в Жмакина, еще бегущего, петляющего по белому снегу, и что сейчас он, Жмакин, рухнет лицом в свежий снег, но сзади почему-то было тихо и даже не было трели свистка, а он все бежал – огромными смешными прыжками – и слышал только гудение в ушах да грохот своих шагов. Он бежал от арки к Капелле, в спасительный мрак, и знал, что как только очутится за углом, – его не поймают и не убьют, и он опять будет на свободе и никакая тюрьма не будет ему страшна. Но на самом углу он поскользнулся и упал, подбородком ударившись о какой-то камень, и думал уже, что погиб, потому что Лапшин не мог тут не попасть в него. А выстрела опять не было. Он подождал и начал осторожно подниматься, все еще не веря себе, и тут нечаянно увидел далекую, уже маленькую фигурку Лапшина. Лапшин стоял в той же покойной и лениво-усталой позе, вобрав голову в плечи и сунув руки в карманы кожаного пальто, и было очень ясно, что он даже и не собирался ни свистеть, ни тем более стрелять – он просто смотрел вслед Жмакину, даже без особого любопытства. И когда Жмакин встал на ноги, он увидел, как Лапшин повернулся и небрежно, с прохладцей вошел в двери управления.
Жмакин опять побежал – и остановился. И еще побежал. Все стало непонятно ему, все точно бы перевернулось. Он перебежал через какой-то мостик, через проходной двор – попал в переулок и, не торопясь, вышел на улицу Желябова. Тут он сел на крыльцо, – ноги подломились. «Так что же это?» – спросил он себя и не ответил. «Что же? – во второй раз спросил он, растирая лицо ладонями, – может быть, ему никак нельзя было стрелять на улице?» Но это был не ответ. «Может быть, я такой уж ничтожный вор, что и пулю жалко тратить, – думал Жмакин, – или он маузер дома оставил? Как же, оставил!» – усмехнулся Жмакин и сплюнул черной слюною, – рот был полон крови, он расшибся, падая. Злоба поднялась в нем, он еще плюнул и поднялся. Надо было где-то ночевать, надо было жить и завтра и послезавтра. Он пошел, едва волоча ноги, поминутно сплевывая. Опять перед ним был проспект 25 Октября. Трамвай-мастерская стоял на перекрестке, – большие окна уютно светились. Жмакин заглянул внутрь: там были верстаки, на одном верстаке спала баба в тулупчике, и в ногах у нее пылал зеленым венчиком примус, на примусе кипел чайник. У другого верстака, у тисочков, стоял здоровый сивоусый дядька в железных очках и делал какую-то мелкую работу. Сложив губы трубочкой, он что-то маленько присвистывал и с удовольствием наклонял голову к своей работе – то слева, то справа. А вокруг трамвая, на рельсах работали бабы – все в тулупах, в платках, в валенках, разгребали снег и орали друг на дружку, как галки весною; тут же была лошадь, впряженная в специальную повозку для ремонта проводов, – наверху что-то мастерили, а лошадь сонно и вкусно перебирала замшевыми теплыми губами, и от нее шел такой замечательный запах кожаной упряжки и острого пота.
Жмакин постоял возле лошади, обошел трамвай кругом и, ни о чем не думая, влез на площадку. Здесь стояли ведра, метлы, какие-то палки непонятного назначения. Он откатил дверь и сказал дурашливым голосом:
– Э, хозяин, пусти Христа ради погреться.
– Погрейся Христа ради, – сказал сивоусый, не оглядываясь.
Жмакин сел на скамью в угол, поглядел на крепкие колени спящей на верстаке бабенки, надвинул кепку пониже и уснул сразу же мертвецким сном. Часов в шесть утра его выгнали из трамвая. В вагон битком набилось женщин, от них несло холодом, примус уже не горел, и сивоусый, надсаживая глотку, что-то командовал горланящим бабам.
Жмакин вышел, шатаясь, на улицу. Дул ветер, и ему сделалось отчаянно холодно. К тому же он никак не мог закурить, спички фыркали и не загорались, и голова спросонья была тяжелой, дурной.
Трамвай заскрежетал, голубые искры вспыхнули на проводах, колеса забуксовали, из открытой двери донесся обрывок песни, – женщины запели, усевшись на верстаки, веселыми, шальными от ветра и от работы голосами:
…Чтобы с боем взять Приморье…
Дверь захлопнулась, и трамвай ушел.
Улица теперь была пуста, – наступило предрассветное, самое мерзкое для бродяг время. Вот промчался автомобиль «скорой помощи», кто-то там подпрыгивал за едва освещенным матовым стеклом, еще раз взвыла сирена, и все совсем стихло.
Жмакин наконец закурил и пошел к Садовой. Возле Гостиного длинная и худая, в смешных коротких ботах и шляпке бадейкой, стояла немолодая уже и не очень трезвая женщина. Он пошел с ней. Она торопливо и пьяно ему жаловалась на какого-то шофера, а он не слушал ее и равнодушно думал: «Утоплюсь».
– Дай ему три рубля, – сказала она про дворника, – знаешь, нельзя!
И глупо засмеялась.
Комната была маленькая. Женщина сияла шляпу и села на кровать, внезапно раскиснув. Он стоял не раздеваясь.
– Как тебя зовут? – спросил он.
– Люся, – не сразу ответила она.
– Почем ходишь? – спросил он.
– Нипочем, – ответила она, – дурак!
Он все стоял. У нее было пьяное накрашенное лицо и жидкие спутанные желтые волосы. Он зевнул два раза подряд.
– Противный, – говорила она, – противный, сволочь…
Начиналась истерика. Она не то плакала, не то смеялась. Жмакин ничего не понимал, ему страшно хотелось спать и хотелось ударить ее как следует, чтобы она не выла таким мерзким голосом. Но она уже топала ногами в коротеньких ботах и захлебывалась. Он ждал. Потом, зевая, вышел на кухню, чиркнул спичку, нашел черную дверь, спустился по лестнице и, показав дворнику кукиш, пролез в калитку. Трясясь от озноба, он доехал до Финляндского вокзала, сел в поезд и задремал. Поезд был круговой, сестрорецкий. Топились чугунные печи. Три часа сна, потом еще билет и еще три часа сна. Уже засыпая, он зевнул от блаженства.
Все его тело затекло, когда он вышел на перрон. Он шел спотыкаясь и разминался на ходу, выделывая замысловатые движения, чтобы не ныла спина, не болела шея, чтобы вернуть себе легкость, четкость, чтобы голова стала ясной. В трамвае он вытащил кошелек у кашляющего мужчины и удивился неудаче – в кошельке был рубль, ключик и двадцатикопеечная марка. Он опять влез в трамвай и взял бумажник – уже удачнее, но тоже не очень – семьдесят рублей и паспорт. Все это была не работа. Он немножко прошелся и вскочил на ходу в автобус; здесь, проталкиваясь к выходу, он запустил два пальца в теплый мех хорьковой шубы, нащупал карман, взял пачку, толкнул, извинился и спрыгнул возле улицы Жуковского. В пачке было триста – сто штук по три рубля – ответственная получка. В почтовом отделении на Невском Жмакин запечатал в конверт украденный паспорт, написал адрес по прописке, наклеил марку и опустил в почтовый ящик. В паспорт, внутрь, он заложил еще записочку: «С благодарностью за деньги и с извинением. Впредь не зевайте». Но все это было не смешно и не развлекало, а наоборот – настроение с каждой минутой ухудшалось, и гнетущая скука наваливалась все больше. С почты он пошел в баню и там, моясь, разговаривал с коренастым смуглым парнем. Они говорили ни о чем – просто невинный банный разговор: что вода-де недостаточно горяча, что мало шаек, что под выходной день пода вовсе нельзя ходить; но собеседник Жмакина говорил очень уверенно, и уверенность эта и спокойствие почему-то раздражали Жмакина, – он повышал тон, и наконец разговаривать стало вовсе невозможно. Собеседник взглянул с удивлением на Жмакина и ушел париться, а Жмакин поглядел ему вслед с ненавистью.
Обедал он в столовой бывшая «Москва» – сидел возле окна и, мелко ломая хлеб, глядел на улицу, на потоки людей, на крыши трамваев, покрытые снегом. Даже сквозь стекла было слышно гудение толпы, сигналы автомобилей и автобусов, звонки трамваев. Жмакин выпил рюмку водки, понюхал корочку. Воздух за окнами сделался зеленым, потом синим, потом стал чернеть, и все четче выступали огни. «Утоплюсь, – опять подумал Жмакин, – надо». Ему хотелось плакать, или ломать посуду, или ругаться в веру, в божий крест, или, может быть, порезать кого-нибудь ножом. Он ел мороженое. Кто-то остановился перед ним. Он взглянул круглыми от ненависти глазами – это был нищий, маленький, оплывший старик во всем рваном и сальном и в опорках. Жмакин вынул пятак и положил на край стола. К нищему, помахивая салфеткой, уже шел официант – гнать взашей.
– Леша, – сказал нищий ровным голосом, – не узнал меня?
И Жмакин узнал в нищем ямщика Балагу, самого крупного скупщика краденого золота и серебра, знаменитого Балагу, грозу и благодетеля петроградских жуликов…
– Он будет обедать, – сказал Жмакин официанту, – дай водки, студня, хрену, пива дай…
Он вдруг обессилел. Балага уже сидел перед ним и чмокал беззубым мягким ртом. Из его левого глаза катились одна за другой мелкие старческие слезы. Водку он не стал пить и пива не пил, а в суп накрошил хлеба и ел медленно, вздыхая и охая. Потом вдруг сказал:
– Околеваю, Леша.
И опять принялся хлебать суп.
– Где Жиган? – спросил Жмакин.
– Сидит.
– А Хмеля?
– На складах работает на Бадаевских, – чавкая говорил старик, – я у него был. Пять рублей дал и валенки и сахару…
– Ворует, – спросил Жмакин, – или в самом деле?
Старик не отвечал, чавкал. Лицо его покрылось потом, беззубые челюсти ровно двигались.
– А Лошак?
– Лошак в армии.
– В ополчении?
– Зачем в ополчении? Он паспорт имеет. В армии честь по чести.
– Продал?
– А чего ж, – сказал старик, и глаза его вдруг стали строгими, – все равно конец. Кого брать? Инкассаторов? Банк? Кассира? С ума надо сойти.
Он опять стал есть. Жмакин выпил еще водки и, не закусывая, закурил папиросу. Старику принесли биточки, он раздавил их вилкой, перемешал с гарниром, полил пивом и стал есть, с трудом перетирая беззубыми челюстями.
– А ты сам, Балага?
Старик тихонько засмеялся.
– Я?
– Ты.
Старик все посмеивался. Слезящиеся глаза его стали озорными.
– Я божья коровка, – сказал он, жуя, – я, брат, ищу, как бы потише сдохнуть. Пять лет в лагерях отстукал, – опустили ввиду старости. Вот хожу – прошу. Лешка Жмакин пятачок дал, я не обижаюсь. И копейку возьму. Мне что?
– А Хайруллин? – нарочно спросил Жмакин.
– Шлепнули.
– А Ванька Сапог?
– За Ваньку не знаю. То ли ворует, то ли сидит.
– А Свиристок?
– Свиристок кончился.
– Как кончился?
– Утопился. Я его и опознал. Лапшин меня вызвал. Лежит – раздутый, кожа облезла. Лапшин говорит: «А ну-ка, Балага, погляди, не Свиристок ли?» Я поглядел и докладываю: «Так точно, Свиристок». Он открытку Лапшину написал: «Надоело все к чертовой бабке, решаюсь жизни, ввиду чего и пишу вам. К сему Свирнсток».
– Давай выпьем, – сказал Жмакин, наливая себе и Балаге, – чтобы Свиристок легко в аду пекся.
– И без нас испечется, – сказал Балага, – а мне пить нельзя по болезни.
– Бережешься?
– Берегусь.
Жмакин выпил один, пополоскал рот и опять не закусил. Свиристок представлялся ему живым, вихрастым, ленивой своей усмешкой на полных розовых губах.
Это не могло быть, чтобы он сделался синим и раздутым. Кто-кто, да не Свиристок, Он пел песни, носил стального цвета тройку, показывал фокусы, и вдруг синий и раздутый, Жмакин почувствовал, что может заплакать. «Слабею что-то, – подумал он. – Эх, сволочи, до чего довели парня!»
– А почему он в коммуну не пошел?
– Говорят, был, да ляпнул там чего-то.
Они помолчали.
– Закажи-ка мне еще биточки, – попросил Балага, – накушаюсь напоследок.
Жмакин заказал. На улице уже горели фонари.
– А ты никак сорвался? – спросил Балага.
Жмакин кивнул, глядя в окно.
– Издалека?
– Хватит.
– Слышь, Лешка, – сказал вдруг старик, – бросай ремесло.
– Как бросать?
– Бросай, говорю, и конец. Пропадешь. Иди работай.
– Ты что, с ума сошел? – спросил Жмакин. – Одурел?
Но Балага смотрел серьезно и как-то даже просительно.
– Дурья твоя голова, – раздельно сказал он, – ремесло ведь кончилось, разве не видишь? Нету ремесла. За кассира, за банк расстреляют. Ведь расстреляют, а жизнь молодая! Да и с кем работать сейчас, Лешка?
– Что ж, жуликов нет?
– Есть, отчего же нет, сегодня начал работать, а завтра его посадили. Сморкачи, хулиганы, а не жулики. Один будешь, Лешка, баба продаст, все продадут. И дрожать будешь, как собака, веселья нету, малины нету, дружков-корешков нету, в ресторанчик тоже не пойдешь; выпьешь под воротами – вот и вся радость. И так-то пьяненький от отчаянной жизни пойдешь глушить кассира – и точка. Налево.
– Брешешь, Балага, – сказал Жмакин, – слегавился, старый черт!
– Чего мне брехать из могилы-то, – усмехнулся Балага, – только мне виднее – всего и делов.
– Что же делать? – спросил Жмакин.
– Иди к Лапшину, винись.
– А дальше?
– Поедешь в лагеря – копать.
– Это медведь поедет копать, – сказал Жмакин, – я не поеду.
– Гордый?
– А чего ж!
– Ну утопишься, – сказал Балага, – или сдохнешь под мостом – там выберешь.
– На мой век дураков хватит, – сказал Жмакин, – будьте покойны.
– Это чтобы по карманам лазить? Хватит, Да какая радость-то? Все равно – лагеря.
– Убегу.
– Куда?
– Сюда.
– Опять посадят.
– И опять убегу.
– Дальше Советского Союза не убежишь, вернут в лагеря, и будешь работать или сдохнешь, дурак ты!
– Не буду работать.
– Почему?
– А почему ты не работал?
Балага усмехнулся.
– Зачем же мне было работать?
– Может, ты в комсомол вступил? – спросил Жмакин, – или в пионеры? Гладко больно чешешь.
Балага плюнул и встал.








