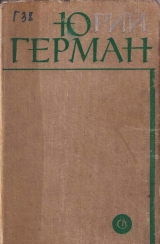
Текст книги "Жмакин"
Автор книги: Юрий Герман
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
10
Жмакин проснулся оттого, что Клавдя глядела на него.
– Что? – спросил он.
– Пойди в милицию, – сказала она, – иди куда там надо. Скажи – явился добровольно. Ничего не таи, выложи все. Слышишь, Леша?
– Слышу, – угрюмо ответил он.
Она отвела волосы с его лба. Жмакин не глядел на нее.
– А дальше? – спросил он.
– Дадут тебе пять лет или десять, – я за тобой поеду. Я всю ночь думала. В лагерь пошлют, – в лагерь наймусь. Что, там вольные не нужны? Слышишь, Лешка?
– Ты за мной не поедешь, – сказал он тихо, – не верю я тебе. Это сейчас у тебя в голове такая смесь пошла, а назавтра уже и не хватит. «Явись, явись добровольно!» – Он оттолкнул ее от себя и сел в постели. – Я-то явлюсь, меня-то запрячут, а ты – то да се, да маленький ребенок, и до свиданьица, Лешка, вам привет от Клавки. Как-нибудь обойдемся без покаяния, – коли ежели нужен, изловят и отправят по назначению.
– По какому назначению?
– На луну.
Он лег на спину и закрылся одеялом до горла.
– И не учи меня, – опять заговорил он, – перековка, то, другое. Сам сдохну. Надоели вы мне все, чтоб вас черт драл, – почти крикнул он, – ну жулик и жулик, ну вор и вор, и кончено…
– Не кончено, – крикнула Клавдя, – не кончено, дурак ты!
Она смотрела на него со злобой, с ненавистью. Губы у нее дрожали. Потом она отвернулась от него и тихо спросила:
– Ты мне не веришь?
Он молчал.
– Не веришь? – опять спросила Клавдя.
– Не верю. – Ему было трудно это сказать, но он сказал и еще повторил громко и внятно: – Не верю я тебе и никому не верю, и никогда не поверю.
– Почему?
– Потому что все сволочи и шкуры.
– А ты – хороший?
– Я жулик.
Клавдя замолчала.
– «За тобой, в лагери», – передразнил Жмакин, – какая святая нашлась. Варвара-великомученица.
Клавдя внезапно улыбнулась.
– От дурной, – сказала она, – Ну просто психопат!
Оделась и ушла.
Он пролежал в постели до двух часов дня. Дом опустел. Жмакин лежал, курил, думал. В два внизу постучали. Жмакин надел штаны, сбежал вниз и с маху отворил дверь. Вошел милиционер.
– Ломов Николай Иванович здесь проживает? – спросил милиционер.
– Здесь, – сказал Жмакин, – только он вышел неподалеку. Я сейчас за ним смотаюсь. Вы посидите, погрейтесь.
Милиционер потопал сапогами и вошел в комнату. Это был рослый, очень здоровый человек с солидностью в манерах. Пока Жмакин одевался у себя наверху, он слышал, как милиционер сморкается и покашлизает. Надо было еще взять деньги и паспорта – те, другие, краденые. Но тут же ему стало все равно. Он натянул пальто, прошелся по комнате и спустился вниз.
– Так я пошел, – сказал он милиционеру.
– Идите, – солидно ответил милиционер.
Жмакин отворил дверь и вышел на крыльцо. День был мягкий, пасмурный, серенький, – вчерашний красный закат наврал. Летели крупные хлопья снега. Жмакин закурил, стоя на крыльце и всматриваясь в конец улички: нет, Клавди не было видно.
Я плейтую и плейтую,
И всю жизнь мне плейтовать,
И никто не пожалеет,
Когда буду подыхать.
На ступеньках крыльца лежал чистый снег. Жмакин медленно спускался. «Теперь подождешь Ломова, – подумал он без злобы, просто так. – Ломов не скоро к тебе явится». Клавдя не показывалась. Жмакин миновал лавку, потом вернулся и заглянул внутрь, – Клавди там не было. Он зашагал по шоссе. Оно было пусто. Все кончилось. Железнодорожные рельсы чернели из-под свежего снега. Вдали шумел поезд. Жмакин встал на колени в снег и прижался шеей к рельсу. Поезд стал еще слышнее. Он поправил колено – было больно упираться в шпалу. «Машинист увидит, – уныло подумал он, – наверняка увидит». Машинист действительно увидел его, – дал два коротких предостерегающих гудка. Жмакин встал и пошел в лес. Ему казалось теперь, что он как кусок бумаги – плоский, бессмысленный, жалкий. Он шел по лесу, размахивая руками. Потом он забормотал. Первый раз он подумал про себя, что он страдает и что он несчастен. Главное, ему решительно ничего больше не хотелось: ни отомстить, ни ударить, ни напиться. Ничего. Он вдруг стал задыхаться и сел на груду валежника. Валежник был гнилой и провалился под ним, ноги нелепо поднялись в воздух, пальто зацепилось за ветки, – очень трудно было подняться. Он пошел дальше, глубже, снег засыпался в туфли. Его поразило: а Клавдя? Волна невыразимой нежности обдала его. Он вспомнил все. Он вернулся, потом опять пошел в лес, потом попал к оврагу и стал слушать: какая-то птичка попискивала. Он собрал немного рассыпающегося в руках снега и швырнул в сторону писка. Птичка все попискивала.
– Все в порядке, – сказал он, согревая дыханием озябшие руки, – в полном порядочке. И пошел к станции.
Но он запутался и не попал к станции, а вышел на шоссе и по шоссе добрел до Новой Деревни. Он даже не заметил, как добрел, – все время думал о Клавде и о том, что теперь уже все кончено. Он не мог прийти в этот дом, – сейчас там уже все знают, что он жулик и жил по украденному паспорту. Да, Клавдя? Каждую секунду образ ее возникал перед ним. Вот и город. Он заметил, что уже город, только возле буддийского храма. Горели фонари. Он внезапно очень продрог и подумал, что пойдет в баню и там отогреется. «Вымоюсь, выпарюсь, согреюсь, – думал он, – может, – чего надумаю».
Ему опять негде было выспаться. Все начиналось с начала. Дома и люди, и трамваи, и свет в окнах, и милиционеры, и командир, обогнавший его, и седой старик – все это его враги. Он так больше не мог.
– Кончено, – сказал он себе, – амба!
Надо было придумать смерть. Он шел и думал. А Клавдя? Что Клавдя? Надо бы отравы. Он думал об отравах. Какие они бывают? Сулема, что ли? Такая розовенькая. Не дадут сулемы. Если бы был наган, ах, хорошо! Наган – это очень хорошо, превосходно. Стрелять надо в сердце и обязательно из левой руки, уж это точно. Из правой можно не попасть. Опять Клавдя что-то ему говорила. Или, например, Окошкин. У него и маузер, и кольт, и наган. Не говоря о Лапшине. Или из винтовки. В ствол наливается вода. Надо разуться. Как Клавдя интересно разувалась – как-то совсем незаметно. Надо разуться. Ствол надо взять в рот и пальцем ноги нажать крючок. Тоже наверняка.
Он вошел в аптеку и спросил сулемы. Ему не дали. Он долго смотрел лекарства и мыла в витрине. И духи. Ни разу не сообразил подарить Клавде духи. Или коробку с мылом и с пудрой. Вот эту, за сорок пять рублей шестьдесят копеек. Кто это придумал шестьдесят копеек? Он увидел бритвы «жиллет» и долго на них смотрел. Потом вспомнил все. Это очень хорошо укладывалось. Он и согреется, и не надо идти в чужой двор, – очень ловко придумал.
Он купил коробочку лезвий «жиллет» и порошков от головной боли. У него болела голова. Тут же он подумал, что это смешно – проглотить лекарство, а потом зарезаться. И выкинул из трамвая порошки.
Баня была новая, отличная, с колоннами из мраморного, похожего на асфальт материала, с яркими лампами, заключенными в матовые цилиндры, со злым швейцаром в галунах.
– А буфет у вас имеется? – спросил Жмакин, внезапно подумав о водке.
– Наверх и налево, – нелюбезно ответил швейцар.
В буфете Жмакин сел за столик и заказал себе стопку и бутерброд с икрой. Он был один в высокой комнате со стойкой – больше посетителей не было. С голоду и от усталости его разобрало после первой же стопки. «Слаб стал, – укоризненно думал он, – не человек стал, мочалка стал. Пора, пора!»
Ему принесли еще водки, он выпил еще и еще одну стопку заказал. «Теперь сделано, – решил он, – теперь в порядочке».
Но все еще сидел, слабо шевеля губами, прощаясь с чем-то, с каким-то хутором, возникшим вдруг в мозгу, с тихим вечерним полем под мелким дождиком, с уютной комнатой, в которой он юношей играл в шахматы.
Миловидная официантка подошла со сдачей. Он взглянул на ее розовое, сомлевшее от скуки лицо, сделал губами стреляющий звук и поднялся, загремев стулом.
Он был полон чувства свободы.
«Без сожаленья, без усмешки, – в стихах думал он, – недвижим, холоден как лед».
Это была особая стадия опьянения: он сделался таким решительным теперь! Он поднимался по лестнице как никто – уверенно, легко. Ноги, сами несли его. И он потешался: Лапшин-то, Лапшин! Пожалуйста, берите Жмакина. Вот он. Хоть пять лет, хоть десять, хоть на луну, хоть налево. И Клавдя! «В лагерь с тобой, туда-сюда!» Извиняюсь, вы свободны. Нам с вами не по дороге. Вам направо, мне – налево.
А вдруг здесь возьмут?
Опираясь на перила, он подумал.
Вдруг сюда пришел Лапшин? Или Бычков захотел помыться в баньке? Или Окошкин?
«Без сожаленья, без усмешки, – повторил Жмакин стих, – без…»
Нет, не может быть такого случая.
Он вошел в комнату для ожидающих своей очереди.
В ванные кабинки была очередь, небольшая, человек семь. Было жарко, из открытой двери тянуло банным духом, паром, слышался плеск воды, голос банщика:
– Ваши сорок минут кончились, поторопитесь…
Жмакин сел на скрипящий стул под часами-ходиками, громко отстукивающими время. Комната была окрашена голубовато-зеленой краской. Банщик был в халате и в русских сапогах, с длинным острым лицом. Они оба внимательно поглядели друг на друга. «Ихний, – подумал Жмакин, – лапшинский». Ему сделалось ясно, что банщик – подставное лицо, что на самом деле он вовсе и не банщик, а, скажем, помощник уполномоченного, «А если даже и банщик – то все равно легавый, – думал он, – все они сейчас слегавились». И, встретившись еще раз глазами с банщиком, он ему подмигнул, как жулик жулику – весело, нагло, а в то же время как бы вовсе и не подмигивая.
Настроение у него все поднималось. Рядом сидел человек – тупоносый, обросший щетиной, ковырял в зубах спичкой и читал маленькую книжечку. Он отгораживал от Жмакина входную дверь и сидел в напряженной, не очень удобной позе, видимо рассчитывая взять Жмакина в ту же секунду, когда он встанет, чтобы убежать. «А я вас всех обману, – думал Жмакин, глядя на тупоносого с чувством собственного превосходства и презрения к нему, – я вас всех обдурю, да еще как. Не судить вам меня и не выслать, и над тюрьмой над вашей я смеюсь». Он немножко засвистел сквозь зубы, потому что тупоносый на него покосился, а ему необходимо было показать полную свою независимость. Тотчас же он увидел некоторую растерянность в глазах тупоносого, но приписал ее испугу оттого, что он, Жмакин, раскрыл игру тупоносого, и отвернулся с чувством удовлетворения.
Ожидающие очереди сидели почти полукругом, и Жмакин был вторым от правого конца полукруга. Он закурил и, отмахивая дым ладонью, с точностью выяснил, что все ожидающие очереди имеют отношение к уголовному розыску. «Психую», – на секунду подумал он, но не додумал до конца, отвлеченный видом толстого человека в черном пиджаке и в черном галстуке. Человек, этот внимательно и строго глядел прямо в лицо Жмакину своими выпуклыми без блеска черными глазами и одновременно, не отрывая взгляда от Жмакина, шептал на ухо своему соседу – маленькому горбуну, тоже поглядывавшему на Жмакина. И горбун и толстый в черном чем-то его поразили, он затаил дыхание и отвернулся от них, раздумывая. Они не могли быть оперативными работниками, он понимал это. Кто же они в таком случае? Может быть, это те, которые занимаются наукой, печатают пальцы заключенным и считают приводы и судимости? Интересно стало поглядеть, как будут крутить Жмакину руки.
– Следующий! – сказал банщик.
Из коридорчика бани вышел распаренный дядька и валкой походочкой прошел мимо Жмакина, но не спустился по лестнице, а встал на площадке и закурил. «Грубоватый приемчик», – подумал Жмакин и постарался подавить неприятную пляшущую дрожь, которая то начиналась в нем, то сама исчезала, но справиться с которой он не мог.
– Следующий! – повторил банщик.
Жмакину кровь кинулась в лицо, – он встал и неожиданно для себя произнес:
– Следующая моя.
Ему показалось, что все стали переглядываться и улыбаться, и что заскрипели стулья, и ходики защелкали чаще и громче, но на самом деле ничего этого не было, и он вдруг понял, что сходит с ума.
– Восьмой номер, – вслед ему сказал банщик.
– А где восьмой? – машинально спросил он.
– Вот восьмой, – с насмешкой сказал банщик и, обогнав его, раскрыл перед ним дверь.
– Это восьмой?
– Да, это восьмой.
Жмакин молча, как бы в раздумье, стоял перед раскрытой дверью.
– Не нравится? – спросил банщик, – Извиняюсь, у нас все кабинки одинаковые.
Жмакин сдержался, чтобы не ударить банщика снизу вверх под челюсть, и вошел в кабинку. Крючок, вырванный с мясом из двери, лежал на решетчатом полу. Жмакин нагнулся, поднял его, подбросил на ладони. Он опять дрожал. Дверь была полуоткрыта. Он думал, морщась от напряжения, зажав крючок во вспотевшей ладони. Потом сообразил. Вынул из кармана финский нож, наметил в двери дырку повыше того места, где раньше был крючок, и стал ввинчивать в дерево основание крючка. Он делал это медленно и с ненужною силой, весь обливаясь едким, мучительно обильным потом и мелко дрожа. Он дрожал до того, что вдруг застучали зубы – сами собою, и он не мог сделать так, чтобы это прекратилось. «Или с голоду или что такое, – силился он объяснить себе свое состояние, – или они меня сейчас возьмут…»
Завинтив крючок до отказа, он попытался закрыться в кабинке, но дверь набухла, и крючок не лез в петлю. Надо было посильнее захлопнуть. Быстро раскрывая дверь, для того чтобы потом с силой притянуть ее к косяку, он внезапно увидел в коридоре того толстого в черном. Жмакин не закрыл дверь и вгляделся. Толстый стоял на белом кафеле, и сзади него тоже был кафель, и сам он – смуглый, в черном – казался вырезанным из бумаги.
– Послушайте, – сказал толстый своим приказывающим голосом и, выбросив короткую руку из-за спины, сделал шаг к Жмакину. Но Жмакин с размаху захлопнул дверь и забросил крючок. Сердце у него колотилось. Он слышал сухие шаги по кафелю за дверью.
– Послушайте, – повторил толстый и стукнул в дверь.
– Да, – сказал Жмакин.
– Извините, нет ли у вас папироски?
– Папироски у меня нет, – солгал Жмакин, – чего нет, того нет.
Толстый не отходил от двери.
Переждав еще несколько секунд, Жмакин пустил воду в ванну и стал раздеваться. Ужасный страх мучил его. Он обливался потом. Из ванны поднимались клубы пара. Все было враждебно ему, весь мир ополчился против него, все желали ему гибели, все ликовали, что его сейчас возьмут. Толстый стоял за дверью. Банщик распоряжался людьми там, в той странной зелено-голубой комнате. Сейчас здесь будет Окошкин. Вода с хрипом и клокотаньем вырывалась из труб. Он взглянул наверх. Красная лампочка едва мерцала в сыром горячем воздухе. «И подыхать в темноте, – со злобою и отчаянием подумал он, – как свинья». И ему представилась та свинья, которую неумело и нелепо резали давеча на Лахте, и красный закат, и лицо Клавди, залитое слезами. «Конец, точка, амба! – думал он, прислушиваясь сквозь вой воды ко всем шумам бани. – Сейчас войдут!» Хлопнула дверь на пружине. И еще раз. «Поперек горла кое-кому Жмакин». Он почти реально видел Окошкина с его легкой походочкой и легкой усмешкой, с его румянцем, молодым, детским еще румянцем, с его узкой, перетянутой английским ремнем талией… Даже остроносые сапоги – их поскрипывание слышалось ему.
– Последнего жулика так не возьмешь, – бормотал он, – ни-ни! Слегавились, сволочи, один Лешка не слегавился и не продал и не продаст…
Он рвал на клочки паспорта, которые были в кармане, и все это выбрасывал в маленькую фортку. Потом мокрыми руками он разорвал деньги и тоже выбросил их в фортку.
Я прошу вас, грубый фрайер,
Выйти мне навстречу,
Я марвихер, жулик, мальчик…
У него темнело в глазах от головной боли, от духоты и от желания иметь револьвер, чтобы сначала «накрошить» всех тех, которые там собираются.
Тюрьма, тюрьма! Твои оковы,
Твои железные замки,
Твои решетки и засовы,
И часовые, и штыки…
Наконец он нашел в кармане пиджака пакетик с бритвами «жиллет» и сорвал обертку. Каждая бритва была в отдельном конвертике из пергамента, и чувство злобы на всю эту аккуратность охватило Жмакина. Он выбрал одно лезвие и, чтобы не порезать пальцы, снял конвертик Только с половины лезвия, на второй же половине устроил из бумаги нечто вроде ручки, какая бывает у чинки для карандашей.
Вода уже была налита; он попробовал, не слишком ли горяча, ногою, добавил холодной и, опираясь одной рукой о стенку, а в другой – в пальцах – держа бритву, встал в ванну. Воды было по колено, и, стоя, он увидел свой живот, втянутый и розовый от жары, увидел напружиненные мускулы ног. Тотчас же ему вспомнилась Клавдя, и его охватило такое отчаяние и такая жалость к самому себе, что на глазах появились слезы. Потом ему показалось, что Клавдя говорит голосом Лапшина, с его растяжечкой:
– Ах ты, Жмакин, Жмакин!
И опять:
– Ах ты, Жмакин!
Но тут же он вспомнил, что за ним следят и могут его взять, подумают, что он уходит в окно, и он решил, что для того, чтобы привести в исполнение задуманное дело, надобно хотя бы свистеть до тех пор, пока хватит сил, тогда они убедятся, что он здесь, и будут спокойно ждать его выхода.
И он засвистел, ровно и не напрягаясь, легонький и вместе с тем вызывающий какой-то мотивчик, какую-то всеми забытую одесскую босяцкую песенку со странными, лихими и наглыми словами:
Тетя, кинь пижона и возьми меня,
Тетя, я веселый буду для тебя,
Я не сын, не дочка буду для тебя,
Тетя, кинь пижона – выйди за меня.
Опершись левой ладонью на борт ванны и подняв над головою лезвие, он лег и закрыл глаза. Слезы проступили на ресницах. Он вытянулся так, что хруст прошел по всему телу, и поднес левую руку ладонью к самому лицу. Он сжал кулак. Голубая вена выступила с тыльной стороны запястья. Жмакин все свистел:
Тетя, я хороший, вежливый я буду,
Тетя, никогда я это не забуду…
Он опустил руку неглубоко в воду над грудью, приставил к тому месту, которое только что разглядывал, к голубоватой вене, лезвие и, сделав круглые глаза, не переставая свистеть, полоснул лезвием что было силы сверху вниз. Боли не было, и он только сбился немного в свисте – повторил куплет:
Тетя, я хороший, вежливый я буду,
Тетя, никогда я это не забуду…
Круглыми глазами он смотрел, как вода сразу же стала превращаться в розовую.
Я хороший мальчик, вам будет приятно,
Если уж возьмете, не уйду обратно,
Я люблю кофейни, крымское винишко,
Не судите строго вашего сынишку…
Переложив лезвие под водой из правой руки в левую, он крепко прижал локоть левой к груди и опять полоснул, и опять не почувствовал никакой боли. Вода все с большей и большей быстротой превращалась в красную, а Жмакин еще ничего почти не чувствовал, кроме легкого онемения в плечах и в кистях рук. «Сначала бы с ногами управиться», – спокойно подумал он и, усевшись в ванне, принялся поднимать и подтягивать к себе ногу так, чтобы перерезать вену возле щиколотки. Но едва только он начал резко двигаться, слабость и немота вдруг до того усилились, что он на мгновение даже замер. Отвалившись назад, он уронил руки вновь в воду, и вода опять стала краснеть с каждой секундой все сильнее и ярче. Но он нашел в себе силы еще раз сесть и, преодолевая начавшуюся резкую, отвратительную тошноту, нагнуться вперед и совершенно уже немеющей рукой, пальцами, сжимающими лезвие, дотронуться до ноги. Но вода стесняла резкость движения, и он не мог понять, где вена, полоснул просто так, наугад, и еще раз наугад, и еще, и успел сам себе удивиться. Теперь там тоже вода начала краснеть. Несколько секунд он смотрел, потом в глазах у него зарябило. Надо было свистеть, но он уже не мог. На него шла Клавдя в застиранном, узком ей платье. И Лапшин шел. И где-то пели, кричали, смеялись, что-то рушилось, ломалось, клокотала и брызгала вода. Балага протянул ему руку лодочкой. Он брезгливо закрыл мутнеющие глаза.
– Амба! – сказал он. – Привет от Жмакина.
11
Он очнулся в чем-то белом, ярком, твердом и с ненавистью обвел зелеными, завалившимися глазами часть стены, сверкающий бак, узкую, сутуловатую спину в халате.
Никто не обращал на него внимания.
Напрягая нетвердую еще память, он осторожно вспомнил все то, что произошло с ним в бане. Кажется, он попытался покончить жизнь самоубийством?
Терзаясь стыдом, слабый, зыбкий, с неверным взглядом косящих глаз, он лежал на тележке в перевязочной и заклинал: «Умереть! Ах, умереть бы! Умереть, умереть…»
Кого-то вносили и уносили, на его зелено-серое лицо падали блики от стеклянной двери, и эти блики еще усиливали его мучения… К тому же он был безобразно, нелепо голым и таким беспомощным и слабым, что даже не мог закрыть себя краем простыни. «Ах, умереть бы, – напряженно и страстно, с тоской и стыдом думал он, – ах, умереть бы нам с тобою, Жмакин…»
Он слышал веселые голоса и даже смех, а потом сразу услышал длинный, захлебывающийся, хриплый вой…
– Но, но, – сказал натуженный голос, – тихо мне.
Вой опять раздался с еще большей силой и вдруг сразу смолк.
– Поздравляю вас, – опять сказал натуженный голос.
Сделалось очень тихо, потом раздались звуки работы: топанье ног, шарканье, отрывистое приказание; потом мимо голых ног Жмакина проплыла тележка с чем-то, покрытым простыней. «Испекся», – устало подумал Жмакин и позавидовал спокойствию того, кто был под простыней.
– Ну, Петроний, – сказали совсем близко от него.
Он скосил глаза.
Высокий сутуловатый человек, еще молодой, с худым и потным лицом, в величественной, белой одежде, измазанной свежей кровью, стоял над ним и, слегка сжимая ему руку, считал пульс.
– Ну чего? – сказал он, заметив взгляд Жмакина и продолжая считать.
– Ничего, – слабо сказал Жмакин.
– Вот и ничего, – сказал врач и ловко положил руку Жмакина таким жестом, будто это была не рука, а вещь. – Как фамилия? – спросил он.
– Бесфамильный, – сказал Жмакин.
Врач еще поглядел на него, устало усмехнулся одним ртом и ушел. А Жмакина повезли на тележке в палату. Здесь было просторно, и свет не так резал глаза, как в перевязочной. Он полежал, поглядел в огромное, без шторы, окно, подумал, морща лоб, и уснул, а проснувшись среди ночи, слабыми пальцами снял повязку с левой руки и разорвал свежий шов. Простыня стала мокнуть, а он начал как бы засыпать и хитро думал, засыпая под какой-то будто бы щемящий душу дальний звон и как бы качаясь на качелях… Он думал о том, что всех обманул и убежал и что теперь его уже поймать никому никак. А душу все щемило сладко и нежно, и он все падал и падал, пока звон не сомкнулся над ним глубоким темным куполом и пока его не залила черная, прохладная и легкая волна. Тогда он протяжно, с восторгом, со стоном выругался, и к нему подошла сестра.
– Что, больной? – спросила она.
Жмакин молчал. Глаза его были полуоткрыты, зрачки закатились.
Сестра поджала губы и монашьей, скользящей походкой побежала в дежурку. Минут через десять Жмакина с перетянутой ниже локтя рукой положили на операционный стол. Белки его глаз холодно и мертво голубели. Он лежал на столе нагой, тонкий, с подтянутым животом и узким тазом, подбородок его торчал, и в лице было лихое, победное выражение.
Ему сделали переливание крови и отвезли в маленькую палату для двоих. На рассвете он очнулся. В кресле возле него дремала сиделка. Старичок, что лежал на второй кровати, умер, пока что кровать заставили ширмой.
– Уберите, – сказал Жмакин сиделке.
Она проснулась, что-то пробормотала и опять уснула. Потом пришли санитары и, смущаясь, торопливо и неуверенно унесли тело вместе с кроватью. Жмакин лежал с открытыми глазами и глядел на мутное окно, на голые ветви деревьев, на спящую санитарку.
Утром санитары поставили новую кровать на место прежней, а на кровать положили парня лет двадцати пяти. У него была раздроблена нога, и звали его Неверов. Санитарка под секретом рассказала Жмакину, что парень этот, Неверов, испытывал какую-то машину, которую сам построил, и что эта машина испортилась и расшибла его самого.
– Небось больше не будет, – сказал Жмакин. – Изобретатели!
Неверов лежал важный и строгий и, несмотря на сильные страдания, совсем не стонал. Лицо у него было детское, пухлое, не успевшее похудеть, только брови были взрослые – густые и сросшиеся у переносицы.
Жмакин видел, как в середине дня Неверов, лежа на спине и не закрыв лицо, вдруг закуксился и заплакал, и плакал долго, не утирая слез и беззвучно…
– Болит? – спросил Жмакин.
– Нет, – продолжая плакать, сказал Неверов, – не болит.
Вечером ему, точно мертвому, прислали много белых, печальных цветов.
– Не надо мне вашей чуткости, – сказал Неверов в потолок, – не надо мне…
И ночь он тоже не спал – шевелил губами и строго глядел в потолок. А когда Жмакин встал с постели, чтобы взять себе с тумбы у Неверова папиросу, тот сказал:
– Вы что, самоубийца?
Жмакин молчал.
– Глупо, – сказал Неверов и враждебно поглядел на Жмакина. – Небось из-за женщины?
– Нет.
– А из-за чего?
– Иди ты, знаешь куда? – сказал Жмакин и, шлепая босыми ногами, отправился к себе.
Утром к Жмакину пришел квартальный. Это был здоровый украинец, с обветренным сизым лицом, хорошо пахнущий мылом и морозом. Поверх милицейской формы, ремней и нагана на нем был халат, и халат его, вероятно, стеснял, потому что квартальный держался очень неестественно, подбирал под себя ноги, говорил тонким голосом и всячески подчеркивал, что он здесь небольшой человек и охотно подчиняется всем больничным правилам.
– Как будет фамилия? – спросил он, присев на край кресла и деловито глядя в лист бумаги, разложенный на папке.
– Бесфамильный, – сказал Жмакин.
Квартальный быстро и укоризненно взглянул на Жмакина, как бы призывая его относиться с уважением к обстановке, в которой они находятся, но встретил насмешливый и недобрый взгляд Жмакина и вдруг сам густо покраснел.
– Фамилия моя будет Бесфамильный, – повторил Жмакин.
– Отказываетесь дать показания?
– Вот уж и отказываюсь, – сказал Жмакин, – никак я не отказываюсь.
– Имя, отчество.
Жмакин сказал.
– Адрес?
– Не имеется…
Квартальный покашлял в сторону.
– Бросьте, товарищ милиционер, – сказал со своей койки Неверов, – разве не видите – он над вами издевается.
– Заткнись, учитель, – крикнул Жмакин, – с тобой здесь не говорят.
Он помолчал и сказал, глядя в сизое лицо квартального:
– Пиши! – Довел меня до ручки начальник бригады уголовного розыска Лапшин Иван Михайлович. Записал?
– Товарищ Лапшин? – удивленно и грозно сказал квартальный.
– Он.
– Ладно, – сказал квартальный, – когда такое дело, я товарищу Лапшину лично позвоню.
Лицо его выражало возмущение, он встал и, скрипя сапогами, ушел из палаты. А Жмакин нажал кнопку звонка и не отпускал ее до тех пор, пока не прибежала сиделка.
– Дадут здесь когда-нибудь завтрак? – срывающимся от бешенства голосом спросил Жмакин. – Или больные подыхать должны?
– Выпишите его из больницы, – сказал Неверов сиделке, – он кусается.
Он спал и проснулся оттого, что его окликнули по фамилии. Были сумерки, и, привстав в постели, Жмакин не тотчас узнал тяжелую фигуру Лапшина. Спросонья Жмакина разморило, он был потен, сердце его тяжело билось. Неверов спал, накачанный морфием, среди своих белых покойницких цветов.
– Здравствуй, Жмакин, – сказал Лапшин и грузно опустился в кресло.
– Здравствуйте, товарищ начальник, – сказал Жмакин.
– Болеешь?
– Да, выходит так.
– Табак здесь нельзя курить?
– В рукавчик можно, – сказал Жмакин, – осторожненько.
– Тогда не буду, – сказал Лапшин.
Он молчал, и в сумерках нельзя было понять – серьезно его лицо или он улыбается.
– Так-то, Жмакин, – сказал Лапшин, и Жмакин уловил в его голосе оттенок брезгливости.
Опять замолчали. Неверов тяжело всхлипнул во сне и заметался на кровати.
– Что за человек? – спросил Лапшин.
– Герой человек, – напряженно усмехнувшись, сказал Жмакин, – чего-то там испытывал, машину какую-то, она его и покалечила. Теперь лежит – психует.
– Ишь, – неопределенно сказал Лапшин. – А ты здесь за кого? – спросил он вдруг.
– За человека, – сказал Жмакин.
– А, – ответил Лапшин. – И женат? Я слышал, женат. Идет такой слух, будто в Лахте ты женился. С ребенком взял. Верно или нет?
Сердце у Жмакина заколотилось, но он зевнул с видимым равнодушием и выждал немного. «Куда бьет, – подумал он, – ну ладно, поглядим».
– Я не женат, – сказал Жмакин, – но с девочкой с одной спутался, это верно.
Лапшин удовлетворенно кивнул головой.
– Клавой звать, – продолжал Жмакин, – ничего девочка, порядочная. Семья у ней, папаша, все честь по чести. Некто Корчмаренко – папаша, представительный мужик, член партии…
– Какой партии? – спросил Лапшин.
– Как какой? Коммунистической партии, – сказал Жмакин, – можете проверить…
– Да, да, – сказал Лапшин, – ну?
– Всего и дела, – сказал Жмакин.
Лапшин вздохнул, почесал голову и быстро спросил:
– Жмакин, ты что про меня врешь?
– Да со скуки, – сказал Жмакин, – скучно мне, товарищ начальник.
– Будешь работать?
– Не буду, – сказал Жмакин.
– Ну и расстреляем к черту, – сказал Лапшин холодным и злым голосом, – паразит какой принципиальный нашелся. Не буду, не буду… Отец и мать работали?
– Матка моя, извиняюсь, была проститутка, – сказал Жмакин, – называлась Вера-Кипяток, – не слыхали? А папаша у меня был мерзавец…
Лапшин молчал.
Жмакин сел в постели и засмеялся.
– Я имею наследственность – не дай бог, – сказал он, – с меня взятки гладки. Один научный работник в одном детском доме при виде меня прямо-таки головой покачал. Не верите?
– Верю.
– Вот какие дела, – сказал Жмакин.
– А почему ты зарезался? – спросил Лапшин.
– Надоело.
– Что же тебе надоело?
– Жить так надоело.
– Вон что, – как бы с сочувствием, но и с прежней своей брезгливостью произнес Лапшин, – стало быть, не хочешь больше жить?
– Не хочу.
– Ты не обижайся, – сказал Лапшин, – я к слову.
В палате совсем стемнело. Лапшин поднялся, разыскал ощупью выключатель, зажег свет и опять сел. Неверов застонал и закричал во сне. Жмакин с ненавистью покосился на его постель.
– Ну, Алексей, – твердым и властным голосом вдруг сказал Лапшин, – давай рассказывай все твои обиды. С чего у тебя началось?
– Что началось?
– На дело с чего пошел?
– На дело? – усмехнувшись, спросил Жмакин. – На дело я пошел, товарищ начальник, исключительно с недоедания.
– Ну-те, – подбодрил Лапшин.
– А чего говорить, – сказал Жмакин, – чего время портить. Ладно.
– Ты ж в комсомол должен был вступить, – сказал Лапшин, – а, Жмакин?
– Может, теперь примете?
Жмакин засмеялся, вытер рот ладонью и покрутил головой…
– Ладно, – сказал он, – спасибо, товарищ начальник, что зашли. Денька через три выпишусь из больницы, заявлюсь к вам, сажайте. Кончился Лешка Жмакин. А беседы наши ни к чему. Вы, начальник, – железный человек, я – жулик, слабый мальчик. Пути у нас разные. Подарите трояка на папиросы – курить нечего, и на трамвай нет к вам ехать. Последний раз на трамвае, там на автомобиле будете катать. Верно?








