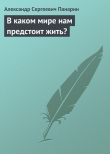Текст книги "Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии."
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Ту же мысль немецкий философ пытается аргументировать и с другой ее стороны, стараясь во что бы то ни стало «отделить» преступника против моральных и правовых установлений от его преступления, касающегося, как правило, совершенно конкретных – «единичных» – людей. Стремление «преступить» выражает согласно Ницше суть дела, а то, в чем оно найдет свое выражение, не столь важно. Более того: это не всегда адекватный, зачастую совсем неадекватный способ реализовать изначальное стремление «преступить», нарушить норму, закон, принцип, абсолют, выйти за рамки заранее положенной «меры».
91
«Не следует, – утверждает Ницше, – засчитывать преступнику как его порок ни то, что относится к его плохим манерам, ни то, что связано с низким уровнем его интеллекта. Нет ничего более обычного, чем то, что сам он понимает себя неверно: а именно не осознается его бунтующий инстинкт, его мстительность деклассированного – недостает начитанности; то, что под впечатлением страха, неудачи своего преступления он клевещет на себя и бесчестит себя, – эти обстоятельства дела совсем не принимают во внимание там, где вычисляют психологически преступника, подчинившегося непонятому им влечению и подтащившего свой поступок под ложный мотив при помощи побочной линии действия (скажем, при помощи грабежа, в то время как влечение это лежит у него в крови. – Ю. Д.)» [26].
Стараясь смягчить то впечатление, которое производит на людей конкретное преступление, взятое во всей его низменности, и сосредоточить внимание читателя на «высшем», так сказать, смысле преступления «как такового», Ницше протестует против того, чтобы «обсуждать ценность человека по отдельному поступку» [27] (для этого философа поступок – дело, деяние – это одновременно и проступок, преступление). Против такого подхода, по утверждению Ницше, «предостерегает Наполеон» [28], вернее, пример Наполеона, на совести которого, как об этом говорил еще Родион Раскольников из «Преступления и наказания», было достаточно много преступных «поступков». Немецкий философ считает, что «совсем уж несущественными» являются поступки, относящиеся к «поверхностному рельефу» событий [29], вне зависимости от того, как они должны расцениваться с этической точки зрения – как преступные или как добродетельные.
«Если человек нашего типа, – аргументирует он свою мысль, – не имеет на совести никакого преступления, например, никакого убийства – о чем это говорит? О том, что у нас отсутствовала пара обстоятельств, которые способствовали бы этому преступлению. А если бы мы его совершили, то что означало бы это для нашей ценности? Снизилась бы наша ценность, если бы мы совершили пару преступлений? Наоборот: ведь не каждый в состоянии совершить пару преступлений. Собственно, следовало бы презирать нас, если нас не счи-
92
тают способными при (соответствующих) обстоятельствах убить человека. Почти во всех преступлениях одновременно выражаются свойства, которые не должны отсутствовать ни у одного мужчины» [30]. В общем, людям, не совершившим преступления, не только запрещается, как мы видели, презирать преступников, сколь бы гнусные и низкие преступления они ни совершали. Более того: им рекомендуется перенести это презрение на самих себя, поскольку, скажем, они не обнаруживают в себе способности, например, к человекоубийству. Таков пафос приведенного ницшеанского рассуждения.
И вот как раз в этом – едва ли не кульминационном – пункте ницшеанской апологетики преступления и преступника вновь возникает в тексте имя Достоевского, тень которого Ницше явно тревожила уже с самого начала рассматриваемого экскурса. «Достоевский, – пишет немецкий философ, – не был не прав, когда говорил о заключенных того сибирского острога, что они образуют сильнейшую и ценнейшую составную часть русского народа» [31]. Здесь опять-таки чувствуется явная подтасовка, поскольку автор «Записок из мертвого дома», во-первых, далеко не всех заключенных считал преступниками в ницшеанском смысле – людьми, одержимыми влечением к преступлению «как таковому», а во-вторых, и среди тех, у кого на совести действительно были тяжкие преступления, проводил существенные различия, в силу которых иные оказывались вообще за гранью всего человеческого, а другие не причислялись ни к «сильнейшим», ни тем более к «ценнейшей» части русского народа.
Общее стремление Достоевского заключалось в том, чтобы показать, что даже в мрачном сибирском остроге, среди преступников, встречаются, как и во всяком народе в целом, люди сильные и слабые, более честные и менее честные, совестливые и вовсе бессовестные, деятельные и ленивые, словом, более «ценные», если пользоваться ницшеанским словоупотреблением, и менее «ценные». Стремление это явно диссонировало с общим выводом Ницше, обнаруживая в каждом конкретном случае его апелляции к Достоевскому, предельную тенденциозность и односторонность немецкого философа.
93
Что же касается данного конкретного случая, то здесь ссылка на авторитет Достоевского как человека, которому преступный мир был знаком вовсе не по одним только душещипательным романам, была для Ницше трамплином, обеспечивающим переход к выводу философско-исторического порядка. «Если у нас, – пишет Ницше сразу же после ссылки на свидетельство Достоевского о российских преступниках и, таким образом, как бы в упрек Европе, – преступник представляет собой плохо вскормленное и захиревшее растение, то это бесчестит наши общественные отношения; во времена Ренессанса преступник процветал и сам себе добывал собственный род добродетели, – конечно, добродетель в ренессансном стиле – честь (virtu) – добродетель, свободную от моральности (moralina)» [32]. Немецкий философ клеймит свою эпоху, когда наверх способны подняться лишь те люди, о которых не говорят, как о преступниках, «с презрением» [33]. «Моральное презрение», то есть осуждение человека с точки зрения нравственных абсолютов и норм поведения, по утверждению философа, является «гораздо большим унижением и приносит гораздо больше вреда, чем любое преступление» [34].
На фоне больших и малых, индивидуальных и массовых преступлений, которыми изобилует наш век, эта «тоска по преступлению» выглядит какой-то кошмарной иронией, если не считать все это фантастической глупостью, возникающей в результате отрыва философствования от нравственной жизни народа. И ответить на все это можно тоже только иронически: «Нам бы ваши заботы, господин учитель!» Существеннее, однако, здесь другое – то, что за всей этой ницшеанской речью, исполненной тоски по «настоящему преступлению» и «подлинному преступнику», как ее задний план, как фон проступает образ Ренессанса – эпохи, которая предстает как некая «Телемская обитель» для преступников: малых и больших, титулованных и безымянных, которым не был закрыт путь «наверх», невзирая на всю их подлость и низость, на всю гнусность и чудовищность совершенных ими преступлений.
Ницше – адвокат преступления «как такового» – предстает здесь одновременно и как обожатель и апологет Ренессанса – эпохи «великих» преступников и гнуснейших преступлений. И в этом проявилась не только верная историческая интуиция немецкого философа, правильно почувствовавшего исторический «коррелят» своей философии, но и завидная последовательность, отсутствующая у его эпигонов, которые ухитряются сочетать обожание Ренессанса с проповедью морали и нравственности.
94
«Гениальный» преступник и преступная «гениальность»
В третий раз обращается Ницше к свидетельству Достоевского именно как автора «Записок из мертвого дома» в одном из больших фрагментов, включенных им в книгу «Сумерки богов». Любопытно, что здесь то же самое место, которое в только что рассмотренном отрывке занимал Ренессанс, тогда как Наполеон упоминался лишь попутно, отводится именно этой – «ренессансной» – по утверждению Ницше, фигуре, вынесенной на историческую сцену французской революцией 1789—1793 годов. Фрагмент начинается словами, которые можно считать и его заголовком: «Преступник и что ему родственно». «Преступный тип», или «тип преступника», определяется здесь как «тип сильного человека при неблагоприятных условиях», как «сильный человек, превращенный в больного человека» [35]. «Больным» же он становится, по заверению философа, в силу отсутствия вокруг него обстановки «дикости», то есть «определенной, более свободной и более опасной природы и формы существования», в рамках которой все, что используется как оружие нападения и защиты в соответствии с «инстинктом сильного человека», утверждается в своем «праве» [33] (так что господствующим «правом» оказывается «право сильного») .
Дело в том, что эти добродетели «сильного», то есть «злого», человека были не только обесценены в связи с развитием общества (утверждением нравственных норм и моральных принципов), но и объявлены вне закона в той мере, в какой на место права сильного приходили иные общественные регуляторы. Его «жизненные влечения» были искажены, они переплелись и срослись с «угнетающими» их аффектами, с «подозрением, страхом, бесчестьем» [37], а это влекло за собой «физиологическое вырождение» [38]. То, что «сильный человек» мог бы лучше всего делать в обстановке окружающей его дикости, что было его излюбленным делом, – все это он должен был теперь делать тайно, с длительным напряжением, осторожностью, хитростью; да и сам он становится от этого «малокровным» [39]. А так как этот вчерашний «сильный человек», ставший теперь «малокровным», все время пожинает в качестве плодов своих инстинктов лишь опасность, преследования, «роковую участь», его собственное чувство обращается против этих инстинктов – он ощущает их как нечто фатальное [40]. «Общество, – заключает Ницше свою мысль, – наше ручное, усредненное, кастрированное общество, – является таким, в котором естественно выросший человек, спустившийся с гор или вернувшийся из морских приключений, необходимо вырождается в преступника» [41].
95
Тут и возникает в рассуждении Ницше, исполненном меланхолии и тоски по безвозвратно ушедшему прошлому, где господствовало «право сильного», иначе говоря, кулачное право, имя «гения»: Наполеон. Этот гений, в котором согласно Ницше возродился ренессанский дух, засвидетельствовал своей судьбой, что необходимость вырождения «естественно выросшего человека» в преступника не абсолютна, эта необходимость только «почти необходима» [42], ибо есть случаи, когда такой человек являет себя более сильным, чем общество, и «корсиканец Наполеон – самый знаменитый случай» такого рода [43]. И здесь опять-таки следует ссылка на «свидетельство Достоевского».
Ссылка на русского писателя тем более «важна» в глазах немецкого философа, что это был «единственный психолог», у которого, как пишет тут же Ницше, он «кое-чему научился». «Он принадлежит к прекраснейшим счастливым случаям моей жизни, даже в большей степени, чем открытие Стендаля» [44]. «Этот глубочайший человек, – пишет далее философ, – который был десятки раз прав, презирая поверхностных немцев, воспринял совершенно иначе, чем ожидал он сам, сибирских острожников, среди которых он долго жил, сплошь тяжких преступников, для которых не было больше никакого возврата в общество, – [убедившись], что они как бы вырезаны из лучшего, прочнейшего и ценнейшего дерева, которое вообще вырастало на русской земле» [45]. Причем свидетельство это, как подчеркивает Ницше, существенно важно именно «для проблемы, которая здесь обнаруживается» [46], проблемы «генетической», так сказать, связи – и родственности – преступника и гения.
«Давайте обобщим этот случай, – приглашает Ницше своего читателя, – давайте подумаем о натурах, у которых по каким-то причинам отсутствует социальное согласие, которые знают, что они не воспринимаются как добродетельные, полезные, этакое чувство чанда-лы, которую расценивают не как равную, но как вытолкнутую, недостойную, оскверненную. Все такие нату-
96
ры имеют отсвет подземного на мыслях и действиях; от него каждый становится бледнее, чем тот, на существование которого проливается дневной свет. Но почти все формы существования, которые мы отличаем, жили прежде под этим наполовину могильным дыханием: тип ученого, художник, гений, свободный дух, артист, купец, великий открыватель...» [47] На всех этих человеческих типах, если верить Ницше, почил «могильный», «подземный», «подпольный» дух преступления, дух отверженности, поскольку все они неизбежно выходили за этические, юридические и политические рамки общества, все они нарушали нравственную «меру», а потому объявлялись неприкасаемыми, чандалой, низшей кастой. И наоборот, в качестве «высшего» человеческого типа объявлялся защитник моральных принципов и нравственных абсолютов – священник. А поскольку он до сих пор имеет значение такого «высшего типа», постольку «каждый полноценный тип человека», то есть преступный тип, остается «обесцененным».
Вопрос в ницшеанской формулировке стоит так. Либо реабилитируется преступление «как таковое», как нарушение «границы» и «меры», совершаемое ради самого этого нарушения, и тогда будут реабилитированы все вышеупомянутые человеческие типы, – но для этого должен быть объявлен чандалой, неприкасаемым любой, кто выступает от имени моральных принципов и нравственных абсолютов, и прежде всего тип священника. Либо преступление не реабилитируется, и объектом общественного презрения остается преступник, «гений», как преступающий любую меру и границу, а в его лице и любой другой «первооткрыватель» – будь это ученый, художник или изобретатель. Нравственные нормы, моральные установления продолжают сковывать «сильных людей», способствуя их вырождению в банальных нарушителей закона и порядка. Впрочем, Ницше не теряет надежды: «Придет время – я обещаю это, – когда он (имеется в виду священник, но не как вероучитель, а именно как проповедник нравственных абсолютов. – Ю. Д.) будет расцениваться как самый низкий (человеческий тип. – Ю. Д.), как наш чандала, как самый лживый, самый неподобающий род человека...» [48]
97
Но суть дела для немецкого философа не только и даже не столько в принципе преступления как такового. Решение вопроса о преступлении в глазах Ницше является производным от проблемы преступника как физиологического, а не мировоззренческого и даже не психологического типа – «сильного», потому что «злого», я «злого», потому что «сильного». Встав на точку зрения «сильного», то есть «злого», то есть «преступного» человеческого типа, немецкий философ хочет быть выразителем не только его идеологии или психологии, но выразителем его физиологии, его основного соматического устремления. Речь идет об устремлении, в силу которого человек соответствующего физически-телесного типа должен с необходимостью действовать по «законам джунглей», согласно «праву сильного» – «кулачному праву», в какой бы сфере он ни оказался – в области практически жизненной или в заоблачных высях интеллектуального творчества.
Поэтому и модель «гения» выстраивается немецким философом по образцу деятельности человека, находящегося, по его мнению, ближе всего к реальности именно в таком – «физиологическом» – смысле, по образцу деятельности политика-полководца, и прежде всего – по образу и подобию Наполеона, предстающего для Ницше наиболее полным воплощением «ренессансного» принципа – принципа «воли к власти», ничем не ограниченной и желающей только одного – своего непрерывного возрастания, возрастания во что бы то ни стало, любой ценой.
Согласно Ницше отношение «гения» к обществу, где господствует «усредненный» тип «маленького», «доброго», «добродетельного» человека, до тех пор, пока «гению» не удается овладеть обществом, скрутить его, подчинив себе, ничем, по сути дела, не отличается от отношения к нему преступника: «структурно» это одно и то же отношение. Этот тип отношения в тем большей степени свойствен политическому «гению», будущему «цезарю», потенциальному Наполеону. «Я обращаю внимание на то, – пишет Ницше, – как еще теперь, при мягчайшем правлении нравов, которое когда-либо существовало на земле, по крайней мере в Европе, всякая необычность, всякое долгое, слишком долгое существование под спудом, всякая непривычная форма существования приближается к тому типу, который осуществляет преступник. Всякая новация духа известное время имеет бледный и фатальный знак чандалы на челе: не потому, что эта новация должна была бы так восприниматься, но потому, что она сама чувствует ужасную
98
пропасть, которая отделяет ее от всего обычного и пребывающего в чести. Почти каждый «гений» знает как состояние своего развития – «катилиническое существование», чувство ненависти, мстительности и бунта против всего, что уже есть, что более не становится... Кaтилина – предварительная форма существования каждого цезаря» [49].
Преступление против существующего, как видим, совершается любым «гением» – от философского до художественного, от художественного до политического – не потому, что это существующее плохо или неудовлетворительно, а просто потому, что оно «уже есть». Тем самым оно мешает «гению» реализовать себя, «самоосуществиться», развернуться «вовне». Он ведь еще не состоялся, ему еще нужно добыть место под солнцем, а для этого нужно разрушить то, что уже «стало», уже «состоялось». Вот причина, по которой все, что «есть», для «гения» плохо уже само по себе, а потому должно быть взорвано. И Катилина – этот люмпен, одержимый «волей к власти», стремлением «подняться наверх» во что бы то ни стало и чего бы это ни стоило окружающим, этот еще не состоявшийся «цезарь», который тем более достоин почитания, что он еще не состоялся, а потому полон разрушительной энергии, – вот прообраз, вот «прафеномен» всякого «гения», в какой бы области творчества он ни выступал.
Так выстраивается перед нами ряд «великих», «гениальных» преступников, находящихся и в генетическом, и в типологическом, и в физиологическом родстве с персонажами из «Записок из мертвого дома», в том числе и самыми отвратительными из них: римские «цезари», цезари-преступники ренессансной эпохи, Наполеон – воспоминание о прежних и «модель» новых цезарей. Во главе всего этого ряда – как «предформа» всякого гениального, то есть цезаристского, цезаристского, то есть гениального существования, – поставлен цезарь-уголовник Катилина. На фоне всего этого длинного ряда становится более понятным то, что Ницше разворачивает в «Сумерках богов» как свое «понятие гения» [50].
99
«Возьмем случай Наполеона, – иллюстрирует Ницше это свое «понятие». – Франция времен революции, а еще более дореволюционная Франция, была порождена человеческим типом, противоположным наполеоновскому, и вот она породила также и Наполеона. И так как Наполеон был иным, наследием более сильной, более медленно созревавшей, более древней цивилизации, чем та, которая распадалась в пух и прах во Франции, он стал ее господином, он единственный был здесь господином. Великие люди – необходимы, время, в которое они появляются, – случайно; то, что они почти всегда становятся господами над своим временем, имеет причину лишь в том, что они – более сильные, что они – более древние, что их приход подготавливался более давно. Между гением и его временем существует отношение, подобное отношению между сильным и слабым, так же как и между старым и молодым: всегда относительно более юным, слабым, незрелым, ненадежным, инфантильным» [51].
Словом, все говорит за то, чтобы «гений» овладел доставшейся ему эпохой, как старый, испытанный в боях римский легионер или испанский конкистадор овладевает юной пленницей. И уж, конечно, эта перспектива не обещает пленнице ничего хорошего.
«Опасность, – продолжает Ницше с каким-то мрачным восторгом, – которая таится в великих людях и временах, является чрезвычайной; изнурение всякого рода, бесплодие приходят следом за ними. Великий человек есть конец; великая эпоха, например Ренессанс, – это конец. Гений – в произведении, в поступке – это неизбежно мот-расточитель: в том, что он растрачивается (пуская по ветру не только себя самого, но и «свою» эпоху. – Ю. Д.), – его величие» [52]. Не к себе только, но ко всем его окружающим, к близким и дальним, живущим во время, которое он считает «своим», то есть своей собственностью, этот «гений», этот «великий человек» относится воистину как грабитель. В этом и заключается истинная причина внутреннего родства «гения» в ницшеанском понимании и «преступника» – опять-таки в понимании немецкого философа. Здесь Ницше был столь же последователен, сколь и откровенен. Тот, кого Ницше считает «гением», – это действительно преступник, ничем не отличающийся по «типологической структуре» своей, по отношению к окружающим и всему миру от тех, что были изображены в «Записках из мертвого дома», включая и самых низких, самых отвратительных, самых омерзительных его обитателей.
101
Оклеветанное раскаяние
Учитывая сознательно и откровенно провозглашенное немецким философом тождество «гения» и «злодейства», не без основания осознаваемое самим Ницше как совершенно точное выражение «ренессансной» точки зрения на человека и его «творческую сущность», совсем нетрудно предположить, как этот философ должен был относиться к раскаянию, которое у Достоевского неизменно располагается на полюсе, противоположном преступлению, и осознается как единственная до конца последовательная альтернатива преступному сознанию. Отношение немецкого философа к раскаянию определено и точно выражается в его фрагменте, датируемом февралем 1888 года, который имеет характерное название: «Против раскаяния и его чисто-психологического толкования» [53]. Этот фрагмент интересен для нас, так как в нем всплывает фигура автора «Записок из мертвого дома», причем «свидетельство Достоевского» используется как аргумент... против раскаяния.
С самого начала фрагмента Ницше стремится «разоблачить» раскаяние, опорочить, осмеять его. Прежде всего раскаяние для него – болезненный признак неспособности человека «справиться со своим переживанием» м. Рассуждая так, мы должны были бы слова Бориса Годунова: «И мальчики кровавые в глазах» [55] из пушкинской драмы рассматривать не как положительное свидетельство пробуждающейся совести, а как патологический симптом: симптом слабости человека, неспособного «овладеть» своими переживаниями, подчинив их своей воле.
Так же мы должны были бы расценить и то, что согласно исповеди Ставрогина [56] происходило с ним после самоубийства изнасилованной им девочки: «Я увидел перед собою (о, не наяву! если бы, если бы это было настоящее видение!), я увидел Матрешу, исхудавшую и с лихорадочными глазами, точь-в-точь как тогда, когда она стояла у меня на пороге и, кивая мне головой, подняла на меня свой крошечный кулачонок. И никогда ничего не. являлось мне столь мучительным! Жалкое отчаяние беспомощного десятилетнего существа с несложившимся рассудком, мне грозившего (чем? что оно могло мне сделать?), но обвинявшего, конечно, одну себя! Никогда еще ничего подобного со мной не было. Я просидел до ночи, не двигаясь и забыв время. Это ли
102
называется угрызением совести или раскаянием?.. Вот чего я не могу выносить, потому что с тех пор представляется мне почти каждый день. Не само представляется, а я его сам вызываю и не могу не вызывать, хотя и не могу с этим жить. О, если б я когда-нибудь увидал ее наяву, хотя бы в галлюцинации!» [57]
Однако любопытно, что Ставрогин здесь, как бы предвосхищая первый же ницшеанский аргумент против раскаяния, толкуемого философом как неспособность человека «справиться с переживанием», специально подчеркивает: «Не само представляется, а я его сам вызываю и не могу не вызывать». Это значит, что речь идет не о «переживании», с которым не может справиться воля преступника, а о самой этой воле, осознанной воле, которая вновь и вновь пробуждает в человеке одно и то же «переживание». Корни раскаяния согласно Достоевскому уходят гораздо глубже, чем хотел бы немецкий философ. Речь идет не о противоречии между волей и «переживанием», которое, по Ницше, характеризует «слабый» человеческий тип, а о раздвоении самой воли, которая, как оказывается, не так монолитна и не так глуха к различию добра и зла, как это представлялось философу «сверхчеловека».
Что же касается Ницше, то он вовсе не хочет углубляться в проблему раскаяния, удовлетворяясь самым поверхностным, а потому и самым вульгарным толкованием его на манер душевной болезни, имеющей, однако, чисто физиологические корни. «Это растравление старых ран, это самопогружение в презрение к самому себе и сокрушение о себе есть болезнь, тем более что из нее не может возникнуть «здоровье души», но возникает лишь ее новая болезненная форма...» [58] – утверждает немецкий философ. Те же состояния «избавления», которые достигаются на путях христиански толкуемого раскаяния как награда за его искренность и за искупительный подвиг, суть, по Ницше, не что иное, как «простые видоизменения одного и того же болезненного состояния, – истолкования эпилептического кризиса под знаком определенной формулы, которую дает н е наука, но религиозное безумие» [59].
Таким образом, ясен второй тезис ницшеанского рассуждения о раскаянии, второй аргумент против него: раскаяние – это болезнь, болезнь «эпилептоидного типа» (так как разрешается она в «эпилептическом кризисе»), и лечить, следовательно, должна ее не мораль,
103
а наука. Последняя должна поступать здесь так же, как она поступает в случае других душевных болезнен, имеющих физиологическое происхождение, например, в случае той же эпилепсии, взятой в чистом виде, не замутненной различными этическими ассоциациями.
«Рассуждая на болезненный манер (а именно с моральной точки зрения, предельное выражение которой Ницше видит в христианстве. – Ю. Д.), хорошо, если больны» [60], то есть испытывают угрызения совести, раскаиваются и т. д. Но с точки зрения научной, на которой пытается утвердиться Ницше в борьбе с раскаянием, «мы причисляем теперь большую часть психологического аппарата, с которым работает христианство (имеются в виду формы осознания чувства раскаяния и способы искупления совершенного преступления. – Ю. Д.), к формам истерии и эпилептоидности» [61]. Иначе говоря, если верить немецкому философу, вместо того чтобы лечить первые же угрызения совести как начинающуюся болезнь, представляющую собой разновидность эпилепсии, мораль способствует углублению этой болезни, доводя человека до настоящего припадка падучей (акт окончательного раскаяния), ибо таков «психологический аппарат», находящийся в распоряжении морали. А таков он по той причине, что всякая мораль согласно Ницше уже «по определению» есть христианская мораль, и никакая иная. Последняя же, по мнению философа, сама есть продукт болезни и физической деградации людей.
«Вся практика восстановления душевного здоровья, – пишет Ницше, – должна быть полностью преобразована. Она должна быть снова утверждена на физиологической основе». Но с точки зрения физиологической, «угрызение совести» как таковое – это «препятствие выздоровлению». Мораль же, стремящаяся довести угрызения совести до раскаяния, хочет «стимулировать, с помощью новых действий и возможно быстрее, возникновение хронического недуга самоистязания...» [62].
На этом моральном, этическом самоистязании и основана согласно Ницше «психологическая практика церкви и сект» (призывающих людей к раскаянию в совершенных ими преступлениях. – Ю. Д.), которая «должна быть разоблачена как вредная для здоровья» [63]. Это самый главный упрек немецкого философа по адресу религиозно ориентированной морали и морально ориентированной религии.
104
Что же касается «состояния «покоя», к которому приходит человек в результате искреннего раскаяния и честного стремления искупить свое преступление на деле, то и оно, по утверждению философа, далеко от того, чтобы вызвать к нему «доверие с точки зрения его физиологического смысла» [64]. Поскольку голос «физиологии» является для немецкого философа решающим, постольку он делает окончательный и безапелляционный вывод в пользу «здоровья» преступника – против его «раскаяния», грозящего нарушить его нормальные физиологические отправления.
Отсюда возникает третий основной тезис филиппики Ницше «против раскаяния и его чисто психологического толкования». «Являются здоровыми, если потешаются над серьезностью и усердием, с какими какой-то пустяк нашей жизни гипнотизировал нас таким образом (то есть вызывая у нас угрызения совести. – Ю. Д.), если при угрызениях совести чувствуют нечто подобное тому, что чувствует камень, когда его грызет собака, – если стыдятся своего раскаяния» [65].
Здесь Ницше вновь тревожит тень автора «Записок из мертвого дома», и все с той же целью: с помощью «свидетельства Достоевского» утвердить позицию и установку закоренелого преступника по отношению к раскаянию как единственно достойную – потому что «здоровую» в физиологическом смысле. «Прошлая практика, чисто психологическая и религиозная, – пишет философ, – ориентировалась лишь на изменение симптома: она считала человека излеченным, когда он простирался перед крестом и клялся, что будет добрым человеком... Однако преступник, который с известной угрюмой суровостью твердо несет свою судьбу, а не клевещет на свой поступок после того, как он совершился, имеет больше душевного здоровья... Преступники, вместе с которыми Достоевский жил в остроге, все без исключения были несломленными натурами, – не являются ли они в сотню раз более ценными, чем «сокрушенный» (то есть сокрушающийся о своих проступках и преступлениях. – Ю. Д.) христианин?» [66]
105
Эта ссылка на Достоевского – автора «Записок из мертвого дома» – знаменательна во многих отношениях. Во-первых, мы узнаем из нее, в каком смысле Ницше считал сибирских преступников сделанными из «самого ценного» [67] материала. Пожалуй, больше всего подходит под эту категорию персонаж из «Записок» Орлов – «злодей, каких мало, резавший хладнокровно стариков и детей, – человек с страшной силой воли и с гордым сознанием своей силы. Он повинился во многих убийствах...» [68].
«Я пробовал с ним заговорить об его похождениях, – повествует герой-рассказчик «Записок». – Он немного хмурился при этих расспросах, но отвечал всегда откровенно. Когда же понял, что я добираюсь до его совести и добиваюсь в нем хоть какого-нибудь раскаяния, то взглянул на меня до того презрительно и высокомерно, как будто я вдруг стал в его глазах каким-то маленьким, глупеньким мальчиком, с которым нельзя и рассуждать, как с большими... В сущности, он не мог не презирать меня и непременно должен был глядеть на меня как на существо покоряющееся, слабое, жалкое и во всех отношениях перед ним низшее» [69].