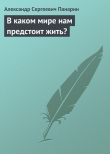Текст книги "Этика любви и метафизика своеволия: Проблемы нравственной философии."
Автор книги: Юрий Давыдов
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Глава вторая
БЫТИЕ ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ
Две формулировки вопроса о смысле жизни
Если человек не утратил еще веры в высокое предназначение человеческого рода, то проблему смысла жизни, навещающую его в трудные времена, он все-таки склонен формулировать позитивно, в форме вопроса: «Зачем я живу?» Ведь сама внутренняя структура этого способа вопрошания имеет целеустремленную, то есть, во всяком случае, не безвольно-пассивную позицию. Она предполагает цель как что-то находящееся за пределами «микромира» индивидуальной жизни человека, спрашивающего о ее смысле. Она изначально ориентирует его на поиск какой-то высшей цели – идеала, абсолюта, – найдя которую он смог бы ответить на волновавший его вопрос. Ибо человек – это целеполагающее и сознающее свои цели существо, и только в соотнесении с высшей, конечной целью, к которой сознательно устремлена его собственная жизнь, он может вразумительно ответить на вопрос о ее смысле. Наоборот, человек, в принципе неспособный поверить в возможность существования чего-то более высокого или просто – более важного, более существенного, чем его собственная, беззаветно любимая самим собою персона, а потому лишенный стремления к высшим целям человеческого существования и самодовольно убежденный в их полнейшей «ложности», «иллюзорности», «эпифеноменальности», чаще всего склонен ставить вопрос о смысле жизни совсем иначе. Он предпочитает спрашивать: «Почему я живу?», сразу же разводя на разные полюса «меня» («я») и «мою жизнь» и молчаливо предполагая, что эта последняя все-таки останется «моей» жизнью и сохранит все человеческие характеристики, даже будучи освобожденной от моего «я», а вместе с тем и от человеческого сознания вообще, – операция, с помощью которой я освобождаюсь и от всякой ответственности за свою собственную жизнь, поскольку она оказывается моей уже как бы только «номинально».
30
В самом деле, вопрос «почему я живу?», предложенный вместо вопроса «зачем я живу?» как его альтернатива, при более внимательном рассмотрении обнаруживает некий элемент двусмысленности: он обращен к «я», но касается того, что не находится во власти этого «я», будучи за пределами его досягаемости; по форме он относится ко мне, живущему, а по содержанию – к кому-то другому, кто увидит во мне нечто мне неподвластное и недостижимое, чтобы потом довести это до моего сознания.
В этом и заключается двусмысленность вопроса, заданного в форме «почему?». «Я», исключающее (по определению) всех «других», задает себе вопрос, на который не может ответить и на который должен ответить кто-то «другой», доведя затем ответ и до сведения вопрошающего «я». А потом оказывается, что вопрос этот вовсе не является моим. Он и не обо «мне самом», и не о том, что является «моим»; это вопрос о том, что во мне является «другим» и существует для «другого», с его точки зрения, с его познавательной позиции. Значит, он может быть либо результатом моей полной самоутраты, моего полного «отчуждения» от самого себя, либо простым следствием навязывания его мне кем-то «другим», имеющим свои, а не мои цели и задачи.
Но все-таки: что же такое наличествует в «моей жизни», что в самой внутренней структуре рассматриваемого нами вопроса предполагается, как мы убедились, существующим «вне» и независимо» от меня самого (от «я»)? Поскольку в содержании этого вопроса мы имеем дело лишь с двумя элементами – «я» и «живу» – и поскольку в самом «я», то есть в нашем сознании и самосознании это «что» не дано, во всяком случае, не присутствует как присущее самому этому «я», поскольку его, стало быть, следует искать в другом элементе – в том, что я «живу», в моей «жизни», являющейся как бы уже и не моей, поскольку из нее ведь «отмыслено» мое сознание, а разве жизнь без моего сознания это моя жизнь?
31
В рамках вопроса «почему?» проблема смысла жизни сразу же перемещается из плоскости человеческой свободы и ответственности в нечеловеческую плоскость: в сферу фатальной (ибо она не находится ни в каком отношении к человеческому в самом человеке) необходимости и соответственно абсолютной безответственности. От устремленного вперед и ввысь и потому одухотворяющего, духоподъемлющего вопроса о сознательно избираемых и сознательно утверждаемых целях человеческого существования индивида поворачивают вспять – к вопросу о том, что как бы толкает его «в спину»; о том, что не является в нем человеческим началом, но почему-то должно определять его именно как человека; о том, что он вообще не может признать за нечто высшее в себе, ибо оно действует как раз в обход всего того, что он мог бы признать в себе за достойное почтения и уважения.
Такова логика жизни и ее мировоззренческого осмысления.
Тот, кто не хотел свободно отдать себя во власть чего-то более высокого, чем он сам, взятый в его неизбежной конечности, односторонности и частичности, волей-неволей оказывается вынужденным покориться чему-то низшему, примитивному, существующему в нем, а потому принимаемому человеком за «свое исконное», но существующее так, что оно вообще не зависит от человека и не имеет никакой связи с его подлинно человеческими определениями.
Практически все это означало снятие (отнюдь не диалектическое) самого вопроса о смысле жизни. Жизнь, взятая безотносительно к индивиду и действительно человеческому в нем, требовалось принять и даже признать за нечто высшее на одном том лишь основании, что она – жизнь. И сделать это нужно было, невзирая на то, представляется ли она человеку хорошей или плохой, отвечающей его представлениям о подлинно человеческом или не отвечающей, желательной для него как самосознательного существа или нежелательной. Ибо постулировалось, что человек всегда «желает» жить, безразлично как, жить как можно дольше, – все равно, признается ли он себе в этом или нет. Желание жить сильнее человека, и сам он – простой исполнитель этого всемогущего желания, а то, с каким сознанием он это делает, в каких словах произносит его, не столь уж и существенно.
32
Обессмысливание жизни в философии Шопенгауэра
Когда устраняется проблема смысла жизни, неизбежно возникает другой вопрос – вопрос о смысле и значении смерти. Он и выступает на передний план, вне зависимости от того, хотели ли этого те, кто устранял проблему смысла жизни, или не хотели. Этот вопрос и был центральным в философии Шопенгауэра, после того как он доказал (разумеется, в рамках своего собственного философского построения), что жизнь индивида, да и жизнь всего человеческого рода, не имеет ровно никакого смысла, так как представляет собой лишь «явление» для нас в рамках неизбежно индивидуального сознания, темной и совершенно бессмысленной Воли, желающей только одного – желать, то есть желающей лишь самое себя. Ведь «явление» (то есть в конечном счете метафизическая иллюзия) абсолютно бессмысленной Воли – это, если можно так выразиться, бессмыслица, возведенная в квадрат.
Перед лицом подобной абсурдности, помноженной на саму себя, она-то и была одним из важнейших постулатов и в то же время выводов шопенгауэровской системы, вопросом могло стать лишь одно-единственное: как же все-таки освободиться от этой бессмыслицы, абсолютной в своей беспросветности? А поскольку эта последняя и есть «жизнь», в ее шопенгауэровском толковании, постольку вопрос должен быть уточнен следующим образом. Как избавиться от этой самой «жизни», учитывая, что за узкими и тесными стенами этой абсурдной темницы («индивидуальная жизнь», взятая во всей ее ограниченности «принципом индивидуализации») располагается совершенно необозримое пространство ничем не ограниченного абсурда (сама Воля – это бессмысленное желание жить и желать желания жизни). Как убежать из одной тюремной камеры, то есть покончить все счеты с индивидуальной жизнью – умереть для нее, но в то же время не попасть в неизмеримо более обширную темницу, погрузившись в бессмысленную пучину самой Воли, – как она существует не в «явлении», а в себе самой.
33
Иначе говоря, вопросом вопросов становится: как умереть по-настоящему, подлинно, воистину – и для своей собственной вдвойне бессмысленной жизни, и для универсальной Воли к жизни, непрестанно рождающей все новые и новые индивидуальные проявления этой Воли, одно бессмысленней и кошмарней другого? Словом, хотел ли того сам Шопенгауэр или не хотел, но фактическим, реальным и – главное – действенным результатом, увенчавшим его философскую систему, оказалась специфическая формулировка проблемы смерти. Им была сформулирована проблема «истинности» смерти, «подлинности» небытия, понятого как небытие вечно живущей Воли, – эта проблема сменила традиционный в западной культуре вопрос об истинной жизни, который был дискредитирован тем, что сама жизнь была объявлена предельным воплощением всякой неистинности. Так был открыт заново – для нового сознания, буржуазного сознания XIX, а в особенности XX веков – пустынный и чахлый «остров смерти». Он и впрямь оказался только островом в бушующем океане бессмертной Воли, вечно раздираемой на части неизбывным вожделением к себе самой. Это «открытие» оказало влияние на культуру капиталистического Запада – независимо от того, какое решение дал сам философ поставленной им проблеме в своем крайне монотонном и противоречивом теоретическом построении, изложенном, однако, ясным и прозрачным языком, не лишенным изящества.
Как и следовало тому быть, учитывая, что Шопенгауэр принадлежал к первому поколению «аутсайдеров» буржуазной цивилизации, его основной труд «Мир как воля и представление» не сразу встретил понимание и признание. Читатель шопенгауэровских книг появился лишь три десятилетия спустя после первой публикации этого произведения, однако же сразу обнаружил бурную тенденцию количественного роста. Вот какое впечатление произвела шопенгауэровская философия на одного из самых вдумчивых и образованных читателей – великого русского писателя Льва Николаевича Толстого, познакомившегося с произведениями Шопенгауэра как раз в наиболее кризисный период своей духовной эволюции, который сопровождался трагическим ощущением утраты смысла жизни.
«Не нынче – завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся – раньше, позднее, да и меня не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить – вот что удивительно! Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это – только обман, и глупый обман! Вот именно, что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто – жестоко и глупо» [1].
34
«Прежний обман радостей жизни, заглушавший ужас дракона (речь идет о «драконе смерти». – Ю. Д.), уже не обманывает меня. Сколько ни говори мне: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи, – я не могу делать этого, потому что слишком долго делал это прежде. Теперь я не могу не видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к смерти. Я вижу это одно, потому что это одно – истина. Остальное все – ложь» [2].
«Семья...» – говорил я себе; но семья – жена, дети; они тоже люди. Они находятся в тех же самых условиях, в каких и я: они или должны жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем же им жить? Зачем мне любить их, беречь, растить и блюсти их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия! Любя их, я не могу скрывать от них истины, – всякий шаг в познании ведет к этой истине. А истина – смерть» [3].
«Искусство, поэзия?..» – Долго под влиянием успеха похвалы людской я уверял себя, что это – дело, которое можно делать, несмотря на то, что придет смерть, которая уничтожит все – и меня, и мои дела, и память о них; но скоро я увидел, что и это – обман. Мне было ясно, что искусство есть украшение жизни, заманка к жизни. Но жизнь потеряла для меня свою заманчивость, как же я могу заманивать других?» [4]
Мы еще вернемся специально к вопросу о том, каким образом Лев Толстой преодолел этот свой кризис, подвергнув убедительной критике и решительно отвергнув, самые глубокие предпосылки шопенгауэровской философии – той самой, что была для русского писателя не только способом мировоззренческого осознания этого опаснейшего кризиса, но и своеобразной формой его усугубления, вирусом, обострявшим болезнь, загоняя ее все дальше в глубь организма – в глубь сознания, в глубь заболевшей души. Пока же толстовская «Исповедь» важна для нас как ярчайшее свидетельство того, как тот самый кризис, симптомом и ферментом которого была шопенгауэровская философская конструкция, должен был переживаться – и действительно переживался – людьми, чуткими к восприятию практически жизненных «кореллятов» абстрактных и отвлеченных философем.
35
Как видим, кошмарное ощущение того, что «я держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мучение» [5], не способствует ни укреплению нравственного самосознания человека, ни активизации культурно-творческой деятельности. Наоборот, змеиный взор этого многоголового чудовища обладает способностью парализовать нравственное сознание и творческую волю индивида.
Единственное, к чему остается способным человек, загипнотизированный неотступно преследующим его кошмарным видением смерти, – это способность к разоблачительству: выворачиванию наизнанку, ерническому сведению к низшему и примитивному, глумливому сбрасыванию с пьедестала всего, чему он когда-либо поклонялся, что он когда-либо принимал за нечто высшее. Речь идет о своеобразной «игре в ничто», заключающейся в сбрасывании в бездну Небытия всех истинно человеческих определений. Созерцая, как они исчезают там, индивид, загипнотизированный «драконом смерти», испытывает нечто вроде облегчения («Все там будем!..»), впрочем, облегчения временного и иллюзорного.
Любопытно, что этот вариант, который приняли как «модус» своего существования довольно многие из последователей Шопенгауэра на Западе, не представлялся Толстому заслуживающим сколько-нибудь серьезного внимания, когда он напряженно и мучительно размышлял о возможных путях «выхода» из своей кризисной духовной ситуации.
«Я нашел.., – вспоминает впоследствии писатель свои душевные метания кризисной поры, – что... есть четыре выхода из того ужасного положения, в котором мы все находимся.
Первый выход есть выход неведения. Он состоит в том, чтобы не знать, не понимать того, что жизнь есть зло и бессмыслица...
Второй выход – это выход эпикурейства. Он состоит в том, чтобы, зная безнадежность жизни, пользоваться покамест теми благами, какие есть...
Третий выход есть выход силы и энергии. Он состоит в том, чтобы, поняв, что жизнь есть зло и бессмыслица, уничтожить ее...
Четвертый выход есть выход слабости. Он состоит в том, чтобы, понимая зло и бессмысленность жизни, продолжать тянуть ее, зная вперед, что ничего из нее выйти не может» [6].
36
Первые сомнения Толстого
Лев Толстой искренне признается, что больше всего ему импонировал третий выход – «выход силы и энергии», то есть самоубийство, однако что-то мешало ему покончить с собой. Причем этим «что-то» не было, по мнению писателя, ни бессмысленное желание жить (как раз ощущение бессмысленности жизни, коль скоро оно было осознано, – оно-то соблазняло его к самоубийству), ни страх смерти: последний опять-таки скорее побуждал покончить счеты с жизнью, чтобы скорее прервать, прекратить ее – по принципу: «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Этим «что-то» было ощущение какой-то внутренней порочности, нравственной ущербности владевшего им умонастроения. «Теперь я вижу, – констатирует автор «Исповеди», – что если я не убил себя, то причиной тому было смутное сознание несправедливости моих мыслей. Как ни убедителен и несомненен казался мне ход моих мыслей и мыслей мудрых (Толстой обычно упоминает в аналогичной связи прежде всего Шопенгауэра, а затем Соломона, Будду и т. д. – Ю. Д.), приведших нас к признанию бессмыслицы жизни, во мне оставалось неясное сомнение в истинности исходной точки моего рассуждения» [7].
Само же это ощущение, в свою очередь, черпало свои силы – даже перед лицом «предельной ситуации» отчаяния, владевшего Толстым, – из не пересохшего еще живительного источника – непосредственного, не разъединенного скептической рефлексией, нравственного чувства народа – с его глубочайшей убежденностью в том, что «худо быть человеку едину», и, стало быть, решения, принимаемые человеком так, как если бы он был совсем один на свете, – это всегда неистинные, безнравственные решения. Именно та нравственно-духовная атмосфера России второй половины XIX века, которую вульгарная социология, замешенная на плоском «технологическом прогрессизме», так спешит списать за счет российской «культурной отсталости», как раз и оказалась причиной того, что Лев Толстой, заболевший модной в те годы на Западе «болезнью смерти», не погиб от нее, не сошел с ума и не утратил своих творческих сил. Хотя, как мы сможем убедиться далее, для многих, далеко не бесталанных представителей западной культуры «заболевание смертью» сопровождалось трагическим исходом: вспомним хотя бы Фридриха Ницше, у которого эта болезнь явно была и симптомом и ферментом тяжкого душевного недуга, закончившегося полным помрачением ума.
37
В Западной Европе, где с каждым годом углублялся бурный и всеохватывающий процесс формализации и рационализации, овеществления и отчуждения всех человеческих отношений к природе, людей друг к другу, наконец, каждого к себе самому, уже почти не осталось ничего, что могло бы удержать интеллектуала, «человека культуры», от погружения на самое дно кризиса: «заболевания» смертью, которая, превращаясь в навязчивую идею, выжигает в душе индивида все, что могло бы питать его веру в осмысленность жизни, да и его собственного существования. Неумолимый процесс взаимного обособления людей друг от друга – усугубляющейся «атомизации» общества, где явно господствовала тенденция превратить его в бессмысленный конгломерат абсолютно чуждых друг другу «эгоистов», – не только не давал заболевшему никакой опоры в борьбе против своего тяжкого недуга, но, наоборот, укреплял именно болезнетворные душевно-духовные импульсы: все то, что усиливало болезнь, превращая ее в хроническую или ведя к отмиранию всех человеческих свойств души.
Вот почему в такой атмосфере интеллектуал, заболевший «болезнью смерти», не находил в себе душевных сил, дающих возможность противостоять коварной логике этого недуга, навязывающей совершенно особое отношение ко всему окружающему, а главное – к самому этому недугу. Вот почему здесь заболевшему ничего не оставалось, как перебирать, примеривая их к самому себе, те самые варианты «выхода» из ситуации «бытия перед лицом смерти», которые автор «Исповеди» осознал в конце концов как ложные и заводящие в безысходный тупик.
Героизм отчаяния, абсурдное бытие и воинствующий гедонизм
Психопатология неоднократно наталкивалась на один и тот же весьма знаменательный факт. Пока у больного, страдающего каким-нибудь тяжким телесным недугом, еще есть надежда на излечение, его очень часто навещают тревоги по поводу возможной неизлечимости заболевания. Как только до его сознания каким-то образом доходит, что его болезнь действительно, в самом деле неизлечима и он уже явно обречен, больной вдруг
39
забывает о всех своих прежних страхах, обнаруживая даже склонность посмеиваться над ними. Он начинает воспринимать симптомы, неопровержимо свидетельствующие о том, что приближается летальный исход, как признаки начинающегося выздоровления. Нечто аналогичное можно наблюдать на примере философской авантюры одного из самых выдающихся учеников Шопенгауэра, далеко превзошедшего учителя остротой и яркостью своего дарования, – базельского мыслителя Ницше. Дело в том, что он воспринял как якорь спасения, как выход из кризиса, как способ излечения европейского человечества именно те моменты шопенгауэровской философии, которые сами являли собой наиболее очевидные признаки его начинающегося заболевания, были важнейшими составляющими болезненного синдрома западноевропейской культуры. Шопенгауэровская «метафизика ужаса» показалась автору «Рождения трагедии из духа музыки» тем великим открытием – обретением абсолютно достоверной истины, опираясь на которое можно будет наконец вернуть европейскую культуру к ее здоровым истокам.
Даже в самый поздний период своей идейной эволюции, когда он уже решил, что покончил с шопенгауэровской «романтикой» и «метафизикой», Ницше все еще формулирует свою основную проблематику в том виде, как она открылась ему под впечатлением книги «Мир как воля и представление».
«Необходимо ли, – спрашивает он в своем позднем предисловии к «Рождению трагедии» («Опыт самокритики», 1886), – пессимизм есть признак заката, поражения, неудачи, усталого и ослабленного инстинкта? – как это было у индусов, как это есть, по всей видимости, у нас, «современных» людей и европейцев? Существует ли пессимизм силы? Интеллектуальное предрасположение к жестокому, ужасному, злому, проблематичному в существовании, проистекающем из изобилия, бьющего ключом здоровья, из полноты наличного бытия? Исполненная искушений храбрость острейшего взгляда, который требует ужасающего, как врага, достойного врага, на котором он может испытать свою силу? на котором он хочет учиться тому, что такое «страх»?» [8]
40
«...Откуда должно было... возникнуть... требование безобразного, доброкачественная суровая воля древних эллинов к пессимизму, к трагическому мифу, к образам устрашающего, злого, загадочного, рокового в основе наличного бытия, – откуда должна была возникнуть трагедия? Быть может, из легкости, из рвущегося через край здоровья, из чрезвычайной полноты? И какое значение имеет тогда, выражаясь физиологически, то безумие, из которого выросло как трагическое, так и комическое искусство, дионисическое безумие? Как? Быть может, безумие не необходимо является симптомом вырождения, упадка, перезрелой культуры? Быть может, существуют... неврозы здоровья» [9].
Хорошо, точно, честно – не в пример будущим его эпигонам – формулировал свою проблему Ницше, которому до окончательного погружения в безумие оставалось всего три года. Или он со своими невротическими фобиями, со своими учащающимися приступами помрачения ума, перемежаемыми столь же болезненной эйфорией, со своей безысходной завороженностью всем ужасным, чудовищным, безобразным, о чем нашептывает ему разгоряченная фантазия, – это абсолютно нормальный человек, во всяком случае, более нормальный, чем те «многие, слишком многие», кому недоступны эти экстравагантные переживания. Или он и в самом деле безнадежно больной человек, принявший наиболее болезненные и болезнетворные из движений своей души и своего интеллекта за выражение «рвущегося через край здоровья». Чтобы почувствовать себя здоровым, безнадежно больному человеку нужно было переименовывать все имена, «переоценивать» все ценности, прибегая к этой процедуре вновь и вновь, продлевая ее до бесконечности, так как она оказывалась единственным способом, с помощью которого этот человек мог удержаться на гладкой поверхности бодрствующего («дневного») сознания, а стало быть – и воспроизвести свою человеческую жизнь.
Либо здоров он, Фридрих Ницше, и тогда вся европейская культура и цивилизация (начиная с кеварного Сократа, который, по его мнению, убил древнегреческую трагедию) находится в состоянии умопомрачения, болезненной деградации умственных и душевных сил. Либо безнадежно болен он сам, а не культурная традиция Европы, ведущая свое начало как раз от Сократа и Платона, ассимилированных вначале европейским средневековьем, а затем и Новым временем.
41
В предельной заостренности, крайней напряженности ницшеанской постановки вопроса, как она дана в позднем «Опыте самокритики», явственно ощущается близость последней фазы душевного заболевания базельского философа, – близость, ставящая разум больного мыслителя в «предельную», так сказать, ситуацию, на грань, за которой он кончается, уступая все свои права Небытию... разума. Отсюда – вся абсолюткость ницшеанского «или – или»: или я (абсолютно здоров), или мир. Однако та же роковая альтернатива чувствуется и в подтексте «Рождения трагедии» – книги, написанной за 15 лет до «Опыта самокритики», хотя здесь она формулируется, по крайней мере, в той же степени под влиянием философии Шопенгауэра, в какой и под воздействием личного душевного опыта, а потому ей недостает еще истинной чистоты и недвусмысленности.
Истинную тайну и исток, действительный «нерв» ницшеанского «Рождения трагедии» образует та же самая проблема, что в кризисную пору надолго выбила из привычной жизненной колеи Льва Толстого: как справиться с мыслью о смерти, коль скоро она превратилась в навязчивую идею, обессмыслившую все содержание человеческого существования, саму жизнь как таковую? Однако в отличие от российского писателя, считавшего одно время единственно последовательным выходом из этой ситуации – «выходом силы и энергии» – самоубийство, и в противоположность Шопенгауэру, убежденному, что одним самоубийством не спастись и что нужно «убить» саму бессмертную Волю к жизни, порождающую и саму жизнь, и страх смерти, молодой Ницше рассуждал иначе. Он уже тогда, в свои 27 лет, считал невозможным избавиться от навязчивой мысли о смерти, равно как и от поддерживающей в индивидах эту мысль Воли к жизни.
Поэтому ему ничего не оставалось, как предложить перспективу существования, одержимого Волей к жизни, но одержимого так, что последняя лишь усиливала страх перед смертью – по принципу: чем сильнее Воля к жизни, тем кошмарнее и ужаснее страх смерти. Речь шла о том, что жить в одно и то же время, как бы «не зная» о смерти, а потому и «не страшась» ее, и зная о ней, о ее беспощадности и неумолимости, а потому страшась ее так, как не страшится никто другой. Именно таким образом согласно Ницше относились к смерти древние греки, и для того, чтобы выдержать кошмар такого существования, не утратить вкус и Волю к жизни, они и создали свою трагедию: искусство, трансцендирующее страх смерти на путях полного погружения в него и исчерпания его «до дна».
42
У классической трагедии – трагедии Эсхила и Софокла – существовало, если верить молодому Ницше (позже он был не во всем с ними согласен), два орудия периодического «заклятия» смерти и возрождения грека, склонного от смирения возрождаться к новой активности, к новому служению Воле, – «дионисийское» и «аполлонийское» начала, характеризующие различные устремления искусства вообще, однако в трагедии существовавшие бок о бок. Первое из этих начал помогало «избыть» древнему греку страдания кошмарного бытия между безудержной Волей к жизни и неизбывным страхом смерти, принуждая его «бросить взгляд на ужасы индивидуального существования». Но не с его собственной, индивидуальной точки зрения, а с точки зрения самой «первосущей» Воли, в темном лоне которой объединяются возникновение и уничтожение, жизнь и смерть и где отсутствует различие между добром и злом, добродетелью и преступлением. Человек, отказавшийся от своей индивидуальности, а вместе с тем и от поверхностного «дневного» сознания и растворившийся в бесконечном и безмерном океане Единого, тоже испытывает страдания и муки, но это уже не муки партикулярного интеллекта с его мелочным разделением на жизнь и смерть, доброе и злое, а муки самой Воли, которая испытывает мучения не от недостатка, а от избытка – от рвущейся через край «плодовитости», которая никогда не достигает своей последней цели: полного самоосуществления, абсолютного тождества с собою.
Однако, пишет автор «Рождения трагедии», опасность этого способа «избывания» страха смерти и связанного с ним ощущения бессмысленности жизни, которое и в самом деле дает индивиду «метафизическое утешение», состоит в том, что он заключает в себе «летаргический элемент» [10], – ведь речь идет об отключении индивидуального сознания, о деперсонализации индивида. Когда человек пробуждается от своего «дионисического опьянения», – а в это состояние его погружает хор, коллективный аспект трагического действа, – он с еще большим отвращением воспринимает свою индивидуальную жизнь, исполненную всяческих лишений и страданий и обреченную на неизбежную смерть; иначе говоря, с ним происходит то, что обычно случается с человеком в состоянии похмелья, особенно если это похмелье после глубокого наркотического отключения индивида от его сознания: результатом подобных состояний оказывается «аскетическое, отрицающее волю настроение» [11].
43
Тут и вступает в свои права «аполлонийское» начало искусства, с помощью которого человек возрождается к активной жизни и служению Воле уже как индивид – конкретное воплощение «principii individuationis». Аполлон, являющийся в противоположность «хтоническому» Дионису носителем этого принципа, дает индивиду «истинное спасение и освобождение», но не как Дионис, открывающий ему путь к Единому – «к сокровеннейшему ядру вещей», а совсем иным способом: с помощью иллюзии создавая прекрасные образы неистинного, ложного, лживого.
«...Дионисический человек, – рассуждает Ницше, – представляет сходство с Гамлетом: и тому и другому довелось однажды кинуть верный взгляд на сущность вещей, они познали, – и им стало противно действовать; ибо их действие ничего не может изменить в вечной сущности вещей, им представляется смешным и позорным обращенное к ним предложение направить на путь истинный этот мир, «соскочивший с петель». Познание убивает действие, для действия необходимо покрывало иллюзии – вот наука Гамлета... Истинное познание, взор, проникающий в ужасающую истину, получает здесь перевес над каждым побуждающим к действию мотивом как у Гамлета, так и у дионисического человека. Здесь не поможет никакое утешение... В сознании раз явившейся взорам истины человек видит теперь ужас и нелепость бытия...» [12]
Чтобы тем не менее побудить такого человека к действию, нужна красивая ложь: аполлоновское искусство, «знающее» и «не знающее» о своей радикальной лживости, не желающее иметь дело ни с чем, кроме своих прекрасных образов спокойной гармонии и ничем не омрачаемой радости, – искусство, которому одинаково враждебны и истина и добро, ибо то и другое препятствуют его извечному стремлению к Гармонии и Красоте. Только это аполлоновское искусство, набрасывающее на ужасную истину бытия обольстительное «покрывало майи», может оправдать существование и мир в глазах человека: то и другое оправдывается лишь как «эстетический феномен» [13] – больше они не имеют никакого оправдания.