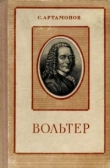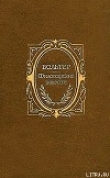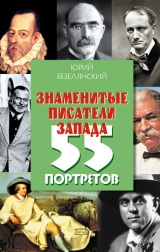
Текст книги "Знаменитые писатели Запада. 55 портретов"
Автор книги: Юрий Безелянский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
Кстати, о политике. В «Пармской обители» Стендаль образно сказал: «Политика в литературном произведении – это как выстрел из пистолета посреди концерта…»
Но Стендаль – это не только книги, а еще и дневник. Он без устали делал заметки, записывая всякое движение чувства, всякое событие. С одинаковой точностью он вел запись своим сокровенным душевным тайнам и франкам, потраченным на обед, на книги или стирку белья. Стендаль обладал некоей нервической графоманией: все записывать, все фиксировать, «остановить мгновение», хотя оно чаще не прекрасное, а, наоборот, безобразное. И эта «писанина» отражена в его литературном наследстве – в беллетристике, в письмах, в собранных даже анекдотах, где главный герой – сам Стендаль. Вот почему он мало заботился о стиле, цельности, рельефности – все, что он торопливо набрасывал на бумаге, это как бы не литературный текст, а всего лишь письмо к приятелю. И Стефан Цвейг делает вывод о Стендале, что он не живописец слова, а всего лишь фотограф-моменталист. Поэтому у Стендаля и отношения к собственным книгам как в забавным пустячкам. Никакого величия, никакой напыщенности.
Другое дело – женщины. Это куда серьезнее. Тем более что природа обделила Стендаля мужской красотой. Физиономия – круглая, красная, мещански дородная. Насмешка судьбы: нежная душа мотылька заключена в изобилии плоти и жира. У Стендаля были и соответствующие прозвища: китаец, обойщик, дипломат с физиономией аптекаря… Но в этом гигантском теле, как замечает Цвейг, дрожит и трепещет клубок чувствительных до болезненности нервов. И как с такой внешностью добиваться успеха у женщин? Он мечтал быть Казановой, а у женских ног превращался в робкого гимназиста. Он рано потерял свои волосы и был вынужден постоянно прикрывать свою лысину. Выбранный им лиловый парик был не самым лучшим его украшением. А еще большой нос, толстые щеки и короткие ноги. Впоследствии появился и живот.
Первый же опыт с женщиной закончился конфузом. А всего у Стендаля было всего 6 или 7 побед, в том числе неоднократно бравшиеся уже другими крепостями или добровольно капитулирующие добродетели. Многие из женщин, которых любил Стендаль, были для него недостижимы, включая и самую первую из них. Он признавался: «Я всегда хотел покрыть поцелуями свою мать и хотел, чтобы при этом на ней не было никакой одежды… Я всегда хотел покрыть поцелуями ее грудь». Она умерла, когда Стендалю было 7 лет.
Первая покорившаяся ему женщина – это было в Милане, в 1800 году, – наградила его сифилисом. Там же в Милане через год Стендаль пылал страстью к полногрудой Анжеле Пьертрагруа, но не мог признаться ей в любви, которую она щедро раздавала другим мужчинам. Спустя 10 лет Стендаль снова встретился с Анжелой и, наконец, признался, что был в нее влюблен. «Господи, – удивилась она, – почему же вы тогда молчали? Но, честно говоря, и сейчас не поздно», – сказала дама и увлекла Стендаля на кровать. В ознаменование любовной победы Стендаль попросил вышить на своих помочах эту знаменательную для него дату: 21 сентября 1814 года, в половине двенадцатого утра…
Были и другие женщины в жизни Стендаля: Адель Ребюффель, Меланж Гилберт, Александра Дарю, танцовщица Луазон, аристократка Джулия Роньери, которая бросила Стендалю уничтожающую фразу: «Вы старый и некрасивый…» Была еще Матильда Дембовски, вдохновившая писателя на создание книги «О любви» (любопытно, что за 10 лет после ее публикации удалось продать всего лишь 17 экземпляров).
Мысль о своей донжуанской несостоятельности постоянно угнетала Стендаля. Оставалось только теоретизировать и в своем трактате писатель классифицировал, что есть 4 вида любви: любовь-страсть, любовь-влечение, физическая любовь и любовь-тщеславие. А еще он ввел понятие «кристаллизация чувств», когда мужчина украшает женщину достоинствами, которыми она не обладает.
В своем творчестве Стендаль взял блистательный реванш за жизнь, за свои любовные неудачи. Матильда его обманула, зато Люсьен Левен женится на мадам Шатель. Анжела ему изменяла, зато герцогиня Санаверина сходит с ума по Фабрицио. В романах Стендаля происходит великий праздник сбора винограда любви – компенсация за кислый виноград личных любовных неудач писателя.
Но будущим донжуанам Стендаль оставил два великолепных завета: «Гибкость ума может заменить красоту». И второй: «Сумейте занять женщину, и она будет вашей».
Если внимательно посмотреть на всю жизнь Стендаля, то ее он построил как сознательную оппозицию своей эпохе. Будучи писателем, он игнорирует устоявшиеся литературные формы; будучи солдатом, глумится над войной. Как политик иронически относится к истории, как француз откровенно издевается над французами. Короче, Стендаль не хотел быть «бараном из стада».
Цвейг пишет о Стендале: «Он счастлив, что не подходит ни к каким классам, расам, сословиям, отечествам… лучше стоять в стороне одному, только бы остаться свободным. И Стендаль гениально умел оставаться свободным, освобождаться от всякого принуждения и влияния. Если из нужды ему приводится принять какую-нибудь должность, надеть форму, то он отдает только минимум, необходимый для того, чтобы удержаться у общественного корыта, и ни на грош больше, а всякой должности, во всяком деле, чем бы он ни занимался, умеет он, действуя ловкостью и притворством, остаться совершенно свободным и независимым».
Все это похоже на некое швейкианство, но без глупой улыбки Йозефа Швейка. У Стендаля лишь презрительная улыбка в душе.
Стендаль говорил: «Моею истинною страстью было познавать и испытывать. Эта страсть никогда не получала полного удовлетворения». И еще он говорил: «Я не порицаю, не одобряю, а только наблюдаю…» И определение: «Я наблюдатель человеческого сердца». Он же и аналитик, который в своих книгах переводит «язык страстей» на «язык математики». Соединение ума и сердца – вот что такое Стендаль.
Цвейг определил Стендаля как «нового Коперника в астрономии сердца». По существу, Стендаль разъял отдельного человека, расщепил его на кусочки и увидел в нем множество тончайших оттенков. Ну, а в себе обнаружил тартюфское ханжество. Помните, как маркиз де ла Моль в «Красном и черном» пришел в бешенство, когда узнал о романе Жюльена с Матильдой:
«Ответ подвернулся из роли Тартюфа.
– Я не ангел…»
Ни Жюльен, ни Стендаль, конечно, не ангелы, они – люди со своими пороками и заблуждениями. И что делать? Андре Моруа перефразировал обращение Стендаля к читателю о том, что не надо проводить свою жизнь «в страхе и ненависти», в иное: «Друг читатель, проводи свою жизнь в любви и в высоких устремлениях».
Ну, а теперь о значении Стендаля. В 1994 году в Москве проходил коллоквиум «Стендаль и Россия». Первыми почитателями французского писателя были люди, близкие к декабристам, и в частности князь Петр Вяземский. Одним из самым прилежных читателей Стендаля являлся Лев Толстой, на которого большое впечатление произвела батальная сцена из «Пармской обители». Привлекала Толстого и стендалевская тема человеческого счастья. Психологические открытия Стендаля повлияли и на творчество Достоевского. «Уроки» Стендаля оказали влияние на Максима Горького, Эренбурга, Фадеева и многих других советских писателей.
Французский исследователь Жорж Нива отмечает и такую странную на первый взгляд связку: Стендаль и Набоков. Нива обращает внимание на похожесть двух писателей – «абсолютным неверием, поисками счастья, страхом перед пошлостью, изгнаннической судьбой, творящей из неудобства какой-то устав веселья. „Приглашение на казнь“ Набокова – пародия на всю литературу о тюрьме… пародия на Стендаля – и в ироничности слога…»
«На всем пути от Жюльена к Цинциннату, – добавляет Жорж Нива, – русская литература старалась приспособить к себе, принять и понять Стендаля, но почти ничего не выходило. Несомненно, в ней слишком сильна неспособность к легкому, веселому неверию. Лишь постороннему ей писателю, изгнаннику Набокову, удалось хоть как-то ввести Стендаля в свой странный аллегорический мир».
Конечно, кинематограф не мог пройти мимо Стендаля. В 1947 году французский режиссер Кристиан-Жак поставил «Пармскую обитель», где Фабрицио дель Донго играл блистательный Жерар Филип, красавец и аристократ с безупречными манерами (мечта Стендаля), а в роли Джины снялась Мария Казарес. Спустя 7 лет, в 1954 года, Жерар Филип снялся в роли Жюльена Сореля в «Красном и черном» (режиссер Клод Стан-Лара). Высокий, сухопарый, с матовым цветом лица, Жерар Филип олицетворял собою силу и веру и мгновенно стал благодаря стендалевским персонажам национальным героем, символом обожания и гордости. А Фанфан-Тюльпан добавил Жерару Филипу всемирной славы. В «Красном и черном» его партнершами были Даниэль Дарье (г-жа де Реналь) и Антонелла Луальди (Матильда).
В 1976 году Сергей Герасимов тоже очаровался стендалевским романом и создал свой вариант «Красного и черного». В облике Жюльена Сореля предстал Николай Еременко, аббата Шелана сыграл Вацлав Дворжецкий, ну, а дамами предстали Наталья Бондарчук (г-жа де Реналь) и Наталья Белохвостикова (Матильда де ла Моль). Конечно, они были не француженками, им явно не хватало женственности и шарма, но тем не менее они были представителями слабого пола, суть которых так хорошо понимал Стендаль.
«Мадемуазель де Соммери, будучи поймана своим любовником на месте преступления, храбро это отрицала, а когда тот стал горячиться, заявила: „Ах, я прекрасно вижу, что вы меня разлюбили; вы больше верите тому, что вы видите, чем тому, что я говорю“».
Узнаете женскую логику? А еще, конечно, пленительная вещь – красота. Но, как справедливо замечал Стендаль, «чрезвычайно красивые женщины вызывают не такое уж изумление при второй встрече».
Стендаль был знатоком красоты, но отчетливо понимал: «красота есть лишь обещание счастья».
Добавим от себя: счастье – не что иное, как химера, но как упоительно гоняться за счастьем. И это, пожалуй, главный урок всей жизни Анри Бейля, известного нам под именем Стендаля.
Сплошной боваризм

Среди писателей первой величины, безусловно, следует назвать Флобера. Он один из первых, кто был ярым сторонником теории «искусства для искусства». Окружающий его мир буржуа, чиновников и лавочников был ему ненавистен. Ни в какие социальные преобразования он не верил. К революциям и бунту относился отрицательно. Считал, что надо отрешиться от всякой житейской суеты и от стремления ко всевозможным радостям бытия. Убежище и спасение – только искусство, именно Флобер сказал, что необходимо подняться «на самый верх» и замкнуться в «башне из слоновой кости».
Уже после смерти Флобера Валерий Брюсов в 1896 году сформулировал три завета «Юному поэту» – помните: «юноша бледный со взором горящим…»:
Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, бесцельно.
Флобер принес в жертву литературе время, покой, имущество… Писатели флоберовского типа всегда стремились освободиться от каких бы то ни было гражданских обязанностей: уклонялись от военной службы, сторонились общественной жизни, не принимали никаких должностей, а на пороге зрелости оказывались перед дилеммой: семейный очаг или безбрачие…
Краткая биографияБиографию можно излагать по-разному: сухо, академично, минуя все возможные подробности – только даты и факты; а можно и цветисто, эмоционально, с собственным мнением и субъективными оценками. Как это написал, к примеру, Петр Вайль в книге «Гений места» (1999), назвав Флобера «склонным к аскезе мономаном».
Но первая фраза должна быть у всех пишущих биографов одинакова: Гюстав Флобер родился 12 декабря 1821 года в Руане. Ну, а дальше – вариации. И что у Вайля?
«Сын и брат врачей, проведший детство при больнице, Флобер и писателем был каким-то медицински стопроцентным. Примечательно, что от карьеры юриста, навязанной семьей, ему удалось избавиться не путем убеждения – кто б ему поверил? – а убедительным для отца физиологическим способом. Что-то вроде эпилептического припадка свалило его в возрасте двадцати трех лет. Оправившись, Флобер возобновил занятия юриспруденцией, и припадок тут же повторился. Приходил в себя он долго: „Сегодня утром я брился правой рукой, – это письмо брату. – Но задницу подтираю все еще левой“, приступы случались еще и еще, и отец принял решение: сын бросил учебу и в итоге зажил тихой жизнью в Круассе на содержании семьи. Так исполнилось его намерение, четко осознанное еще в детстве, – десятилетний Флобер писал другу: „Я тебе говорил, что буду сочинять пьесы, так нет же, я буду писать романы…“
Так начался писательский период в жизни Гюстава Флобера, длившийся тридцать шесть лет, – до смерти, чисто писательский, сугубо писательский, исключительно писательский („Я – человек-перо“) – возможность никогда не отвлекаться ни на что другое (музыку и живопись он лишь полушутя называл „низшими искусствами“), не заботиться о публикациях и гонорарах, с прославленной медлительностью составлять и переставлять слова. Письма Флобера пестрят свидетельствами этого мазохистского наслаждения: две фразы за пять дней, пять страниц за две недели…»
Тут требуется остановка для личного негодования. И восклицания: если бы я так кропотливо складывал буквы и фразы, то я бы умер с голоду в первый же месяц. Но за Флобером была семья, рента, доходы поместья. Флобер не бился за гонорары и не вел изнурительные тяжбы с издательствами. Он занимался только искусством.
И еще один штрих из жизни Флобера: обильная еда. «У меня несварение от излишка буржуа. Три ужина и обед! И сорок восемь часов в Руане. Это тяжело, – признавался Флобер. – Я до сих пор отрыгиваю на улицы своего родного города и блюю на белые галстуки».
Флобера раздражало не только обжорство своих соотечественников, но и многое другое. «Я прошел пешком через весь город и встретил по дороге трех или четырех руанцев. От их пошлости, их сюртуков, их шляп, от того, что они говорили, у меня к горлу подступала тошнота…»
Флобера раздражал родной город и в мечтах он уносился в далекое прошлое – в эпоху Перикла, Нерона, Ронсара, куда-то в Китай, Индию, Судан, в прерии и пампасы. Однако в реальной жизни Флобер совершил лишь два продолжительных путешествия: одно – по Бретани, другое – на Восток. Побывал в Греции, Сирии, Палестине, на развалинах Карфагена. Восток произвел на него сильное впечатление. Сфинкс, стороживший египетские пирамиды, потряс писателя настолько, что ему стало дурно.
Флобер жил в основном в Круассе, а в Париже бывал наездами. «Я, как говорится, медведь, – писал в одном письме. – Живу монахом; иногда (даже в Париже) по неделям не выхожу из дому… Я посещаю ограниченный круг людей». В этот круг входили братья Эдмон и Жюль Гонкуры, Эмиль Золя, Альфонс Додэ, Иван Тургенев. С ними Флобер встречался на «обедах у Маньи», а затем на «обедах пяти». Дружеские чувства Флобер питал к Жорж Санд, Леконт де Лилю, Шарлю Бодлеру, Эрнесто Фейдо («ты – очаровательнейший из смертных») и к своему «ученику» Мопассану.
Запись из дневника Эдмона Гонкура: «Вторник 14 апреля 1874 года. – Обедал в кафе „Риш“ с Флобером, Тургеневым, Золя, Альфонсом Доде. Обед уважающих друг друга талантливых людей; в следующие зимы мы хотим устраивать такие обеды ежемесячно. Начинаем с обширных рассуждений о способностях к литературе людей, склонных к запорам и поносам, а потом переходим к механизму французского языка…»
7 января 1876 года: «Веселый прелестный обед у Доде вокруг миски с рыбной похлебкой, приправленной чесноком, и корсиканского жаркого из дроздов. Все чувствуют себя в тесном кругу симпатичных людей, среди уважающих друг друга талантов, и едят с большим аппетитом. Удовлетворение Флобера прорывается в резкости слов, от которых милая г-жа Доде вздрагивает и вся словно сжимается…»
Да, выезды в Париж были для Флобера иногда приятны, но туда он приезжал не часто. Своей многолетней «подруге» Луизе Коле Флобер писал: «Ты спрашиваешь, где я буду жить? Понятия не имею. Я на этот счет очень требователен. Все зависит от случая, от помещения. Но ниже улицы Риволи и выше бульвара я жить не буду. Я придаю большое значение солнцу, красоте улицы и ширине лестницы…»
Капризный? Привередливый? Жан-Поль Сартр в своей книге «Идиот в семье. Гюстав Флобер от 1821 до 1857» высказывается покруче. По его мнению, писатель-человек – это причудливое существо, состоящее из истерии, неврозов, извращений и отшельничества. Злой завистник, ненавидящий отца, мать, брата и все человечество, Флобер, как пишет Сартр, «претерпел свою тоталитарную интенцию дисквалифицировать то, что есть, во имя того, чего нет». Говоря иначе: происходящее в душе ему нравилось больше происходящего на улице. К людям же Флобер относился с таким скептицизмом, что еще в 9-летнем возрасте писал приятелю: «А еще тут есть одна дама, которая приходит к папе и всегда рассказывает нам какие-то глупости, я буду их записывать». Выходит, что мадам Бовари он видел в раннем детстве?..
В своей книге Сартр безжалостен к Флоберу. От «Идиота в семье» несет ужасом. Но за всеми психоаналитическими экзерсисами по поводу характера и поведения Флобера скрывается сам Сартр (разоблачая другого, он разоблачает самого себя) и его знаменитая формула «Ад – это другие». Кстати, одно из юношеских произведений Флобера называется «Мечты в аду» (1837).
Коли затронули творчество, то отметим, что первые произведения, вышедшие из-под пера Флобера («Пляски мертвецов», «Записки безумца» и другие), наполнены мрачностью. Главный роман Флобера «Госпожа Бовари. Провинциальные нравы» («Madame Bovary. province») вышел в 1857 году, когда писателю шел 36-й год. В 1858 году роман был переведен на русский язык как «госпожа», позднее как «мадам». Роман «Саламбо» появился в 1862 году. Посвящен борьбе Древнего Рима с Карфагеном. Далее – «Воспитание чувств» (1869), в котором юный Фредерик Моро пытается приобщиться, встроиться, интегрироваться в буржуазные нормы бытия, драма «Искушение Святого Антония» (1874), «Иродиада» (1877) про Иудею I века до нашей эры. И, наконец, неоконченный роман «Бувар и Пекюше».
Работая над последним романом, Флобер вернулся к своей юношеской работе – сатирическому «Лексикону прописных истин». Когда-то этот «Лексикон» читался интересно, сегодня уже не очень, разве что про блондинок и брюнеток?
БЛОНДИНКА – Более пылки, чем брюнетки.
БРЮНЕТКИ – более пылки, чем блондинки.
А еще «АКТРИСЫ» – пагуба наших сыновей… «БАЯДЕРКИ» – все восточные женщины… «ОДАЛИСКИ» – смотри «Баядерка» и т. д.
Про «Газеты» – нельзя без них обойтись, но надо их ругать. «Литература» – занятие праздных. «Проза» – легче сочиняется, чем стихи, и, пожалуй, последнее – «Эгоизм» – жаловаться на чужой и не замечать своего.
Чтобы многое понять в творчестве и личности писателя, весьма полезно посетить его дом, побывать в его «рабочей мастерской». Именно этим были движимы братья Гонкуры, когда в октябре I863 года отправились в Круассе к Флоберу, в его строгий провинциальный дом.
«Вот мы в рабочем кабинете Флобера, свидетеле столько великих, упорных и неустанных трудов, кабинете, откуда вышли „Госпожа Бовари“ и „Саламбо“… дубовые книжные полки с витыми колоннами, соединяющиеся с другими полками, идущими вдоль всех стен комнаты. Стены обшиты белыми деревянными панелями, а на камине отцовские часы из желтого мрамора, с бронзовым бюстом Гиппократа. Возле камина – бездарная акварель, портрет томной и болезненной англичанки, с которой Флобер в молодости был знаком в Париже… На дверях и окнах – драпировка из шелковой материи старинного вида… В углу – тахта, покрытая турецкой тканью, со множеством подушек. Посреди комнаты – рабочий стол Флобера, большой круглый стол с зеленым сукном и чернильницей в виде жабы. Там и здесь, на камине, на столе, на книжных полках, на консолях и просто на стенах, – всевозможные восточные безделушки: египетские амулеты, музыкальные инструменты, медные блюда, ожерелья из стеклянных бус… аляповатый Восток, и сквозь артистическую натуру хозяина проглядывает черты варварства».
Другая запись, от 1 ноября 1863 года: «Он никогда не выходит из дома, он живет своими рукописями, своим рабочим кабинетом. У него нет лошади, нет лодки… Весь день громовым голосом, с выкриками, как у актера бульварного театра, он читал нам свой первый роман, написанный в 1842 году… Сюжет: молодой человек теряет невинность с „идеальной куртизанкой“. В этом юноше есть много от Флобера, от его приступов отчаяния, от его неосуществленных стремлений, от его меланхолии, мизантропии, от его ненависти к массам…»
Спустя 9 лет – 21 июня 1872 года – уже один Эдмон Гонкур записывает о разговоре в кафе с Флобером: «И здесь, за рюмкой ликера, он продолжает: „Нет, теперь я не в состоянии переносить никаких неприятностей… Нотариусы из Руана считают меня не совсем нормальным… Знаете, по поводу раздела имущества я заявил им: пусть они берут что хотят, но только ни о чем не говорят со мной; пусть лучше меня обворуют, чем будут приставать ко мне, и так во всем, то же самое и с издателями… Заниматься чем-нибудь я теперь совершенно не могу, у меня такая лень, что для нее просто нет названия; единственно, что я могу еще делать, это работать“.
Потом он провожает меня на вокзал и, прислонившись к перилам, где стоит очередь за билетами, говорит о своей глубокой скуке, о разочаровании во всем, о желании умереть, и умереть без переселения души, без загробной жизни, без воскресения, навсегда избавиться от своего „я“.
Слушая его, – пишет далее Гонкур, – мне кажется, что я слушаю свои ежедневные мысли. О! Какое физическое расстройство влечет за собой умственная жизнь, даже у самых сильных, у самых крепких. Положительно, все мы больны, почти безумны и готовы окончательно сойти с ума». (Эдмон и Жюль де Гонкур. «Дневники»).
Сильный удар по психике Флобера пришелся от судебного разбирательства, связанного с публикацией «Госпожи Бовари». Флобер суд выиграл, но, несмотря на победу, был окончательно подавлен. «Я так разбит физически и морально после всего этого, что не в состоянии держать в руке перо…»
Последние годы жизни Флобера были безрадостными и даже мрачными. Он пережил тяжелое финансовые невзгоды, банкротство, в которое увлек его муж одной из племянниц. Тщетно пытался знаменитый писатель получить по конкурсу место библиотекаря в Париже. Хотя какая работа! Он был болен. Припадки падучей участились, он не мог работать, незадолго до смерти Флобер писал г-же Роже де Жанетт 25 января 1880 года:
«…Два с половиной месяца я провел в абсолютном одиночестве; …и в общем очень хорошо, несмотря на то, что навиделся ни с кем; мне не приходилось выслушивать глупостей! Нетерпимость к людской глупости превратилась у меня в болезнь; и это еще слабо сказано.
Почти все смертные обладают даром раздражать меня, и я могу свободно дышать лишь в пустыне…»
Гюстав Флобер умер 8 мая 1880 года в Круассе. Скончался внезапно за письменным столом, выронив перо из рук, упал, как говорили его друзья, – «убитый своей великой, единственной страстью – любовью к искусству». Ему шел 59-й год.
Как писал наш Гавриил Державин:
Приходит смерть к нему, как тать,
И жизнь внезапу похищает.
«Внезапу» – так нынче не говорят. Но как правильно!.. И еще приведем строки Державина из стихотворения «На смерть К. Мещерского»:
Смерть, трепет естества и страх!
Мы – гордость, с бедностью совместна;
Сегодня бог, а завтра прах;
Сегодня льстит надежда лестна,
А завтра: где ты, человек?..
Но такие люди, как Флобер, не исчезают. Остаются книги. Они дают возможность погрузиться во внутренний мир писателя.