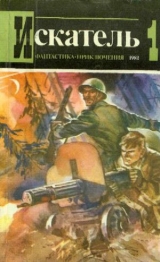
Текст книги "Искатель. 1983. Выпуск №1"
Автор книги: Юрий Медведев
Соавторы: Энтони Джилберт,Александр Буртынский
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
Еще на первом курсе, когда Антон был групкомсоргом, Борис взял повадку взбадривать его в институтском сквере перед собраниями на предмет единой твердой линии без всякого слюнтяйства и шатаний («За тобой это водится, Тоничка, мамкин сынок!»), хотя никаких таких шатающихся в группе не было, ребята как ребята, а мамкиным сынком скорее был сам Борька, в котором мать, заводская вахтерша, женщина жесткая, крутая, души не чаяла. Но Антон лишь помалкивал, испытывая неловкость от этих приватных совещаний.
У Клавки вообще не было ни отца, ни матери. Врачей-добровольцев, их скосила эпидемия в Средней Азии. Никого, кроме дядьки, институтского профессора-экономиста, вечно занятого, редко бывавшего дома, да еще семьи Антона, с которой жили с детства под одной крышей, на разных половинах дома со смежной незапиравшейся дверью. Дичком росла Клавка. Гордячка, умница, певунья, добрая душа. Просто она вертела как хотела, он только посмеивался. Просто жалел ее, так, по крайней мере, ему казалось, с чисто братской ревностью считая, что этот сухарь Борька ей не пара. Но девчонку в присутствии Бориса – это бывало в их дворовой беседке, где они в зачетную страду корпели над конспектами по селекции, – точно подменяли.
Нет, все-таки не мог ее понять. Ни тогда, ни в тот злосчастный день в мае – господи, всего-то минуло четыре месяца, будто вечность прошла, – когда рухнул их треугольник после заварившейся в институте истории, с ее дядькой, больно срикошетившей по Клавке…
…То ли устал от нахлынувших мыслей, то ли опять вернулась обморочная боль в голове. Обессилев, уснул… Очнувшись, увидел слепящий солнцем квадрат окна. День был в разгаре, и сулил он им все того же говорливого тюремщика.
Старик, как обычно, просунулся боком, хотя дверь была достаточно широка, неся в руках по котелку и ломтю хлеба поверх душисто дымящейся гороховой похлебки. На ногах у него были короткие, раструбом яловые сапоги. Должно быть, с подковками, как вчера на допросе. И эти сапоги, и обманчиво мирный запах еды означали, что муки не кончены, все еще впереди. Дверь все еще была приоткрытой… Дикая мысль – кинуться, задушить и с пистолетом рвануть отсюда в поселок, а там к лесу куда-нибудь, хоть к черту на рога. Он дернулся, боль пронизала спину, вывихнутое плечо.
Стоявший перед ним горбун прищурился, под нависшими бровями с любопытством синели два озерца. На корявом пальце висел котелок.
– Никак, оживел…
«Вот же сволочь…» Все они тут в сапогах, с подковками, все враги, душители. Антон стиснул зубы, зажмурился, предчувствуя боль, и, изловчась, ударил ногой. Старик качнулся, едва не уронив котелок, отставил его и вдруг навалился на Антона.
– Уйди, гад, в душу мать!.. Задушу!
Но старик был тяжел, словно тисками держал Антона за плечи, пока не обмяк.
– Ну, ну, – тяжело обронил старик, отступив, и в колючих зрачках его по-прежнему светилось не то любопытство, не то участие.
– Чего уставился, гнида? – Сердце Антона все еще ходило ходуном. – Кино тебе тут?
– Смотри-ка, – покачал головой горбун, – с виду вроде, бы слабак…
– Уйди!
– А что? Русскому человеку таким и быть, иначе ему крышка. Так-то, друг.
– У тебя свои дружки.
– Свои… Знаешь, как в старой сказочке: друг семь рук и все за свою душу держатся.
– Это у вас так.
Старик промолчал, и Антон только сейчас заметил, что в комнате они одни.
– Где он? – Антон настороженно кивнул на койку Бориса, и сам удивился, что не назвал его по имени.
– В баньку повели.
– В к-какую баньку?
– Обнаковенную. – Рот горбуна чуть дернулся в нервной усмешке. Или Антону показалось. – Да ты не волнуйся, вернется. Ты лежачий – тебя потом.
– С чего бы такая забота? – Ощущение нарочитости в поведении старика не покидало его.
– Немецкий порядок. В спецлагерь вшивых не берут, и вас как раз туда, к землячкам, там над вами ишшо поработают. Как сказать, не журись, кума, шо хлеба нема, пирожки сляпаем. – Старик беззвучно прыснул и тут же отвердел лицом. – Нравишься ты мне почему-то; не знаю. Держи. – Он нагнулся к сапогу, воровато подал Антону финку. – Бери, бери, пригодится, запрячь.
Ничего не понимая, он машинально взял нож – резкое движение вызвало боль в плече – и тотчас сунул его за пазуху, превозмогая слабость, с мокрым, внезапно вспотевшим лицом. Горбун замер, глаза его по-птичьи прикрылись веками.
– Теперь слушай, малый, внимательно: повезут в лагерь человек пять, на «оппеле» с фургоном, один охранник с вами в кузове… Так завсегда бывает. Минут через десять по горке въедете в лес, фрица кокнете, но в лес не бегите, он тут реденький, так, роща… – Он говорил, все еще не поднимая век и негромко посмеиваясь, похоже, разыгрывал комедию для часового за дверьми.
Антон слушал ошеломленный, машинально впитывая каждое слово.
– Сработайте тихо. Чем дольше шофер не хватится, тем лучше. Значит, спрыгнете в кювет и обратно задами на станцию, там товарняк на запасных путях, в полночь отойдет, схоронитесь в пульмане, до Нежска километров двести, если затемно прибудете, ваше счастье, там до фронта недалеко.
«Нежск», – глухо забухало сердце. Казалось, родной город находится где-то на другой планете.
– Выходит, держится фронт?!
– Оттого и под Смоленском передых, что тут держится. Спужались, как бы им отсюда под зад не дали. Плохой симптом, как говорит мой шеф… Много стало симптомов, мать вашу…
Положительно, нельзя было понять, что за человек этот горбун.
– Слушай, ты как оборотень. Ты свой или чужой?
– Ничейный я. – Желтые зубы его жестко блеснули. – Не дай тебе бог ничейным стать. И прикуси язык, разговорился! – Вздохнул, словно собираясь уходить, и примиряюще пожал Антону кисть.
Антон не знал, что и подумать. Невольно вырвалось:
– Спасибо, отец.
Старик, поморщась, отвернулся, кашлянул и вновь посмотрел на него.
– В сорок лет дитев нет и не будет. Самому бы матку повидать, да, видно, не посветит… к тому идет…
– Слушай, а если и ты с нами, а? Слышь, с нами, за такое дело много скостится.
– Кто вброд идет, камень на шею не вешает. Я вам не подмога…
– Но почему?
– Потому. Много на мне всего, припозднился.
Дверь отворилась, втолкнули Бориса, и он поплелся в угол, тяжело волоча ноги. Голова у него была мокрой, макушка торчала ежиком, когда он улегся ничком на свой сенник. Теперь скорее бы ушел горбун. Борька и не знает, какой у них шанс. Почти счастье.
– Ну пока-покедова, парень. А насчет сказочки попомни.
Он вышел. Антон еще немного переждал для верности и позвал Бориса – тихонько, точно их могли услышать. Тот, не подымая головы, повернул ее, глядя из-за локтя. И Антон все тем же срывающимся шепотом выпалил новость. Ему казалось, Борис подпрыгнет от радости, но тот продолжал смотреть на него одним здоровым глазом, другой заплыл, точно ничего особенного не произошло, и он в первое мгновение удивился его выдержке, этому умению все про себя прикинуть и решить, и только внезапная мысль, что Борис попросту сломлен происходящим, скис настолько, что не в состоянии оценить реальность, вывела его из себя:
– Тебе что, заложило?
Но Борис, словно до него лишь сейчас дошло, подхватился с матраца.
– Гляди. – Антон достал нож и едва успел сунуть его обратно под пояс, к животу, как вошел тощий немец в белом, со шприцем, по-видимому, санитар. Быстро заголил ему бедро, Антон даже вспотел, испугавшись, как бы не обнаружили нож.
– Ну, яволь, яволь, зачем так пугаться? – сказал санитар. – Еще один укол вечер, жаркий банья, и вы в прекрасном состоянии, во всяком случае, можете ходить, как это… бегать. Да, бегать вам придется. Много бегать и прыгать, да.
Он так же торопливо вышел. Антон почувствовал растекавшуюся по телу слабость и, все еще глядя в пустой, точно стеклянный глаз подсевшего к нему Бориса, прошептал сонными губами:
– А старик ничего, молодец…
– Не люблю дурачков.
– Это я?..
– И притом наивных.
– Какой ему смысл?.
– Шлепнут при попытке к бегству. Проще всего, чтобы тут не мараться.
– Та-ак…
Об этом он не подумал. Лицо Борьки приблизилось.
– Давай нож, Тоня, раз так – придется мне, я покрепче.
– Нет уж, я сам.
– Ты что…
Он так пронзительно, с таким отчаянным упорством смотрел на Антона, что здоровый глаз его словно заплыл слезой.
– Не обижайся, Борь…
Он и сам не мог бы объяснить своего упрямства. Слишком дорого ему стоил этот перелом в Борисе, очухается, тогда другое дело, а сейчас он должен надеяться только на себя.
– Ага, – кивнул Борис, – ладно. Все в порядке.
* * *
Их вывели под вечер. Возле поста у ворот горел фонарь. Антон увидел блеклое, в проступивших звездах небо, залезавших в кабину немцев. Со связанными за спиной руками его втолкнули в кузов вслед за Борисом, там лежали вповалку еще двое или трое. Раненые? Он весь подобрался: их-то зачем в спецлагерь? Значит, прав Борис? Провокация, чтобы всех кокнуть по дороге при попытке к бегству. Но с ним и Борисом могли разделаться и здесь, зачем тратить бензин… Или такие вещи делаются по твердой инструкции? И тогда ясен горбун с его ножом. А если все-таки хотел помочь, ведь в любом случае оружие нелишне. Теперь все зависело от их ловкости и удачи. Плечо почти не болело, он разминал его, напрягая мускулы, не сводя глаз с охранника, тот, казалось, дремал, сгорбясь в углу у зарешеченного окошка, темнела его голова в солдатском картузе с высокой тульей. Непохоже, чтобы он ждал нападения или притворялся. Значит, где-то в леске их просто кокнут и за борт.
У ворот на мостках кузов подбросило, из угла донесся сдержанный стон. Охранник что-то проворчал, ругнулся – не по-немецки, может быть, это был итальянец или румын.
…Машину трясло на булыжной мостовой, и плечо Бориса, упиравшееся ему в скулу, дрожало мелкой дрожью.
Антон, изловчась, сдавил его зубами, успокаивая товарища и вместе с тем подавая сигнал. Сам он был почти спокоен, терять нечего – один конец. Мысль работала четко. Только не нервничать, в их распоряжении минут десять, не меньше. Он снова толкнул Бориса, не спуская глаз с угла, где был охранник, и согнул колено, чувствуя, что нож скользит по сапогу наружу, и боясь, как бы он не выскользнул раньше времени. Но Борис на этот раз действовал точно, чуть отвернувшись и засунув связанную руку в голенище. Нет, не стукнуло, поймал.
Они сидели спиной друг к другу, и каждое движение ножа по бечевке отдавалось во всем теле Антона тупым, знобящим шуршанием. Антон помогал ножу движением рук, боясь резать запястье. Вот ослаб узел, и он приник спиной к кабине, тайком разминая занемевшие пальцы.
Снова застонали в углу, и опять ругнулся охранник. Нет, не время. Нужно наверняка. Он нащупал руки Бориса и стал резать с нажимом, каждое мгновение ожидая беды.
Темнело, видно, тот самый лес обступил дорогу. Аи да горбун! Антон резко оттолкнул Бориса и сразу кинулся на часового, держа нож обеими руками. Тот охнул и стал валиться на бок. Он вырвал у него из кобуры пистолет, Борька уже был рядом, нашаривал засов.
– Браток, – хрипло донеслось из угла, – помогай, браток.
Он обернулся. Борис схватил его за плечо, прохрипел:
– Куда? Кто они? Ты знаешь? Прыгаем… – Дверца распахнулась. Но Антон, повинуясь уже одному инстинкту, на ощупь резанул по путам на чьих-то протянутых руках.
– Бежать сможете? Держи нож!
– Ага… Попробуем.
Спина Бориса мелькнула в квадрате дверей. Сжимая пистолет, он прыгнул следом, кубарем скатившись в кювет, и побежал меж сосен за мелькавшей впереди тенью.
Издали, донеслась автоматная очередь. Уже переползая по холмистому полю в тянувшийся вдоль речки кустарник, Антон успел разглядеть на дороге медленно катившийся задом «оппель», язычок огня, хлеставший из кабины по ковылявшим к опушке двум беглецам в красноармейской форме. И уже ничего не ощущал, кроме веток ивняка, хлеставших по лицу, где-то рядом по-осиному пропели пущенные наобум пули. Глотая воздух клокочущим у горла сердцем, все бежал, чуть срезая к городку.
Хотел крикнуть и Борису: «Бери правей», но тот, видно, и сам уже сообразил – свернул в сторону. Еще минут через пять, мокрые от пота, тяжело дыша, оба остановились возле узкой грунтовки, отделявшей кукурузное поле от крайних хат. Там, вдалеке, за смутно белевшим в сумерках поселком, маячили огни станции, ясно просверкивал желтый глаз семафора.
Эту грунтовку можно было одолеть в два прыжка, но Антоном по-прежнему владел обостренный инстинкт, не позволявший сделать ложного шага. Из лесу речушка утекала вправо, углубляясь в поле, образуя ручей, ивняк обозначал его круговой путь к железной дороге. Лучше сделать крюк, на всякий случай надо было сбить со следа погоню. Хотя, если верить горбуну, искать их будут в лесу, если будут искать вообще.
– Давай за мной…
Он сбежал к пойме и пошел пригибаясь, пройдя с километр, нырнул в кукурузу и, подождав Бориса, пополз, стараясь не терять из виду отблескивающую в полутьме колею. Ползли долго, пока снова не открылся сбоку светофор. От него надо было идти вправо к запасным путям. Оттуда доносились короткие гудки «кукушки», лязг буферов, изредка приглушенные расстоянием голоса. Напряжение схлынуло. Антон почувствовал, что у него дрожат руки. Всем своим существом вдруг запоздало ощутил хруст чужих ребер под ножом, и его стошнило.
Он еще полежал ничком, вытирая лицо сухой жесткой травой, сказал, переводя дыхание:
– Пока что горбун не подвел. А может, сесть на любой попавшийся?
– Нет! – тотчас возразил Борис. – Не подвел же… Впрочем, возможно, ты и прав… И все-таки на любой опасно.
Казалось, к нему вернулась привычная рассудительность.
Слева послышались приглушенные женские голоса, удалявшиеся к станции. Может быть, чья-то жена или мать несли кормильцу еду на дежурство. В узелках, как носили до войны. И было странно, что люди работают, ходят поезда. В этом было нечто неестественное. Шаги протопали совсем близко, мелькнули белые косынки.
– Давай к тропе, погляди, где свернут, только поточней.
И лишь когда Борис уже скользнул влево, исчез, понял, что фактически приказал ему, и Борька повиновался без звука. Это пришло как бы само собой. Они поменялись ролями, и с этой минуты так будет и впредь – ему решать. Он почти физически ощутил ответственность, что давящей тяжестью легла на его плечи.
Звезды заволакивало тучами, нежданно закапал дождик. Борис вскоре вернулся, прошептал сухим горлом:
– Там овражек, видно, тропа выходит прямо к запасным путям. Пошли?
– Подождем немного. До полной темноты.
Горбун сказал: поезд пойдет в полночь. Но мало ли что могло измениться в расписании, хотя никакого расписания, наверное, кет. И вообще… Он опять с какой-то необъяснимой колющей тревогой ощутил неправдоподобность всей этой истории с побегом и с горечью подумал: придется кому-то объяснять – не поверят. Он бы и сам не поверил.
– Пора, – сказал он. – Пойдем пригнувшись. И осторожней, не оставляй следов.
Еще полчаса они медленно пробирались полем и по овражку, потом вышли где-то посредине между светофором и станцией. Антон ощутил близость путей, запахло, смолой, мазутом. Миновали товарный двор, подползли к пролому в заборе…
Напротив, за бритвенным отблеском рельсов в тусклом свете фонарей открылся разбомбленный вокзал, остатки стен, наскоро сколоченное из досок станционное здание; повсюду воронки, горы искореженного железа, разбитых цистерн – черная от пожаров земля. «Наша работа», – подумал он со сдержанной радостью, оглядывая разрушенную станцию. Совсем близко мелькала темная фигура сцепщика, сновала «кукушка», толкая вагоны на запасной путь. Еще два состава без паровозов, почти сплошь из открытых платформ, стояли чуть подальше… Не соврал горбун. И только снова почему-то усомнился Антон, стоит ли им следовать совету старика. Все то же беспокойство бередило душу.
Чуть слышно журчало справа, он обернулся и разглядел подтекавший патрубок с краником, наверное, отсюда стрелочники брали воду для своих надобностей.
– Вода, – прошептал он, – пей.
Борис отозвался не сразу.
– Оглох ты, что ли? Или уснул? – И первым прильнул к трубе, затем уступил место Борису, слышал, как он жадно, с клекотом подхватывает тонкую струйку.
К дальнему эшелону, пуская пары, подошел паровоз. Посередке состава среди платформ три вагона с пустыми проемами дверей, словно капканы. Еще минуту, две, три – не уйдет ли с ним последний шанс? Даже поджилки онемели. Попробовать? И куда он пойдет, еще неизвестно. Что-то удерживало на месте, прижимало к земле.
– Может, этот первым тронется? – Голос Бориса чуть позванивал от волнения. – А то еще сцапают.
– Там отпустили, чтоб тут сцапать? – Казалось, он хотел убедить самого себя.
– Но ты же сам говорил…
– Заткнись.
– Чего бесишься? – В голосе Бориса клокотнула обида.
Какое-то время, повернувшись лицом друг к другу, смотрели в упор. Бориса вдруг прорвало, зашептал горячо, распаляясь:
– Ты что, вправду ему поверил? Ну-ну. Враг его в поезд посадит, еще курочку на прощанье сунет и помашет ручкой. Так? Квашня чертова!
Столько было ненависти и какой-то растерянной муки в его словах…
– Поменьше суетись. – Последнее было сказано скорее самому себе. И странно – привело в чувство. В тот же момент у паровоза появилось двое – словно тени, возникшие из-под земли, один, с автоматом, остался на месте, другой, в кожаном полупальто, с пистолетом на поясе, пошел гуляющей походкой, как бы мимоходом заглядывая на платформы, свет фонарика пошаривал в распахе вагонных дверей. Обычная проверка? Или кого-то искали? Все равно пронесло. Антон вытер ладонью взмокший лоб.
Ближний их состав между тем наращивался – вагоны низались один к другому – и уже закрыл собой паровоз и немцев. Сцепщики мирно перебрасывались словами… Если провокация и они чудом спаслись, горбун вряд ли накличет на себя беду, доложит, что всех кончили при попытке… Он себе не враг. И значит, сюда вряд ли придут. А придут, шиш найдут… Упускать случай, конечно, нельзя, оставаться до утра тоже. Но лучше подальше к семафору, сесть на ходу, пока эшелон набирает скорость, а там видно будет.
Он крепко сжал плечо Бориса.
– Слушай внимательно и не паникуй. – Коротко объяснил задуманное, сказал как о решенном: – Ясно? Все… Тронулись, Боря…
* * *
Даже не верилось, что все обошлось и они в вагоне, в темном закуте за штабелями пустых мешков. Только Антон, прыгая, сбил себе коленку. Мешки были связаны в аккуратные мягкие пачки. Куда их столько? Под зерно, что ли?
– На рассвете, если не задержимся, будем дома, – сказал Борис.
Это прозвучало так неожиданно, что Антон не сразу сообразил, что значит «дома». Хотя он жил в его подсознании с той минуты, когда горбун произнес это слово – Нежск… А что толку, город теперь чужой, и лучше бы его миновать – меньше риска. Вот оно как, собственная колыбель стала опасной. Война… По сводкам еще там, на авиабазе, он знал, что немцы, взяв город, продвинулись километров на пятьдесят и застряли. Что-то похожее говорил и горбун. Переменный успех, «котлы», прорывы…
– Ты извини, если что не так, – сказал Антон, – нервы.
– Еще бы. У меня их нет?
– Ладно, помолчим. Уснуть бы…
Мысли крутились в мозгу тяжкие, как жернова.
Ничего не было ясно. Где им лучше спрыгнуть и укрыться? Может быть, ночью, не доезжая Нежска? Он почти безотчетно старался придумать свой вариант, только бы не следовать совету горбуна. Теперь, на расстоянии, когда, казалось бы, они наконец-то вырвались, он не верил ему ни на грош… Или все-таки на своей станции? Все-таки своя…
Он представил себе маленькую в липовой гуще станцию в четырех километрах от райцентра, куда он, бывало, ездил встречать отца из командировки по звонку дежурного райотдела НКВД зимой на санях, крытых бычьей полстью, летом на бричке.
Отец прибывал, как правило, с киевским на рассвете, и Тонька, сонно колыхаясь в бричке, мечтал о том, как кинется к отцу и получит подарок: железный автомобиль или коньки. Это в детстве, потом, на первом курсе, тоже встречал, но уже без подарков. А потом у отца пошли неприятности.
В последний раз, кажется в мае, он был неподалеку от станции, в домишке Клавкиного деда, бывшего лесничего, куда она затащила их с Борисом, и они там варили кулеш, ожидая с охоты на глухарей ее дядьку-профессора, дядю Шуру.
* * *
С этого дядьки все и началось. Вернее, с его семинара для зоотехников, где он выступил против директивщины и показухи, выудив из районной практики случаи, когда животноводы в словесном раже брали явно нереальные планы мясопоставки, словно позабыв, что коровы дважды в год не телятся, и потом, дабы не осрамиться с поставкой, порезали молочный скот. Зоотехники восприняли доклад как должное, зато на кафедре его встретили в штыки, затеяли шумиху, обвинив профессора в очернительстве, отрыве от действительности и прочих смертных грехах. Заодно припомнили дяде Шуре бывшее офицерство. Это уже было серьезно. Он полез на рожон, посыпались анонимки со всеми вытекающими последствиями.
В тот вечер сосед прошел к отцу в кабинет, и оттуда вскоре донеслась перебранка – бубнящий голос дяди Шуры, сорванный возмущенной скороговоркой отца:
– Ты такой же офицер, как я шах турецкий! Поручик военного времени из мужиков. Деникина с тобой били? Партизанили?.. Ликбезом командовал? С кулачьем воевал? Это правда, в которую ты верил. Вот так же надо было, если прав, уверен в пользе дела, и тут свою позицию защищать. Свои не поняли – в райком, в редакцию! А не становиться в позу оскорбленного… Да, да, и не закатывай глазки! А то сел бы сам на землю! Сам! В село! И показал, как надо хозяйствовать! – Отец почти кричал, словно убеждая самого себя. И Антон мысленно представлял огромного, наголо бритого дядю Шуру с поникшей головой и поджарого, как мальчишка, отца с его петушиным задором. – Что бы там ни было, надо верить, и тогда поверят тебе. И помогут. Только так, всем коллективом, иначе нам не выжить…
Профессор все-таки вклинился:
– Из вашей конторы повестка пришла. Вот тебе и коллектив.
– Да, коллектив. А вы там групповщину развели, борцы за собственное счастье. Ты с дружками и твои противники – два сапога пара. Они за кресла дерутся, а ты им козырь дал, и пошла грызня. Если б еще за принцип, а то ведь от желания самоутвердиться и от страха потерять… Вот ведь что противно. Дали вам жару, вы и забились в подпол, ах, ах, какая несправедливость! О демократии завздыхали. Сочувствия вам, мягкой перчаткой по головке. А фашизм вот кулак сжимает. Железный. А ваше где единство? Тьфу, выручать вас тошно. Тоже старый боец…
– Пойду я. У вас там, видно, сплошная справедливость.
– Но на что-то и партбилет в кармане! А ты думал, жизнь из детских кубиков строится?.. Ладно, я постараюсь, попрошу разобраться.
Сосед ушел. С порога продымленного кабинета отец смотрел на Антона, сидевшего в трусах на кровати.
– В чем дело? Спать пора!
– В том, что ученый имеет право на свое мнение. Как, впрочем, и каждый человек. – И добавил, глядя в упор на отца: – Говорю, что думаю, сам учил.
– Не суйся не в свое дело!
Никогда отец не повышал на него голоса, они были друзьями, а тут на тебе, как с дороги столкнул, словно хотел от чего-то уберечь.
Утром за завтраком было необычно тихо, мать первая нарушила молчание:
– Если с Шурой что случится, я Клавку в обиду не дам.
– Похоже, ты хочешь облегчить мне жизнь. Шура честный человек, хотя и путаник. Но дело не в нем…
– Учти, твои отношения с новым начальством.
– Я не флюгер, чтобы все учитывать!
Мать как подстреленная уткнулась лицом в стол. Оттолкнув тарелку, отец ушел не прощаясь. Такого еще не бывало.
Антон молчал, растерянный, осмысливая случившееся, никак не мог взять в толк, отчего сыр-бор и почему на факультете заваривают кашу из-за чепухи, как будто нет более важных проблем. Пошла цепная реакция – и на групповом собрании, где требовалось обсудить и осудить злополучный доклад, все взоры обратились к бедной Клавке, от которой, видимо, ждали первого решительного слова отмежевки, да так и не. дождались – послала всех подальше. И кто-то уже бросил реплику: «Яблочко от яблони», когда Антон вдруг поднялся и, постепенно ощущая вокруг себя сторожкую пустоту, сказал, что думает об этом фарсе, в который все играют с серьезным видом, вместо того, чтобы заняться делом, хотя бы той же оборонной работой, где обещанные военруком винтовки, где парашюты? Развели бодягу с мясом, которое давно съели.
Сзади рассмеялись, и тогда вскочил Борис, как по тревоге пожарник, на виду у которого загорелся дом и от него одного зависит помешать несчастью. Что он тогда говорил, и не вспомнишь – что-то об утере бдительности и ложных родственных Чувствах Клавдии Мальченко, так и назвал ее – по фамилии.
Сейчас, на расстоянии, казалось, исчисляемом веками, он вспоминал то предвоенное утро, до неузнаваемости изменившегося Бориса, и как он вещал, отчужденно вскинув подбородок и глядя куда-то в сторону и вверх, словно уходил от Клавки в какое-то иное измерение, где не было места простым житейским чувствам, а жил и властвовал некий железный в своей неизменности принцип, малейшее сомнение в котором было уже святотатством.
Последним залпом вырвалось его предложение – поставить вопрос о Клавкином пребывании в комсомоле. Если, конечно, она не осознает, не пересмотрит…
– Не спишь? – спросил Борис.
– Сплю.
– А я нет. Все думаю…
– О чем?
– Так… обо всем… Не ценили мы простого счастья… Может, потому что много его было, волной шло. И прошло.
«Это он о Клавке, что ли?»
Антон подумал о ней, будто прикоснулся к чему-то горячему и острому. Он всегда скрывал свои чувства к ней, боясь спугнуть и вовсе потерять. Разве не так, чего себя обманывать? Ни в чем не таился, а это скрывал. Пронзительную свою мальчишескую нежность с тех давних пор, когда еще таскал у матери для Клавкиной куклы лоскуты и завтраки делил на двоих. Даже на троих. Кукла тоже шла в счет: знал, Клавка потом доедала за куклу. И ладно, что ни о чем не догадывалась, оставалась дружба.
«Было и прошло».
Неужто за три месяца войны не получил от нее ни одного письма? От кого же тогда треугольнички там, на базе? От матери? Антон ни разу не спросил – не решался. Только знал – не прошло Борисово счастье, потому что не прошло у Клавки.
Тогда После собрания он догнал-таки Клавку, и они присели на скамеечке у калитки, хотя оба прекрасно знали, что Борис вот-вот пройдет мимо.
– Что за человек! – вздохнула Клавка. – Робот!
– Работать ему приходится, – уклончиво заметил Антон, не желая пользоваться моментом и поддакивать Клавке. – Мать на фабрике, он и стряпает и стирает, ты же бывала у него…
– Ах, ну как же, мамочка!
Она умолкла, завидев Бориса.
Он уже прошел было мимо и вдруг остановился, словно повинуясь взгляду Антона, пытавшемуся понять, кто же все-таки Борька – тупица или хитрец, что кроется за этим упрямым лбом.
– Хотел бы я знать, – сказал Антон, – что Все это значит и насколько ты честен перед самим собой?
Клавка поднялась и пошла от калитки во двор, Антон искоса посмотрел на ее мелькавшие меж кустов смородины легкие загорелые ноги, юбку-клеш, стянутую на гибкой талии:
– Что! касается твоего спича на собрании, – обронил Борис, стоя вполоборота, – будем считать, что его не было.
– Вот как… – Антон с трудом улыбнулся, – А как же твои принципы? Значит, есть исключения? Почему же нет их для Клавки? Ну конечно, тебе надо, чтобы она признала чужую ошибку, которой и не было. Тебя хлебом не корми, дай признать ошибки. А если человек признается от страха, а не потому, что так думает, тогда что? Тебе не кажется, что тем самым ты унижаешь достоинство в человеке!
– Да черт тебя дери, ангелочек божий! Неужели так ничего и не понял?! – Вот когда он вспыхнул, Боря, был так искренен в своем возмущении, что Антон вначале даже опешил, такими острыми, как осколки, были летящие в него слова о том, что все должны быть железными в такое время.
Антон все порывался вставить слово, сбитый с толку схожестью этого выпада с тем, что выговаривал соседу отец, а по сути, если вдуматься, совсем иного, ставящего истину, с ног на голову. Ведь не мог же отец, всю жизнь дравшийся за правду, которой только и жива Советская власть (его слова!), вдруг предпочесть келейную осторожность, как это следовало из таинственной Борькиной премудрости. Или отец тоже недоумок?
– Вперед смотреть, – качал свое Борька, – а не ворошить грязное белье да выворачивать наизнанку врагу на радость… Понял?
– Да пропади ты пропадом со своей дурацкой логикой, – прошептал Антон в тихом бешенстве.
…Он почти со злорадством смотрел в выпученные на мгновение серые глаза. Казалось, Борису не хватало слов.
– Вот как ты заговорил, – сказал он неожиданно спокойно. И это спокойствие не сулило ничего доброго, но Антону уже было наплевать. – Соображаешь, что говоришь? Хотя чего тебе бояться…
Это он намекал на чекиста-отца.
Антон с удивлением смотрел на Бориса, пытаясь осмыслить эту последнюю фразу, так она его поразила. Но в это время в калитке появилась Клавка и сказала, что мать зовет обедать.
– Проводи меня, – сказал вдруг Борис, – надо поговорить…
И Клавка пошла… Вот так…
Антон торчал в беседке, подперев щеки ладонями, ждал. Мать звала ужинать, не пошел. Задул ветер с дождем, он все еще маялся, курил и думал о Клавке, до ломоты в висках пытаясь собрать воедино рассыпавшиеся слова, злые, беспомощные, с которыми обрушится на эту безвольную куклу, разумеется, по-дружески, но без всякого снисхождения. И вдруг растерял их мгновенно, увидев ее перед собой, кокетливо вильнувшую в. дверях беседки своей цыганской юбкой, ее улыбку, застывшую на оливково-смуглом лице.
– Ну и до чего вы там договорились? – спросил равнодушно.
– Ни до чего. Повернулась и, ушла.
Он поднял голову и увидел ее глаза, нестерпимо лучистые от наплывших слез.
– Вот так, – рассмеялась она, привычно коснувшись пальцами висков, – голова разболелась.
Может быть, и к лучшему сойтись ей с Борисом, раз уж на то пошло. Что ей с дядькой-бирюком? Дома не бывает, – то в институте, то у деда-лесника глухарей бьет… А Клавке семья нужна. Так, наверно, и будет. А слезы ее как роса, до первого солнышка… Все в нем противилось этой мысли, а что поделаешь? Девку, что кошку, говаривала мать, за хвост не удержишь.
– Любовь… – покачал он головой. – И что это за штука, никто не знает.
– Ну ты-то, наверное, знаешь, – и снова потерла виски, – ты у нас теоретик.
– Я-то знаю, – сказал он сквозь зубы, боясь, что вот-вот и сам разревется, так жалко было и ее и себя… – Я знаю, – повторил он сквозь дерущий горло комок. – Это когда двое как одно целое. Когда готов отдать все и рад… Все! Кроме собственного достоинства. Иначе перекос, обрушится домик.
– Так оно и бывает, – снова хохотнула она, откинув со лба челку. – Гибнем под обломками. А потом опять воскресаем.








