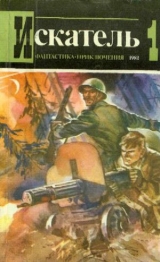
Текст книги "Искатель. 1983. Выпуск №1"
Автор книги: Юрий Медведев
Соавторы: Энтони Джилберт,Александр Буртынский
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)

Искатель № 1 1983

СОДЕРЖАНИЕ
Ал. БУРТЫНСКИЙ – Огненный рубеж
Юрий МЕДВЕДЕВ – Чаша терпения
Энтони ДЖИЛБЕРТ – Алиби
№ 133
ОСНОВАН В 1961 ГОДУ
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
Ал. Буртынский
Огненный рубеж
Повесть

Это был его третий боевой вылет. Антон все еще не мог привыкнуть к тесноте стрелкового «фонаря», летящего под облаками. Внизу невидимо проплывала земля, занятая теперь врагом, словно вымершая – без огонька, с затаившейся по выжженным селам жизнью, со своей бедой, надеждой, перепутанными судьбами, горем плена и яростными, насмерть схватками прорывавшихся к фронту окруженцев. Слева по курсу в черной полынье купалась луна, то исчезая, то вновь появляясь. Луна им была ни к чему. В наушниках щелкнуло.
– Ваня, до цели двадцать километров, – сообщил штурман пилоту.
Интересно, что чувствует Борис там, под брюхом Ила, в нижнем «фонаре» стрелка. Они редко делились впечатлениями, каждый держал свое при себе. Вообще мало разговаривали после того памятного собрания в канун войны. Вначале были как чужие, потом их, студентов-первокурсников, свел военкомат – всех вместе, но только они двое попали в воздушные стрелки. Судьба… И никогда не забыть первого острого ощущения высоты, той жуткой радости неба, свободы, способной, как он понял по се – бе, взять человека целиком, навсегда; и первый вылет на бомбежку, рассветное небо, мрет в дыму, и встреча на земле, когда он, еще весь дрожа от пережитого, пожал на радостях Борьке руку и тот ответил ему со слабой усмешкой; и слова командира – капитана Ивана Иваныча – с веселым подмигом: «Молодцы, ребята, с вашими данными долго тут не задержитесь. Пошлем учиться на летчиков».
Вот он, в двух метрах за бронеспинкой, Иван Иваныч, человек, от которого зависела их жизнь и удача. – По карте ровно пять, – снова донесся голос штурмана. – Нет ошибки?
– Не должно…
И тотчас глаза застлало туманом; самолет пошел с набором высоты, казалось, «фонарь» облепило ватой. На вираже Антона прижало к стенке. Повторялся привычный маневр: капитан заходил на цель с тыла, чтобы потом, случись беда, напрямую тянуть к линии фронта. В этом был свой резон, если бы не триста километров, отделявших от этой линии.
«А ведь я хитрю, – сказал он себе, – бог знает о чем думаю».
Он и впрямь старался чем-то заполнить эти вечно длящиеся последние секунды до цели, как правило, охраняемой воздушным патрулем. Так было и в прежние вылеты, когда в ожидании врага немели пальцы на скобах. В прошлый раз капитан обманул «фоккеров», уйдя в облака и трижды меняя курс. Если вынырнет тупорылый, успеть бы заметить. Он ждал его как избавленья, ждал дела.
– Выходим на боевой курс, – возвестил штурман.
Облака внезапно размыло, все так же слева заслепила луна, и самолет без снижения пошел к невидимой цели… Вот-вот она возникнет в окуляре сперва неясным намеком, потом огоньками станционных стрелок, семафоров, клубом паровозного пара. Только бы поймать ее точно. Антону словно передалось напряжение штурмана, даже пальцы поджались в сапогах…
Вот когда он его увидел, серебристо блеснувший нос «мессершмитта», на лунной дорожке, казалось, даже различил темные очки летчика за стеклом кабины…
– Капитан! Немец сбоку, с хвоста! – И до боли в пальцах сжал рукоятки. Стрелять бесполезно, «мессер» нырнул в мертвую зону, а их самолет лег на боевой курс и, стало быть, уже не мог сманеврировать, не рискуя промахнуться по цели. Но он все-таки сообщил о нем командиру. Огонь зениток мгновенно стих, и одновременно он, увидел огненную трассу. Пол качнулся под ним – что-то там случилось у летчика. – Вань, левей на градус!
– Стараюсь, – незнакомо, с хрипом ответил капитан.
– Зацепило?
– Рука. И в ногу…
– Меня тоже, – прозвучало в ответ. – Доверни… Еще немного, еще… чуток.!
Вот оно; обожгла мысль, влипли. Странно, в эту минуту он не подумал о неизбежном, о том, что их ждет, словно капитан и в самом деле был всемогущ, и только билось в висках это Штурманское «еще… еще чуток», и он мысленно, помогая командиру, что было мочи тянул с натугой рычаг, жал помертвевшей ногой на педаль, потому что от этого зависело все.
– Так, хорошо… Бросаю!.. – И совсем тихо, с бессильным горловым клекотом: – Ваня, ребята… Все…
Самолет тряхнуло – бомбы полетели на цель.
– Как вы там, Иван Иваныч? – спросил Антон…
– Плоховато, ребятки. Совсем. Штурман?!
В наушниках тишина.
– Штурман!
Молчание.
Только сейчас Антон заметил дымный шлейф позади самолета, в то же мгновение чуть выше, но все ещё недосягаемый, опять мелькнул «мессер». Он летел почти в хвосте. Антон закричал капитану, словно тот и впрямь мог оттянуть на себя штурвал. И случилось чудо: самолет с надрывом пошел вверх, на долю секунды подставив немца под прицел. Антон вжал гашетки, вложив в них всю рвущуюся наружу ненависть, и вдруг понял, всем своим существом ощутил – попал, врезал ему в мотор. Сверкнуло – и самолет исчез.
– Молодцом, – тихо прошуршало в наушниках, и Антона отчего-то вдруг стали душить слезы.
– Иван Иваныч…
Огонь уже облизывал кабину, едко запахло гарью. И опять сбоку на пересекающемся мелькнул «мессер» – другой? Машина мчалась вниз крутым скольжением. То ли капитан из последних сил пытался сбить пламя, то ли уже не владел штурвалом. И снова Антон, выгадав момент, нажал на гашетку и, уже не отрываясь, давил до конца. Потом его оглушило неожиданно громкое:
– Приготовиться к прыжку…
Хотел спросить: «А вы, Иван Иваныч?», но что-то больно ударило в висок, на миг ослеп, уже словно издалека опять услышал: «Прощайте, ребята!», на ощупь рванул защелки, горячей головой ткнулся в колпак. Еще хватило сил перевалиться за борт под тугую свистящую струю.
Земля понеслась откуда-то сбоку, из черной бездны в рыжих всплесках пожаров, он мертво усмехнулся, рванул за кольцо и, уже теряя сознание, отрешенно подумал: «Вот и все. Конец…»
* * *
Телегу трясло на ухабах, качало в мягкой пыли. Потом под колесами загромыхала булыжная мостовая, и каждый толчок отдавался в виске тупой скачущей болью. Время от времени Антон открывал глаза, видел проплывающие как в тумане плетни, белые хатки с обгорелыми стрехами и совсем близко – потные., усталые лица красноармейцев, головы в грязных бинтах. Блеск шишковатых касок, короткие стволы автоматов, рявкающие окрики… И четкий, хмурый профиль Бориса с квадратным подбородком – все как во сне. Люди пешком, а они с Борькой на телеге. Почему?..
Запекло грудь, с трудом пошарил рукой – он был в одной исподней рубахе…
– Шнелль! Не оставать!
Телегу тряхнуло, он обмирающе вздрогнул от пронизавшей вое его существо мысли: «Плен». И снова полетел в черное небытие с единственным жгучим желанием: уйти из этого страшного мира. Раствориться. Исчезнуть.
Он уходил мучительно долго, то проваливаясь в воздушные ямы, то выбираясь «а поверхность, с подступавшей к горлу тошнотой и тягостным шумом в ушах, сквозь который – много ли прошло времени, он так и не понял – стали проступать чьи-то слова, хрипловатый смешок. В один из таких просветов он разглядел белый потолок, Бориса, который сидел в дальнем углу на матраце спиной к стене, уставясь в одну точку.
– Борь! – то ли позвал, то ли подумал, шевельнув спекшимся ртом, и, последив за его взглядом, увидел странно одетого старика: в гражданской кепке и немецком кителе, с «вальтером» на животе, – тот горбился на табуретке посреди комнаты, то ли и впрямь горбун, и что-то говорил, ласково улыбаясь хищным клыкастым ртом. Вот он отхлебнул из плоской фляжки, снова заговорил, и – точно вдруг прошла глухота – голос старика, сиплый, с гнусавинкой, проступил явственней:
– Плен что хрен – редьки не слаще. Но редечка, братка ты мой, как сказать, славная овощ, особенно ежели состряпать умеючи, с гусиной шкваркой…
Борис молчал.
– Со шкварками да под стакан первача, это ж не чета вонючему шнапсу… Ну да ничего, скоро опробуем, скоро, как сказать, дома будем. На Дону. Сам-то откель? С далека?.. Молчишь. Ну молчи, братка, помолчи. Опосля разговоришься. Это здесь умеют – разговорить, мать их так, немчуру. Где родился, и на ком женился, и какому богу молишься… Война есть война…
Горбун хихикнул, снова отхлебнул глоток и спрятал фляжку под китель, аккуратно застегнул пуговицу.
Тайком, почти не разжимая век, Антон оглядел пустую комнату, забранное решеткой окно, голые стены, крашеную дверь со свежепробуравленным глазком. На мгновение вспомнил дорожную тряску, конвоирские окрики и себя в исподней рубахе на возу. Странно, его гимнастерка поверх комбинезона лежала рядом на табурете, он узнал по зашитому рукаву, зато Борис был в продранных комбинезонных брюках под ремень и какой-то: грязной косоворотке… Сапоги их стояли в углу в целости и сохранности… И они сами… Почему они с Борькой здесь, в тишине, в чистоте?
Было в этом что-то пугающее, холодящее душу.
– …так что плен – естественная дела, – похрипывал старик, – как сказать, форма войны… Да и в миру то ж происходит. Муж у жаны в плену, жана у мужа, али человек у обчества. С пеленок человек воюет, такое существо пакостное, для борьбы рожден, и все ему мало – оттого один сверху, другой до самой смерти внизу. Каждый под себя гребет, и никуда не денешься, закон жизни, остально – детские сказки.
– По себе судишь?
– Все по себе. Так что ты, красавец, не помаргивай, не мудрствуй, а шукай выход. Сумеешь – выживешь, не сумел – хана, как говорит мой шеф-барон, а он голова, дай бог каждому. Абвер!
– Продался, значит?
Голос Бориса прозвучал незнакомо, точно из-за стены. И Антон понял, что контужен и у него что-то с ушами: стоило ему шевельнуться, тонкая от виска боль шла книзу, к затылку.
– Не тычь, у меня имя есть. Никитичем звать… – усмехнулся старик. – Ты-то чему служишь? Небось тоже свой интерес блюдешь, заради всеобчего равенства?
– Олух…
– Ну-ну. – Старик словно поперхнулся. – Олух, значиться. А ты не из новых ли бар? – И вдруг смачно плюнул прямо Борьке в лицо, только дрогнула полоска усов над безгубо сжатым ртом. Некоторое время смотрел на него в упор, держа ладонь на кобуре, и так же неожиданно как ни в чем не бывало рассмеялся. – Ладно, квиты землячок. И зазря не оскорбляй… Не продавался я, – помолчав, произнес горбун, – жизня так повернула, я ить под Советами не был, меня барон прихватил с Дону еще парнишкой, в девятнадцатом, на обслугу себе. И увез потом через Крым в Ерманию. Город Гамбург слыхал? Он из дворян, прибалтийских, и там ничего устроился, а я, стало быть, слуга за все: и садовник, и шофер, и подай-принеси.
Старик снова разговорился, разохотился, подогретый шнапсом, но в словах его явственно звучала горесть. То ли играл в простачка, то ли привычно работал, смущая чужие души, а заодно отводил свою с «землячком», да заговаривался.
– Какая жизнь, как животное в зоопарке. Привезли тебя и живешь, как. сказать, за оградой, трех слов не выучился по-ихнему, вот сейчас дорвался, охота по-русски пошпрехать. А ты все ж поешь. – Только сейчас Антон заметил на полу возле Борьки зеленый котелок и такой же рядом, на подоконнике. – Голодовка твоя ни к чему, а кулеш я сам варил, справный. Все ж мы не пехота, солидное учреждение. И придумано ловко – летчиков ловить и других, как сказать, мотористов. Вербанут вас в два счета, и назад вроде своим ходом, и у. немца бывать не бывали…
Простые, казавшиеся страшными в своей наготе рассуждения старика, изредка хлебавшего из фляжки, бледное лицо Бориса и вся обстановка в этой тюрьме, где каждая мелочь, малейшая оплошка грозила потерей чего-то большего, чем сама жизнь, тревожный гул машин, сновавших во дворе за окном, – все это было нереальным, точно в дурном сне. И Антон, тайком наблюдавший за сморщенным, теперь уже каким-то желчным лицом горбуна, все еще никак не мог по-трезвому воспринять его слова, точно перёд ним был человек с иной планеты, который говорил на тарабарском языке, вызывавшем удивление и страх.
– Вот седой я, а мне ведь тока сорок. Сладко? А в станице матка у меня осталась, может, еще жива, да какая родня, – выводил он уже чуть заплетавшимся языком, – все думал, попаду на юг, а мы, стало быть, поперли на запад, в прорыв. Слыхал? Прорыв! Конец Рассее, ах ты боже мой… Может, с Киева-то вниз подадимся, на Дон, к своим, как думаешь?.. Молчишь. А зря, ты покушай все же, еда, она силу дает, даром не гробься, может, чего придумаем.
– Что?
– И товарища своего покорми, как очухается. А он очухается, так врачи сказали, может, еще уколют разок, пуля-то по виску скользом, оглушила малость, долго вас держать не станут. Али туда, али сюда.
Антон вдруг увидел над собой старика – так легко и неслышно оказался тот рядом, весь разморщась в лукавой улыбке, точно поймал его на чем-то запретном!
– Да он уж в себе, герой! Глазки смотрят, и личико хорошее. Мальчиковое личико. Жаль такому пропасть. Так что вместях и поразмыслите, как вам выкрутиться, безвыходных положениев не бывает, во всякой каморе щель найдется, как говорит мой шеф…
Старик, посмеиваясь через плечо, скаля желтые зубы, загрохал кулаком в дверь – в распахе ее мелькнул часовой с автоматом и исчез. Дверь захлопнулась, брякнул засов.
– Борь! – чуть слышно позвал Антон, не уверенный, что его услышат, но Борис тотчас подошел к его койке и тяжело опустился в ногах, лихорадочно разглядывая Антона, словно не ждал, что тот и впрямь очнется.
– Я все слышал, – произнес Антон, почти не различая собственных слов: голос отдавался в ушах гулко, точно в мембране. – Он кто? Провокатор?
Борис пожал плечами, в серых, всегда спокойно-непреклонных глазах его, в сжатой прорези рта под щеточкой усов мелькнула усмешка.
– А если и впрямь поразмыслить? – Антон говорил совсем тихо, соразмеряя голос с глухотой и косясь на дверь. – Обманем немцев?
У Бориса знакомо затвердели скулы, взгляд стал чужим, отрешенным.
– А что, черт возьми! – прошептал Антон, пристыженный и разозленный молчанием Бориса и своей растерянностью. – Главное, вырваться, добраться до своих, а там все расскажем. А здесь? Ты-то выдержишь?
Антон осекся на полуслове, чувствуя, как горят щеки. Борис не ответил, лишь выдохнул одними ноздрями, не разжимая губ, поднялся и пошел в свой угол. Под ним застонала ржавая койка.
* * *
За окном мерцали звезды – низкие, крупные, совсем как в детстве. Только изредка во тьме перекликались часовые, и голоса их отдавались в висках тягучей наплывавшей волнами болью. Он все ждал, что Борис заговорит первым. Но тот молчал. Потому что был прав…
«Он всегда был прав, – желчно подумал Антон, – еще в институте. Всегда и во всем…»
Бывало, на собраниях садился впереди, выступал сразу же за докладчиком жестко, бескомпромиссно, любой пустячный, казалось бы, проступок в его устах обретал пугающую подоплеку. А его, Антона, пытавшегося смягчить оргвыводы, называл добрячком. И еще зеленым школяром. Вот и сейчас его наивная уловка – обмануть немцев – разве не школярство? – Ганс, – раздалось за окном, – ступай ужинать. Там тебе суп оставлен. Прекрасная вещь – мясо с клецками… Ночь текла тоскливо, снова стало подташнивать, тупо саднил затылок. Он лежал в темноте, будто на дне могилы, над. которой изредка звучал говор сменявшихся часовых.
Потом в окно вплыла луна, и на смято лежавшей гимнастерке тускло вспыхнула пуговичка. Он опять подумал, что там, в телеге, он был в одной исподней. И вдруг его словно обожгло, казалось, в призрачном свете он разглядел строчку над карманом, там внутри, за подкладкой, хранилась фотография отца в чекистской форме. Он схватил гимнастерку, пошарил, помял в знакомом месте – пусто, фотокарточки не было.
Он даже взмок, откинувшись на койке. Давила тишина. Тело было липким, и руки, лежавшие на груди, слегка дрожали.
– Борь, – позвал он тихо, словно их могли услышать за окном, – спишь?
– Без задних ног.
Антон помолчал. Говорить об исчезнувшей карточке не имело смысла, только зря травить душу. Он должен был оставить ее на базе вместе с документами. Забыл. Теперь лучше не думать о последствиях. Спросил внезапно осипшим голосом:
– Что делать будем?
– Бегать. Из угла в угол. Или биться головой об стенку… – И, помолчав, чуть тише добавил: – Извини, нервы…
Вот как. Стало быть, Боря тоже не без нервов. И снова эта бесшабашная мысль, рождавшая беспричинное, невесть откуда взявшееся облегчение, что все обойдется. Словно открылся внутри некий тайничок, куда и тяжко лезть, а придется, иного выхода нет… Согласишься, а тебя сочтут за предателя. Да еще это фото… Ах, все-таки было в этом до соблазна легком решении нечто нечистое, о чем не хотелось думать.
Былое… Институтские денечки, радости, печали, даже Клавкина «измена» их детской дружбе, – все это было далеко-далеко, в ином мире, куда уже нет возврата.
Тонко зазвенело в ушах, погасли звезды, и он канул в забытье, как в трясину, над которой, всплывало сморщенное лицо с клыкастым ртом. От него исходила тихая ласка, в костлявой руке зажат нож. И он все тянулся к Антону с ножом и улыбкой. Антон убегал, где-то впереди, как в тумане, знакомо сияли лучистые карие глаза, зовуще, смятенно, отчаянно. Он рвался к ним на ватных ногах, задыхаясь, чувствуя за собой чужое хрипение, ясно до жути сознавал, что горбун в любое мгновение может его настигнуть и лишь нарочно не спешит, давая выбиться из сил… Очнувшись, не сразу понял, спит он или все еще продолжается бред.
В слабо освещенном квадрате распахнутой двери маячила фигура горбуна.
– Верхогляд! – И снова тихим, вкрадчивым фальцетом: – Вью-юнош, ты, ты, у окошечка. Па-адъем!
Он все еще смотрел, не отзываясь, не. в силах шевельнуться. Горбун подошел к койке, легонько пнул в плечо.
– Тебе говорят! На выход…
* * *
С той минуты, когда старик поднял его и передал здоровенному мордастому немцу, время словно перестало существовать, и он, шагая по сумеречному коридору с тусклой лампой под потолком, ощущал себя в какой-то душной прозрачной и хрупкой оболочке.
Комната, куда его ввели, была узкой, с одним темным окном в конце, с которым почти сливалась тощая фигура за столом – там лежал чистый лист. И на нем квадратик фотографии лицом вниз с надписью на обороте: «Будущему ученому-агроному, удовлетворительно переползающему на второй курс».
– Садитесь.
Невесомость внезапно исчезла, и точно обруч сковал все его существо. Показалось, что тот, мордастый, так и остался стоять за его спиной, но повернуть голову не решился, лишь ощутил легкую немоту в затылке. Наконец он разглядел человека, сидящего спиной к окну, сперва его руки, жилистые, в рыжих волосках, недвижно замершие на столе, потом лицо. Лицо усталого беркута с тяжело прикрытыми веками. Витые погоны на плечах, какое-то мудреное шитье на рукаве. Должно быть, это и был тот самый шеф, майор с баронским титулом. Костлявые пальцы неслышно стукнули по столу, голос негромко, как-то шелестяще повторил с чуть заметным акцентом:
– Садитесь, прошу вас.
– Спасибо, – машинально вымолвил Антон, опускаясь на стул и все еще ощущая спиной того, мордастого. Майор сделал чуть заметный жест, и ощущение исчезло, хотя шагов Антон не расслышал, ни звука, лишь легкое дуновение в ушах.
– Простите, что вызвал вас среди ночи. Бывает… Такова уж наша служба… – И кажется, даже подмигнул по-свойски. – Для начала безобидный вопрос. Что вас объединяет с этим… вашим напарником? Вы просто экипаж или еще и дружба?
– Дружба…
Он лишь на миг замялся, желая быть правдивым, – правда тут была ни к чему, – но майор уловил заминку, улыбка тронула его сухой, тонкого рисунка рот.
– Дружба, – повторил он уже тверже, – а что?
Должно быть, вопрос был наивен, рот майора растянулся чуть шире.
– Летчики?
– Стрелки-радисты.
– Вы разные люди, это заметно невооруженным глазом. – И снова лицо его стало как маска, усталым, безразличным.
– Будем говорить как Интеллигентные, мыслящие люди. Ваши теоретики очень тонко определили суть борьбы и поведения человека: в каждом отдельном случае ищите классовый интерес. Не так ли? Какой интерес у вас? Что дала вам ваша власть? Иллюзию массового равенства, убивающего в человеке дух индивидуальности?
Антон невольно расслабился, стараясь держаться и боясь, что не выдержит напряжения.
– Из чего следует, что вы, судя по всему, интеллигент, должны приспособиться, отыскать путь к выживанию. Унизительно и старо как мир. Как вы думаете?
– Я пока слушаю.
– Уже неплохо.
Казалось, он был далек от желания агитировать пленника, а просто делился мыслями. И эта доверительность сбивала с толку.
– Старо как мир. И с этим ничего не поделаешь, мальчик мой.
Антон понятливо усмехнулся, это было словно бы принятием чужого участия, тотчас насторожившим его. И тогда снова появилась немота в затылке и острая боль в виске.
– Человечество делает оружие против себя, – продолжал шелестеть майор. – Животный мир дерется зубами, мы – оружием. Сколько живем, столько воюем, и, к сожалению, не вольны изменить что-либо – стихийный закон. Война ускоряет технический прогресс, а тот, в свою очередь, уничтожает природу. Заколдованный круг? Нет. Врозь мы растащим по кускам планету и уничтожим мир. Он должен, быть в одних руках. На этот раз в наших… Между прочим, Киев в клещах, Смоленск взят, мы на пороге Москвы. Вы способны размышлять трезво и взвешивать?
Вдруг с какой-то острой, опустошающей тоской подумалось, что даже в самые первые, страшные в своей неожиданности дни войны он ни на минуту не сомневался в победе. Легко не сомневаться издали. Всем вместе. Сейчас война всей своей тяжестью легла, на него одного, а он точно мышь в мягких лапах майора… Кровавая игра – и конец всем надеждам, мышь, которую вытащили на сцену и навязывают роль… Играет ее и майор, тоже мышь в чьих-то лапах. Играет с видимым скепсисом и тем, не менее со знанием, дела. Сознательная шестеренка в фашистской машине, которой непременно надо подавить и уничтожить подобных себе; Как будто нет иных способов жить. И это стихийный закон? И такое возможно? Все его существо восставало против всей этой жуткой комедии, устроенной словно в насмешку над человеческим разумом. Нацепили кресты, нашивки, придумали коды, операции, победы, поражения… Он всегда верил взрослым, олицетворявшимся в его отце. Отцу перед самой войной пришлось нелегко, но в самые трудные минуты он оставался самим собой. Антон не представлял отца на сцене… А этот кот и мышь в одном лице. Господи, мелькнуло в усталом сознании, чего он тянет, скорей бы конец…
– В одних руках, вы поняли? Потому что два лагеря чревато самоубийством для всех.
– А один – диктатурой?.. – Вопрос прозвучал вяло, сдавленно.
– Возможно, но иного выхода нет.
– А как же с «духом индивидуальности»? Или ваша диктатура дает гарантии?
Наверно, это было дерзко, майор на мгновение поднял глаза. Голос его стал чуть жестче:
– Я могу гарантировать вам одно – жизнь, если у вас хватит, на что я надеюсь, здравого смысла плюнуть на предрассудки, которыми вас напичкали. Они, как и все на свете, преходящи. А жизнь одна. Диктатура всегда несколько подклассова. Вы же не настолько наивны, чтобы думать, будто счастье таких маленьких людей, как мы с вами, является предметом высших интересов. Увы! Их предмет – господство в мире. Диктаторы требуют жертв, они не останавливаются на полпути, такова логика истории, как вам, должно быть, известно.
Ему было известно другое: если бы все было так, как говорит этот хитрый недоучка без предрассудков, сверхчеловек и раб одновременно, миром давно бы правили тамерланы и гитлеры. Но его диктатор только тщится, только тщится, не более того. Мразь…
Должно быть, он что-то прочел, майор, в лице Антона. Неуловимым жестом поставил фотографию на ребро. Снимок не был неожиданностью. Странно было видеть его в чужих руках. Острый взгляд отца, чуть прищуренный в улыбке.
– К сожалению, наше время истекло. – Голос прозвучал неожиданно резко, ударил по нервам. – Буду откровенен: у вас нет выбора. Или вас придется сбросить со счетов, приказ есть приказ, и тут я ничем помочь не смогу, или вы распишетесь в лояльности, и вас отпустят. После войны нам понадобятся умные люди. Ну, возможно, еще до этого потребуется какая-то информация, за ней придут… Так, по мелочам. Хотя сомневаюсь, война практически завершена… Само собой, обман с вашей стороны невозможен. Сам факт пребывания здесь, вы понимаете? И возможность в любой момент вас скомпрометировать заодно с вашим папенькой… Нам поверят, вам нет. Парадокс, не так ли? Тем не менее… тут у нас гарантия. Так как?
Стало жарко, весь в испарине, мотнул головой, но вместо ответа в горле странно булькнуло – тихий нервный смех, С которым невозможно было совладать.
– Ну? Что вас томит? Убеждения? Смешно. Это для простаков. Убеждения придумывают и о них забывают. Остается, повторяю, одна ценность – жизнь, которой вы вправе распорядиться.
– Если у вас гарантия, – выдавил Антон, – зачем же расписка?
– Можно и без. Поверим на слово. Теперь пот лил с него ручьем, затекая за ворот. Слово? Только и всего. Потом из него выжмут номер части, кто, с какой базы их потрошит… Фамилии командиров. Пустячки…
Было такое ощущение, будто его силком толкают в яму с дерьмом, ступит – и это останется с ним навсегда. Вонючий раб, выполняющий чужую волю. Слепо, не размышляя. Иначе смерть. Или одно только слово, даже не слово, междометие – «да».
Отец на фото словно бы ожил во внезапно наплывшем на, глаза туманные. Таким открытым, с затаенной горьковатой остротой в улыбчивом взгляде Антон увидел его в тот майский день, когда он впервые вернулся из своего райотдела в штатском – пришлось уйти из органов на хозяйственную работу – и, похлопав растерявшуюся жену по плечу, сказал: – Ничего, мать, похозяйствуем. В жизни пригодится. Неужто в мае? Всего лишь? Целая вечность прошла с тех пор. А еще через два месяца, в начале войны, он пришел из военкомата со шпалой в петлице. И опять все так же весело. – Ничего, мать, теперь повоюем…
Сколько ему довелось пережить, белому как лунь с молодых лет. Гражданская война, партизанщина, три ранения и контузия, пытки в деникинской контрразведке – похоронен живьем. Это было под силу сердцу, бьющемуся ради блага всех, ради того, что этот майорчик называл иллюзией… И что бы там ни было, с какой бы тупостью и двуличием он ни сталкивался, всегда оставался верен себе. Иначе не было смысла жить. У него был один бог – справедливость, одна совесть – партийный билет.
– Третьего не дано. Вы крупинка, попавшая в страшные жернова, юноша. В случае отказа вы предадите лишь самого себя.
– Боюсь, что так.
Скажи он «да» – и уже никогда бы себе не простил. Это осталось бы с ним навсегда – презрение к самому себе.
Словно что-то поняв, майор шевельнул рукой, фотография исчезла. Он пытливо, не мигая смотрел на Антона.
– Ты убьешь не только себя. Кое-что останется в наследство твоему отцу. Уж об этом мы позаботимся.
Он понял, что игра кончена, и наконец вздохнул облегченно.
– Нет, не убью.
Глаза майора сузились, рот осклабился.
– Уверены?
– Абсолютно.
– Признаться, даже завидую. – Голос майора внезапно осип, скулы напряглись. Он что-то каркнул по-немецки. Антон не успел разобрать, лишь увидел пузырьки пены в углах тонкого, сведенного кривизной рта, какую-то дикую белизну в глазах. Потом ощутил за спиной короткий вдох, как перед рубкой дров, и тотчас в голове словно взорвалась граната. И все исчезло. Потом он очнулся все на том же стуле, вода стекала с лица на грудь. Вода пополам с кровью и слезами. Увидел пристальный, с усмешечкой взгляд майора, вызвавший во всем его онемевшем теле, в гудящей голове приступ ненависти – глухой, заливающей все его существо, – улыбнулся в предчувствии скорого конца.
И выхрипнул, обрывая последнюю нить:
– Свинья… фашистская…
И снова все вокруг исчезло. И опять он очнулся от резкой, смертельной боли в вывороченных плечах, дикий вопль потряс его, и он плюнул в сухое, перекошенное лицо с любопытным суженным зрачком. Потом еще не раз в бесконечности времени всплывал из темной духоты, и, уже не чувствуя боли, видел над собой расплывающуюся в тусклом свете морду с пиявкой на виске, чьи-то кованые каблуки над собой и опять хрипел, выплевывая кровь: «Свинья, свинья, свинья, погружаясь в жаркую умиротворяющую пропасть без дна.
* * *
Он очнулся и еще долго лежал, не размыкая век. Тело налито свинцом, не шевельнуться. Каждый мускул словно постанывал, как будто из него долго и усердно делали отбивную. Наверное, так и было. Он не помнил. Теперь боль возвращалась, подплывая к сердцу. Смутно обрела четкость решетка в сером рассветном окне. Скосив глаза, он увидел Бориса, сидевшего у него в ногах, как тогда, в первый вечер. Мерклый свет странно менял его лицо, чуть припухшее, в радужных синяках, оно казалось почти угрожающим, и это не вязалось с лихорадочным, каким-то потерянным блеском глаз.
– Отказался? – тихо спросил Борис.
– Нет, согласился.
– Не злись.
– Сам же видишь.
Борис поежился.
– Бить-то зачем?.. Калечить? Какой смысл?
– Затем же, что и тебя. – Он говорил с трудом, горло саднило. – Когда брали?
– Вчера ночью. После тебя.
Значит, он пролежал без сознания сутки. Или, может быть, приходил в себя, бредил.
– Какой смысл? – рассеянно повторил Борис. – Человек не, выдержит боли, согласится. А потом обманет. Может, стоило рискнуть, теперь-то крышка?
Вопрос, вчера еще казавшийся немыслимым в устах Бориса, прозвучал чуть виновато, с какой-то Напряженной покорностью, как бы ожидая подтверждения. Вот помяло его, подумал Антон, или пытает, все еще не верит мне?
– Я же предлагал.
– А сам?! – с какой-то непонятной злостью выпалил Борис. – Что же сам не словчил?
– Не знаю, не смог. Долго объяснять.
Ему уже было безразлично, поверил Борис или нет. Должно быть, пытка не последняя, и лучше бы уж уйти из этого проклятого мира, не приходя в сознание.
– Зачем нас держат? Еще возьмутся?
– Хуже, Горбун сказал – отправят в лагерь смерти.
– Может, и лучше. – Антон закашлялся, утирая со рта засохшую кровь. Каждое слово доставляло боль, толчками отдаваясь в затылке. – Остается шанс удрать… Главное, совесть чиста, всегда докажем…
Глаза Бориса потухли. Он смотрел на Антона со снисходительностью смертельно больного, которому предлагают порошок, суля поправку. Сказал тихо, покачав головой:
– Это конец.
Поднялся и как подстреленный зашагал взад-вперед, заложив руки за спину, странной семенящей походкой. Встало солнце, на розовой стене отпечатались расставленные ноги часового, и эти недвижные ноги, и скачущая по ним Борькина тень действовали на нервы.
– Не мельтеши, – сказал Антон. Борис тотчас послушно плюхнулся на свой матрац.
И эта его покорность тоже была непривычной. Борис всегда верховодил, не затрачивая при этом особых усилий. Это получалось само собой с молчаливого согласия Антона, деликатно уступавшего первенство не без внутренней досады на то, что Борис воспринимает его уступки как нечто должное, вполне естественное.








